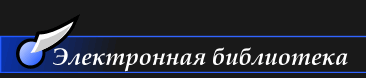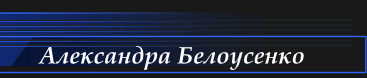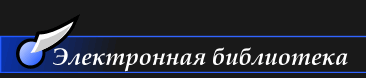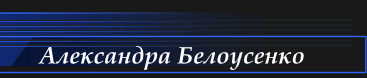|
|

Софья Васильевна КОВАЛЕВСКАЯ
(1850-1891)
Правильная биография всегда подразумевает бурю. Явную: чувств, страстей, страданий, похождений и т. п. — или латентную: но тоже бурю и почти тех же чувств и страданий. В биографии (даже не очень правильной) каждой второй знаменитой женщины явное и скрытое чаще всего сливаются в одну симфонию. Жанровое имя которой — мелодрама.
«Моя слава лишила меня обыкновенного женского счастья... Почему меня никто не может полюбить? Я могла бы больше дать любимому человеку, чем многие женщины, почему же любят самых незначительных и только меня никто не любит?» — ежели исключить из этого стона души слово слава, то, сдается, не менее, чем три четверти женского населения Земли XXI века расписались бы под дневниковым признанием Софьи Ковалевской.
Парадокс, тонко подмеченный гениальным математиком XIX века и до сих пор толком не разгаданный психологами: мужчины в большинстве своем любят «незначительных».
То ли величие таких, как Софья Васильевна, подавляет, то ли сильному полу хочется стать более значительным за счет «серой» половинки... Что, впрочем, одно и то же. И вполне достойно пера автора «Кроткой».
Увековеченные сестры
Теперь, во второй половине мая 2003 г., почти все народонаселение бескрайней нашей Родины узнает наконец, кто такая Аглая Епанчина.
В момент написания этих строк премьерный показ сериала «Идiотъ» еще не завершился, так что трудно подводить итоги и рассуждать о впечатлениях. Даже субъективных. Ясно одно: Федор Михайлович помимо всего прочего предвидел телевидение. Только ТВ под силу в меру добросовестно пересказать сюжет тяжелого романа в духе латинского сериала со страстями роковыми. Даже М.М.Бахтин не поможет с ответом на вопрос о бесчисленных персонажах-двойниках в «Идиоте» и о бесконечных смысловых виражах-миражах сюжета.
Еще с первого, отроческого прочтения терзало: зачем Достоевскому нужны целых три сестры Епанчины, генеральские дочери, причем все на одну букву — Александра, Аделаида, Аглая?
«Я их в лицо знаю», — сразу говорит князь Мышкин о Епанчиных.
Достоевский тоже знал петербургских сестер, дочерей генерала Корвин-Круковского, — в лицо. Их, правда, было две — старшей, Анне, писатель сделал предложение. Была в него влюблена и младшая — пятнадцатилетняя Соня, будущая Софья Ковалевская.
Анюта написала повесть и отправила тайком от родителей в журнал «Эпоха», его издателям и редакторам — братьям Достоевским. Федор Михайлович неожиданно откликнулся, повесть похвалил, принял к публикации. Переписку с литератором случайно обнаружили домашние, но в восторг не пришли.
Писатель! 44 года! Каторжанин. Да еще больной. Но Достоевского всё же впустили в дом Корвин-Круковских, хотя инструкцией военного отца (вот и генерал Епанчин) было: наедине с литератором девушку не оставлять.
Автор «Униженных и оскорбленных» не был избалован женским вниманием и потому радостно воспринимал любые его признаки. Обнадеживался: а вдруг? Анна Васильевна была красивой — красивее своей младшей смугленькой сестры, хотя Федор Михайлович и говаривал, что Соня — лучше. Польщенная младшая, не замечая, за кем ухаживает писатель, влюбленная в него совершенно по-детски (ее можно понять: Мертвый дом! К смерти приговаривали! Каторга! Опять же болезнь загадочная), специально для Федора Михайловича выучила «Патетическую»...
Достоевский был тронут, но предложение сделал почему-то не ей, а сестре. Соня случайно подслушала главный разговор и убежала в истерике: «Ну и пусть ее любит, пусть на ней женится, мне какое дело!.. Всем хорошо, всем хорошо, только мне одной...» Ковалевская трогательно изобразила свои подростковые страдания в «Воспоминаниях детства». Сестра Анюта отказала писателю, чему младшая, понятно, обрадовалась.
У историков литературы нет согласия, до какой степени история с Корвин-Круковскими повлияла на создание «Идиота» и как соотносится образ Аглаи с Анной Васильевной. Достоевский покинул дом, где отвергли его любовь, а еще через полгода произошли знаменитые события 26 дней, когда он познакомится с А.Г.Сниткиной и напишет об этом Корвин-Круковским. Ковалевская позже констатирует: именно такая жена — спокойная, терпеливая, способная посвятить мужу жизнь, — и была нужна Федору Михайловичу.
Дурной сон от Веры Павловны
Сестры Круковские были не сниткины — нигилистки. Чернышевского начитались и решили освободиться от родителей испытанным и даже рекомендованным автором «Что делать?» способом: фиктивный брак.
Сказано — сделано: вместе с подругой идут к знакомому молодому профессору и предлагают спасти их юные жизни. Профессор не удивился (это было принято среди молодежи: вели себя более чем непосредственно — так что всегда хочется урезонить современных ревнителей нравов такими вот историческими экскурсами), но отказался: женитьба не входила в его научные планы.
С одним профессором не вышло — Круковские пошли к другому перспективному ученому. Умница, юрист, зоолог, в качестве корреспондента «Санкт-Петербургских ведомостей» участвовал в отряде Гарибальди, путешественник, увлекается модной тогда палеонтологией — словом, за такого и фиктивно выйти не стыдно.
Владимир Онуфриевич Ковалевский согласился, но, к удивлению старшей сестры, сказал, что женится не на ней, а «спасет» младшую — 18-летнюю Соню. Конфуз: старшая, Анюта, не замужем. Но выбрал — так выбрал. Родители были поставлены перед фактом.
С этого момента и начинается история женщины, о которой помним по портретам в кабинете математики: первая в России, первая в Европе, первая в мире.
Когда Софья Васильевна училась в университете в Гейдельберге, жители этого маленького города рассматривали ее на улицах и даже детям показывали: «Единственная умная женщина». Умная — значит ученая?
А с этим как быть: «Она не могла сама купить себе платье, не могла смотреть за своими вещами, не могла найти дороги в городе ... была до такой степени непрактична, что все мелкие заботы жизни казались ей невыносимы».
«Ковалевская была как всегда дурно одета», — дружелюбно пишет подруга-биограф. Муж ходил за ней как нянька.
Вместе с одаренным профессором поехали в Европу. В Берлине Ковалевская ездила заниматься перед поступлением в университет к своему научному руководителю и страшно стеснялась мужа. Вечером Владимир Онуфриевич стучался в дверь профессора математики и говорил: «Экипаж для г-жи Ковалевской подан». Надо отдать должное фиктивному мужу: он не роптал. Занимался наукой, и, по словам жены, ему хватало книги и стакана чая для полного счастья. (Так ли оно было, или это тоже «женская история»?) Но женщине-то этого точно мало, и вот тут обнаруживается весь кошмар фиктивного счастья: Ковалевская «начала ревновать мужа к его занятиям».
А занятия Ковалевский менял самым головокружительным образом. Вдруг разом бросил науку и занялся предпринимательством. Софья Васильевна, тогда уже прославившаяся на всю Европу, последовала за мужем на родину. А в Петербурге окунулась в светскую жизнь: писала театральные рецензии, участвовала в книгоиздательских проектах мужа.
Ковалевская считала себя фаталисткой, верила снам и предчувствиям. Отговаривала мужа лишь от совершенно чуждых ему дел — страшные сны! — особенно от строительного бизнеса. Это и привело к разрыву.
Очень скоро Владимир Онуфриевич разорился и покончил с собой.
Дифференциал как формула сюжета
Вместе с дочерью от «фиктивного брака» Ковалевская живет в Стокгольме, преподает математику. Сил мало.
«Говори, что знаешь, делай, что должен, и будь, что будет» — девиз эмансипированной провидицы. Дерзает на поприще изящной словесности. В соавторстве со шведской подругой-писательницей А.Ш.Леффлер-Каянелло создает драму с характерным названием «Борьба за счастье».
Софья Васильевна уже пробовала себя в жанре воспоминаний о детстве (многих славный путь), писала романы о нигилистах, и вот — драма.
Сюжет и композиция предрекают конструкцию «Назову тебя Гантенбайн» и других произведений грядущего столетия, где во главе угла — принцип: КАК БЫЛО и КАК МОГЛО БЫТЬ.
Математически подкованная, Ковалевская и к словесности подошла по-научному: в основе фабулы работа Пуанкаре о дифференциальных уравнениях... (Ну кому такое придет в голову? Только русской образованной женщине.)
События пьесы развиваются параллельно вплоть до поворотного момента, когда героям надо выбирать, куда ж им плыть. «Здесь дело делается неопределенным и нельзя заранее предвидеть, по которому из разветвлений будет дальше протекать явление». Пуанкаре — голова.
Профессор Ковалевский-2.
Окончательный выбор
Поворот мог случиться и в жизни самой новоявленной драматургессы. «Натура страстная, живая, она всегда жаждала интимной привязанности». В ее судьбе появился еще один русский профессор. По иронии судьбы — тоже Ковалевский, только Максим Максимыч (тут уж не Достоевского, а Лермонтова впору на подмогу).
Эмигрант, он водил знакомство аж с Марксом, на которого даже внешне чем-то походил. «Старый казак, победивший турок, но побежденный жиром», — Ковалевская.
«Казак» поставил условие: Соне навсегда оставить науку.
Вот сюжет! Требование — не просто прихоть, а реальная необходимость. Наука забирала у Софьи Васильевны не только личную жизнь, но и здоровье: работала она самоотверженно. Незадолго до того умерла сестра Анюта.
Кульминация: в Париже Ковалевской вручают премию Академии.
А она тоскует: не выходит свидание с возлюбленным.
Выбрала науку.
В ход вступил жестокий математический закон жизни: КАК ОНО БЫЛО. В пьесе «Борьба за счастье» это самое БЫЛО — печальное.
В 1891 г. Ковалевская возвращалась из Берлина в Стокгольм. Решила объехать Копенгаген: в Дании была оспа. От оспы спаслась, но из-за традиционной путаницы с транспортом ехала дольше, чем нужно, — в открытом экипаже. Сама тащила вещи: не смогла договориться с грузчиками — никогда не умела.
Заболела и вскоре умерла. Вдали от родины. Одна — ни одного близкого человека рядом. Вместо оспы — воспаление легких.
Фаталистка
В 1850-м в семье Корвин-Круковских ждали второго ребенка. Мальчика. Даже голубые ленты заготовили.
Родилась вторая дочь — смуглая, в прабабушку-цыганку. Кстати, Ковалевская говорила не раз про свою цыганскую натуру. «В том-то и заключалось ее несчастье, что она никак не могла освоиться в Стокгольме, как и вообще нигде на белом свете, но нуждалась всегда в новых впечатлениях для своей умственной деятельности, постоянно требовала от жизни драматических событий...»
А уж их-то было с лихвой.
К жизни не всегда приложимы формулы. Чувства значат больше.
За несколько лет до смерти пророчица Ковалевская сказала, что 1891 год будет для нее годом просветления после нескольких мрачных.
Не ошиблась и на сей раз.
Владимир Цветов
Софья Ковалевская. Сборник прозы "Воспоминания детства"; "Нигилистка" — прислал Давид Титиевский
Аннотация издательства:
С. В. Ковалевская (1850-1891), выдающийся математик, первая женщина, ставшая членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, была и одаренным писателем, публицистом, активным участником общественного движения 60-х годов прошлого века.
В книгу вошли беллетристические произведения С. В. Ковалевской: повесть «Нигилистка» — о судьбах революционеров-народников и автобиографические «Воспоминания детства».
Содержание:
ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА
I. Первые воспоминания
II. <Воровка>
III. <Мисс Смит>
IV. Жизнь в деревне
V. Мой дядя Петр Васильевич
VI. Дядя Федор Федорович Шуберт
VII. Моя сестра
VIII. <Нигилизм Анюты>
IX. Отъезд гувернантки. Первые литературные опыты Анюты
X. Знакомство с Ф. М. Достоевским
Главы, не вошедшие в русское издание «Воспоминаний детства» 1890 г.
<Палибино>
<Кузен Мишель>
<О Достоевском>
НИГИЛИСТКА. Повесть.
Фрагменты из книги:
"Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто! Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту.
Но, боже мой, что я увидела!
Они сидели рядом на маленьком диване. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром; тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица; но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила.
— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...
У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову.
Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул.
— Это ты, Соня? — окликнул меня встревоженный голос сестры. Но я не отвечала и не останавливалась, пока не добежала до нашей спальни, на другом краю квартиры, в конце длинного коридора. Добежав, я тотчас же принялась раздеваться торопливо, не зажигая свечи, срывая с себя платье, и полуодетая бросилась в постель и зарылась с головой под одеяло. У меня в эту минуту был один страх: неравно сестра придет за мной и позовет назад в гостиную. Я не могла их теперь видеть.
Еще не испытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу, главное — стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него.
Хотя мне и было всего 13 лет, я уже довольно много читала и слышала о любви, но мне как-то казалось, что влюбляются в книжках, а не в действительной жизни. Относительно Достоевского мне представлялось, что всегда, всю жизнь будет так, как шло эти месяцы."
* * *
"По всей вероятности, нет автора, которому не пришлось бы хоть раз в жизни пережить подобный же психологический процесс. Но при нервности и мнительности Достоевского процесс этот достиг в нем ужасного развития. «Осмеет Белинский моих „Бедных людей"»,— почти со слезами говорил он себе и чувствовал при этом такое озлобление. И эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нем до таких размеров, что он просто закутил с горя.
«Всю ночь,— рассказывал Достоевский своим приятелям,— провел я в разгуле, грязном, дешевом, без удовольствия, так просто, с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей никогда выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе — ну хоть сейчас иди и топись. Сижу я так, вдруг слышу звонок. Кто бы это мог быть в такую пору?
Иду отворять. Батюшки... в комнату вбегают Некрасов и Григорович и, не говоря ни слова, принимаются меня обнимать, а я и знаком-то по-настоящему не был, знал их только в лицо.
Оказывается, они накануне вечером принялись читать мою рукопись, так, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но за первыми десятью последовало еще десять и потом еще и еще, пока незаметным образом в один присест не было прочтено все. Когда дело дошло до места, где за гробом Покровского бежит его старик-отец, Некрасов стукнул ладонью по рукописи: «ах, чтоб его!» Оба решили тотчас бежать ко мне: «Что же такое, что спит, мы разбудим его; это выше сна»."
* * *
"Для политических преступников, преступников высшего разряда, для самых опасных существует Алексеевский равелин в Петропавловке. С кем правительство хочет вконец порешить, того оно посылает отбывать каторгу не в Сибирь, а в эту дьявольскую яму. Лежит она в самом Петербурге, на виду, так сказать, у высшего начальства. О попущениях и послаблениях и речи там быть не может. Одиночная система во всей ее строгости. Кто раз попал туда — все равно, что заживо похоронен. Ни с другими заключенными видеться, ни писем от друзей получать, ни самому им вестей давать о себе не позволено. Исключен человек из списка живых — и все тут. Наше правительство, конечно, не очень церемонится, ну, а все же больно уж часто смертные приговоры подписывать и ему зазорно; что за границей скажут? Ну, вот и придумали этот Алексеевский равелин. Звучит оно лучше виселицы, а в результате то же. Сколько политических уж туда засадили, а и до сих пор не слыхать, чтоб хоть один оттуда вышел. Обыкновенно проходит несколько месяцев, много год — два, и извещают родных, что такой-то или такая-то благополучно преставились, сошли с ума или порешили с собой. Больше трех лет заключения в Алексеевской равелине, говорят, еще никто не вынес. И в эту-то яму проклятую предстояло попасть Павленкову.
Вера остановилась, вся бледная от волнения. Голос ее дрожал, и на длинных ресницах нависли слезы.
— Но как же ты-то могла спасти его? — спросила я с нетерпением.
— Погоди, узнаешь сейчас,— продолжала Вера, успокоившись несколько.— Как услышала я, какая судьба предстоит Павленкову, так мне его жаль стало, что и сказать нельзя. Днем ли, ночью из мыслей он у меня не выходит. Пошла я к его адвокату, спрашиваю: «Неужто уж так ничего и придумать нельзя?» — «Ничего,— говорит адвокат.— Будь он еще женат — тогда другое дело, была бы еще надежда! Ведь у нас по закону жена, если захочет, имеет право следовать за мужем в каторгу. Ну вот, будь у Павленкова жена, она могла бы подать прошение государю, заявляя о своем желании следовать за ним в Сибирь, и государь, может быть, смилостивился бы, не захотел бы лишить ее законного права, но, на беду, Павленков холост...» Ты понимаешь,— продолжала Вера, опять впадая в деловой спокойный тон,— как услышала я эти слова, тотчас же мне стало ясно, что теперь надо делать. Надо просить государя о позволении повенчаться с Павленковым.
— Но, Вера! — воскликнула я.— Неужели ты не подумала о том, что для тебя самой будет значить такой шаг! Ты ведь не знаешь, что за человек Павленков, и стоит ли он такой жертвы.
Вера взглянула на меня строгим, изумленным взглядом.
— И ты это серьезно говоришь? — спросила она.— Неужели ты сама не понимаешь, что если бы я не сделала всего, решительно всего, что было в моей власти, я бы тоже стала участницей его гибели. Скажи мне по совести, если бы ты не была еще замужем, неужели ты не сделала бы того же?
— Нет, Вера, право, не думаю, чтобы решилась,— ответила я чистосердечно.
Вера поглядела на меня пристально.
— Жаль мне тебя! — проговорила она в ответ и продолжала: — Во всяком случае, мне было ясно, что мой долг — выйти за него замуж.
Страничка создана 7 октября 2006.
|