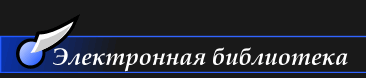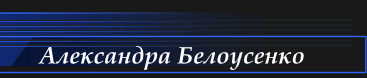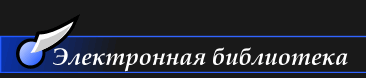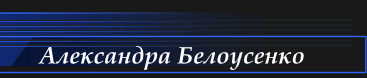|
|

Степан Павлович ЗЛОБИН
(1903-1965)
ЗЛОБИН Степан Павлович [11(24).1903, Москва — 14.9.1965, там же] — прозаик, поэт.
Род. в семье студентов, отдавших себя рев. движению. Мать — дочь известного общественного деятеля, журналиста, издателя сибирской газ. «Восточное обозрение» Н. М. Ядринцева. Курсистка Высших женских курсов, входившая в боевую организацию эсеров, она в 1906 была приговорена по делу о покушении на генерала Рейнбота к каторге, однако матери двоих детей каторгу заменили вечным поселением в Туруханском крае. Отец — студент-медик, правый эсер, после событий 1905 тоже был выслан в Сибирь; в 1922 на процессе правых эсеров приговорен к смерти (под давлением мировой общественности итоги процесса были пересмотрены).
С детства узнал 3., что такое обыск, полиция, браунинг. Февраль 1917 застал юношу в Рязани, где он рос на попечении бабушки. Ученик 4-го класса реального училища, уже знакомый с нелегальной лит-рой, он стал красногвардейцем. Затем его принимают в отряд матросов Балтики. Под псевд. Аргус 3. печатает стихи в губернской газете, учится живописи в мастерской Ф. Maлявина, поступает в театральную студию. После разгрома эсеров большевиками подвергся аресту, в Бутырской тюрьме заболел тифом. Отец взял сына на поруки.
В Москве 3. нанялся артельщиком на продуктовый склад, занимался репетиторством. Поступил в промышленно-экономический техникум. Заболел туберкулезом. С осени 1921 он — студент Высшего литературно-худож. ин-та, созданного В. Я. Брюсовым. Слушал лекции М. Гершензона, А. Луначарского, Г. Шенгели, посещал поэтич. семинар Брюсова, встречался с С. Есениным.
В 1924 3. снова в Бутырках, где проводит более 2 месяцев в одиночке. Затем 3-летняя ссылка в Башкирию. Здесь в 1924 он начал печататься. В 1927 в хрестоматии «Башкирский край» появились отрывки из пов. «Дороги» — романтического произв. о предоктябрьской эпохе и Гражданской войне на Урале. В Уфе 3. преподавал в школах 1-й ступени, обратив на себя внимание лекцией на смерть Брюсова; в качестве статистика сотрудничал в местном Госплане. Новая вспышка туберкулеза лишает его возможности преподавать в школе. Врачи рекомендуют уехать в горно-лесные районы.
В составе экономической экспедиции 3. изучает историю и фольклор Урала, начинает работу над пов. о сподвижнике Е. Пугачева, нар. герое Башкирии — «Салават Юлаев» (1929). Произв. получило широкое признание и даже было включено в школьные программы 30-60-х гг.; на него обратил внимание кинореж. Я. А. Протазанов. Подготовка сценария по этому произв. (3. был также автором одноим. рассказа) и съемки к/ф, вышедшего в 1941, побудили 3. вновь приехать в Башкирию и, углубившись в тему, переработать повесть в роман, в котором возникают новые сюжетные линии и герои, напр. прослеживается дружба между батыром Салаватом и др. соратником Пугачева — Хлопушей. Иную окраску обретают отношения между казаками и крестьянами, рус. участниками восстания и влившимися в него народностями Урала, Поволжья. К книге о Салавате Юлаеве писатель возвращался на протяжении почти 4 десятилетий (окончательная, 4-я ред.— 1969), изучая вновь открытые документы о пугачевском восстании. В 1931-32 3. выпускает кн. очерков о лесах: «Здесь дан старт» и «Пробужденные дебри».
За 2 недели до нач. Великой Отеч. войны 3. закончил курсы для писателей, организованные при Военно-полит. академии им. В. И. Ленина. Вступил в «писательскую роту» моск. Краснопресненской дивизии. Вскоре из нар. ополчения его переводят в 24-ю армию для работы в дивизионных газетах. В окт. 1941 попал в окружение под Вязьмой. Оглохший от контузии, раненный осколком в лицо, 3. попадает в плен. В Минском лазарете становится санинструктором в бараке для сыпнотифозных. К весне готовит побег, сорвавшийся из-за предательства. Доставленный в кандалах на Эльбу, в лагерь Цейтхейн, 3. содержится в нем с кон. 1942 по окт. 1944. Возглавляет подполье. При угрозе разоблачения этапируется вместе с тяжелобольными в польский лагерь недалеко от Лодзи. В янв. 1945 освобождается войсками Сов. Армии. Сотрудничает в дивизионной газете, участвует во взятии Берлина.
Две записные книжки из запрятанных в тайниках (одна в Минском лагере, другая в Цейтхейне), а также рукописная листовка «Пленная правда» чудом вернулись к автору после войны. Они, чрезвычайно важные как биогр. и историко-лит. документы, послужили подспорьем в работе над ром. об Отеч. войне и плене — «Пропавшие без вести». Исходный вариант романа — пов. «Восставшие мертвецы» была продиктована долгом перед товарищами по плену, чья судьба оказалась трагически тяжела: клеймо предателя, проверки и допросы с пристрастием, безработица, ссылки, лагеря. В 1947 рукопись была отдана ж. «Новый мир», редакцию которого возглавлял тогда К. Симонов. Повесть конфисковал КГБ и возвратил автору лишь в конце 1953, после смерти И. Сталина.
В 1948 3. пишет «Остров Буян» — повествование о кровавой схватке в 1650 в Новгороде ремесленных низов с посадскими верхами, с купечеством, вступившим в союз с дворянством. В работе писатель опирается на архивные документы и фольклорные источники. Произв. было встречено критикой сдержанно. Вполне самоценный как худож. явление, «Остров Буян» стал также этапным трудом в подготовке ром. «Степан Разин». 3. глубже, чем его предшественник А. Чапыгин в ром. «Степан Разин», раскрывает логику восстания, острее видит его классовый и многонац. характер, точнее оценивает соотношение сил между крестьянством и казачеством, восставшим народом и царской властью. У Чапыгина и атаман, и его войско свободны от иллюзий веры в царя-батюшку; свидетель же «культа личности», 3. в живучести этих иллюзий не сомневается. Глубинное различие между двумя романами продиктовано разделившей их дистанцией в четверть века. Оно отчетливо проявилось в расхождении философско-ист. и полит. выводов из истории разинского восстания.
Руководство СП СССР и дававший ему установки отдел культуры ЦК КПСС не включили автора «Степана Разина», чья анкета была «запятнана», в список кандидатов на получение Сталинской премии. Но Сталин нередко заводил в тупик свой аппарат, сам игнорируя правила, за нарушение которых строго наказывал. Так, трижды — за «Спутники», «Кружилиху», «Ясный берег» — удостаивалась Сталинской премии В. Панова, вдова «врага народа», застрявшая с детьми на оккупированной немцами Украине. Получил премию и автор «Студентов» Ю. Трифонов, чей отец был расстрелян, а мать отбыла срок. На этот раз Сталин расхвалил «выдающееся», «талантливое» сочинение 3. за ист. правдивость, худож. достоинства, полит. зоркость в истолковании различий между крестьянской и казачьей основами движения Разина и собственноручно дополнил фамилией 3. список кандидатов в лауреаты. Искренне написанный роман был выгоден режиму и лично вождю — так же, как отмеченная премией честная пов. В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Звание лауреата вывело 3. из-под ударов и пристального внимания органов госбезопасности. Впервые возникла возможность, прежде всего материальная, работать над давними замыслами.
6 дек. 1954 3. — пред. секции прозы СП СССР выступил на собрании писателей Москвы. Через день «Правда» назвала его речь «идейно порочной». Еще через день из планов изд-в исчезли назв. злобинских книг — и на долгие годы. Пришлось заниматься лит. поденщиной (заказами выручали друзья): брать редактуру, садиться за переводы.
Характер дальнейшей общественной деятельности 3. не оставляет сомнений в последовательности его гражданской линии и эстетического курса: обращения к Н. Хрущеву с протестом против расправы над Б. Пастернаком и В. Дудинцевым, против зажима молодой поэзии и прозы — В. Аксёнова, Г. Бакланова, А. Вознесенского, поддержка Ю. Домбровского, Л. Чуковской, высокий отзыв о «Бабьем яре» Е. Евтушенко.
В 1956 бывшие военнопленные дождались официальной реабилитации, и 3. возвращается к пов. «Восставшие мертвые», многократно переписывает ее текст. Двухтомный ром. «Пропавшие без вести» выходит лишь в 1962. Параллельно писатель трудится над эпопеей, задуманной еще в 20-х гг. Ее план не раз менялся. Поначалу мечталось о пятикнижии, охватывающем половину века. Замысел, однако, сжался до трилогии, наконец, до дилогии. Судьба распорядилась по-своему. Первый том незавершенной дилогии «Утро века» (1965) вышел посмертно. Время действия в романе — от нач. столетия до русско-японской войны. Место действия — Урал, Москва, Петербург. Стержень повествования — идейное противоборство в среде большевистской и либерально-народнической интеллигенции, путь России к революции.
Соч.: Собр. соч.: В 4 т. / Вст. ст. И. Козлова. М., 1980; Остров Буян / Послесл. М. Кораллова. М, 1994.
Лит.: Кудряшова Е. Степан Злобин как автор ист. романов. Белгород, 1961; Кораллов М. Музы, герои, время / /Вопросы лит-ры. 1965. № 9; Плоткин Л. Лит-pa и война. М.; Л., 1967; Симонов К. Глазами человека моего поколения // Знамя. 1988. № 4; Рахимкулов М. Воспевшие Салавата. Уфа, 1994.
(М. М. Кораллов, биографический словарь "Русские писатели ХХ века")
СТЕПАН ПАВЛОВИЧ
Это было осенью или зимой 1959 года. Только что вышла моя, по существу, первая книга. Проходила она трудно очень, несмотря на хорошие отзывы,
подолгу застревала в разных редакционных инстанциях, ее снова и снова читали
и перекидывали из квартала в квартал, и когда она, наконец, выбралась,
вырвалась, вышла в свет, я весь превратился в одно сплошное ожидание. Я ждал
рецензий, отзывов, на плохой конец просто упоминаний в общих обзорах
литературы за этот месяц или полугодие. Но ничего не было. Книги как будто
не существовало. Мимо нее проходили, не замечая, — ну хоть бы выругали, что ли!
И вот тогда я получил одно очень странное и страстное письмо. Мне писал читатель, фамилию которого я сначала даже не разобрал — так она была
невнятно написана на конверте. Читатель этот разбирал самую идею моей книги,
и она ему нравилась. Он считал, что, хотя книга написана о расовой теории и
на материале минувшей войны, еще даже не перешедшей в Отечественную (я брал
захват Европы), но она не устарела, да и не может устареть до тех пор, пока
фашизм, оставивший после себя на земле "огромные непродезинфицированные
помойки", живет, обретает разные формы, проходит через все азы своей отнюдь
не короткой стабильности, борьба с ним и с его прямыми и непрямыми потомками
должна продолжаться с неослабной силой.
Этот читатель упоминал в письме о своем опыте, о своих переживаниях и о своей борьбе, и тогда, прочитав последнюю строчку этого великолепного
письма, я, наконец, разобрал фамилию автора: "Степан Злобин". Я даже, помню,
засмеялся от радости! Да, это был как раз тот отзыв, которого я так ждал. Я
уже знал про Злобина, этого героя нашего времени, лагерника лагерей
уничтожения, одного из тех недрогнувших, неподдавшихся, которые воистину
"смертью смерть поправ". Это они разбили врага, выиграли войну, загнали под
землю нацизм. Ими был подписан приговор в Нюрнберге. Мог ли я ожидать для
себя отзыва более авторитетного и правдивого? И не для этого ли читателя —
или, вернее, не от лица ли этого читателя — и был написан мной роман?! В
общем, я понял, что я получил все то, о чем мечтал, и сразу успокоился.
Встретил я Степана Павловича примерно через полмесяца. Он подошел ко мне после одного из мероприятий в нашем клубе — высокий, красивый, седой
человек с совершенно молодым лицом, не тронутым морщинами, и звучным, тоже
очень молодым голосом. Он говорил, а я, не отрываясь, смотрел на него.
Физиономистика — неточная наука и даже, пожалуй, вообще не наука, но в ней
есть такое определение: "героическое лицо" (как в истории живописи есть
"героический пейзаж"), и к внешности Злобина оно подходило очень точно.
Вероятно, было б проще всего сказать, что я видел перед собой борца — но это
слово так же захватано и поэтому уже настолько неточно, что мне не хочется
его употреблять... Я видел сильного, мужественного, не отступившего перед
всеми смертями человека, мягкого и доброго, доброжелательного и чуткого. Он
был страстен и в то же время, пожалуй, несколько робок. Особенно это
сказывалось в разговоре: то ли он тебе сказал, так ли ясно высказал свою
мысль, понял ли ты его, не навязывает ли он тебе свои собственные, а значит
и не обязательные для тебя суждения, — забота об этом все время сквозила в
его словах, голосе, умолчаниях, пока он говорил с тобой. Но больше всего он
любил все-таки не говорить, а слушать. Это был самый гениальный слушатель из
всех, которых я когда-либо встречал. Он слушал, уходя весь в рассказ,
переживая его вместе с тобой и стараясь не упустить ни одного слова. Иногда
он переспрашивал, просил пояснить, развить и что-то отмечал в записной
книжке или на листке бумаги. А вот о своих личных переживаниях во время
войны и лагеря он никогда ничего не говорил, и только когда я, прочтя его
двухтомную эпопею "Пропавшие без вести", сказал ему, что уж слишком много
всякого рода приключений и испытаний падает на долю Емельяна и не убавить ли
ему их, ведь не выдержит он один всего этого, не по человеческим силам это,
Злобин как-то потупился, смешался, сконфузился и сказал мне как-то неловко:
— Да я уже думал, нет, не получается, я ведь и так все главное, что с ним случилось, отдал другим. Ведь это я — Емельян-то. Видишь как?!
Улыбнулся, развел руками, словно извиняясь, что так нелепо и смешно у него получилось.
Мир и вечная память тебе — Степан Павлович Злобин — большой человек, большой писатель, истинный герой нашего путаного, страшного и
самоотверженного века! Мы еще встретимся с тобой, живым, в театре и на
экране кино. Только боюсь, что ты будешь не больно похож, потому что
передать тебя таким, каким ты был, труд, вероятно, непосильный ни одному актеру.
(Домбровский Юрий. Статьи, очерки, воспоминания. )
Произведения Степана Злобина в библиотеке Максима Мошкова:
Исторический роман в двух книгах "Степан Разин"
Исторический роман "Салават Юлаев"
Исторический роман "Остров Буян"
Роман в четырех частях "Пропавшие без вести"
Аннотация издательства:
"Роман известного советского писателя Степана Павловича Злобина «Пропавшие без вести» посвящен борьбе советских воинов, которые, после тяжелых боев в окружении, оказались в фашистской неволе.
Сам перенесший эту трагедию, талантливый писатель, привлекая огромный материал, рисует мужественный облик советских патриотов. Для героев романа не было вопроса — существование или смерть; они решили вопрос так — победа или смерть, ибо без победы над фашизмом, без свободы своей родины советский человек не мыслил и жизни.
Стойко перенося тяжелейшие условия фашистского плена, они не склонили головы, нашли силы для сопротивления врагу. Подпольная антифашистская организация захватывает моральную власть в лагере, организует уничтожение предателей, побеги военнопленных из лагеря, а затем — как к высшей форме организации — переходит к подготовке вооруженного восстания пленных. Роман «Пропавшие без вести» впервые опубликован в издательстве «Советский писатель» в 1962 году. Настоящее издание [1964] представляет новый вариант романа, переработанного в связи с полученными автором читательскими замечаниями и критическими отзывами."
Часть первая "В огне" — октябрь 2006
Фрагменты из первой части:
— Ложись! — скомандовал офицер связи.
Варакин упал на землю рядом с хлопотливым санинструктором. Взвыла и гулко ударила невдалеке тяжелая мина, пахнув по деревьям волной, осыпая листья. Не успели они подняться, как под корнем осины, почти рядом с ними, разорвалась и вторая такая же мина, осыпая Варакина комьями влажной глины и забросив деревце на вершины других деревьев, где оно зацепилось корнями и странно повисло вниз головой...
Загудела еще одна мина.
— Нас ищет, что ли, черт его... — проворчал санинструктор.
Взрыв раздался с огромной силой. Когда оглушенный Варакин несмело выглянул из-под руки, перед ним что-то тупо ударилось оземь. Это была необычайно белая, оторванная по локоть женская рука. Как бы живая еще отдельной своей жизнью, она медленно разгибала пальцы...
Варакин растерянно оглянулся. Оказалось, что раненые, заботливо укрытые в яме, уже не нуждаются больше ни в чьей помощи, нарушив привычные солдатские представления о законах больших чисел, мина попала в воронку.
Стоя над этой кровавой рытвиной, наполненной мертвыми, не скрывая отчаяния, рыдал санинструктор Коля.
* * *
Варакин повторил свой рассказ о расстреле и пленении сопровождаемого им санобоза. Он не мог передать словами всех своих чувств от боли в груди.
— Погибли! — печально сказал Бурнин. — И ты тоже ранен... — Бурнин сокрушенно качнул головой. — Ну что же, Миша, плакать-то нам не к лицу, да и времени нет ведь! Бой на рассвете был трудный. На одном участке двенадцать танков подбили, а на том участке всего-то было полтора десятка людей!.. Совсем уже под утро на другом участке три человека сами под танки со связками кинулись... Славу им, Мишка, петь! А ведь каждому по двадцать лет. Им бы жить, да любить, да строить дома, или там хлеб выращивать, или еще... Кто они были — и ведать не ведаем. Безымянны навеки, и слава им вечная... А сколько их ляжет еще сегодня!..
* * *
Перед ним лежала та же вспаханная поляна. Но теперь немцы согнали сюда около трех сотен пленных, должно быть захваченных за день в этом же лесу. Пленные тесной массой сидели тут на земле. Поляна была покрыта выпотрошенными противогазами; их серые кишки, как издохшие змеи, перепутанные в кольцах, отвратительно извивались, переплетаясь с сотнями солдатских ремней, брошенных в ту же кучу. Как непотребная посуда, опрокинутые донцами на землю, валялись десятки стальных касок. По сторонам поляны наглые, презрительные, с ручными пулеметами стояли голубоглазые, белобрысые пастухи этого скорбного стада.
Страшная правда, правда страшнее смерти — плен — вдруг отчетливо встала в сознании Баграмова.
— Плен! — тупо сказал Емельян и не нашел даже мысленно других слов. Жуткое слово как будто опустошило сразу все чувства и подавило его...
Вспыхнув на миг, как сознание, оно тотчас и перестало им быть, превратилось в тяжкий, бессмысленный рев души...
Это было ощущение тоски, подобное тому, какое, должно быть, испытывал тот буйвол, тонувший в трясине, которого Емельян лет пять назад видел через окно вагона в пустынных степях где-то за Бухарой. Поезд шел медленно над болотами и песками. Только одна голова животного оставалась еще над поверхностью предательского солончакового болота, но и она погружалась с неумолимой медлительной безнадежностью. Тяжесть вязкой, засасывающей гущи сковала движения всего уже затонувшего тела. Остановившиеся, еще живые глаза буйвола опустошенно в последний раз глядели на тянувшиеся вагоны, на небо; тоска обреченности охватила его, и последний вздох глухим, мертвяще тягучим криком рвался из горла, еще не залитого трясиной...
* * *
Эти вчерашние воины, потерявшие воинскую честь и оружие, не понимали, как это они, такая громадная масса боеспособных мужчин, оказались бессильным стадом. И они пытались найти этому объяснение и оправдание.
Пленник не хочет взять на себя вину за то, что он не сумел защищать родину. Ему необходимо как воздух найти объяснение вне себя. И как ответ на мучительные поиски этого объяснения, кем-то недобрым снова посеяны были слова «измена», «продажа».
Выпущенные фашистами из тюрем уголовные подонки, которые успели получить от гитлеровцев бумажки об «освобождении из советской неволи», сновали с шипением в гуще пленных, предсказывая неминуемую гибель советского строя, говоря, что иначе и быть не могло: продали Гитлеру всю Россию... евреи за два миллиарда рублей...
Так при помощи уголовных пособников внедрялся в среду пленных во все времена чуждый русскому народу и дикий для советского человека фашистский средневековый бред антисемитизма. Эта смрадная, ползучая плесень пускала свои корешки в расслабленные бедой мозги отчаявшихся, растерянных людей.
* * *
Автоматные очереди, брызнув внезапно, пронизывают эти толпы. Падают раненые и убитые. Это означает «отбой» — пора прекратить крики и всем опуститься на землю, спать. Люди валятся на людей, и тот, на которого кто-то упал сверху, не протестует, — может быть, от утомления он не чувствует тяжести навалившегося тела, а может быть, просто доволен тем, что сверху ему тепло...
Серую, промозглую ночь кропит мелкий дождь. Люди лежат на мокрой земле, в лужах.
По сторонам, окружив этот страшный стан, оставив между собой и пленными сотню метров, у ярких оранжевых, стреляющих искрами костров стоят часовые. Всю ночь вокруг табора они пускают осветительные ракеты.
К рассвету сгустился туман. Над мертвенным лагерем опять раздается внезапный треск автоматов — это фашисты «играют» подъем... По лежащему человеческому скопищу хлещут между потухших костров визгливые прутья автоматных очередей. Новый десяток убитых остается на месте кошмарного сна у потухающих головешек, на кучах золы. Остальные вскакивают с земли.
* * *
О гитлеровских зверствах писали в газетах. Но, может быть, это были отдельные патологические случаи? Нет!
«Так что же такое фашисты? — думал Баграмов. — В чьи же руки попал я вместе с тысячами бойцов?
Гитлеровцы умышленно и расчетливо взрастили целое поколение палачей. Коричневые блузы, выдуманные в мюнхенской пивнушке как форма «нацистов», были напялены на немецких парней в возрасте перехода от отрочества к юности, и эти форменки сыграли для их сознания роль деревянных колодок, которыми в течение столетий калечили ноги своих девочек китайские аристократы: человеческое сознание немецкого юношества остановилось в развитии, втиснутое в колодки нацизма — новой формы осатанелого от воинственности, нищего духом пруссачества.
Когда осатанелый от мании величия прусский лавочник ринулся покорять планету, катастрофически унизительная вивисекторская операция фашистов над молодыми немцами обнаружилась во всем ее обезьяньем безобразии: чувства человечности, понятия правды, справедливости, красоты — все это оказалось вытравлено из опустошенных душ нового поколения той самой нации, которая первой когда-то восстала против сумрака католицизма, которая когда-то родила великую философию и полную мысли поэзию, создала могучую музыку.
Все было растоптано и унижено в самой их стране. Сапогами фашистского низколобого орангутанга в погонах была попрана прежде всего сама Германия, сам немецкий народ, употребленный круппами, герингами и гиммлерами для унижения прочих народов.
Лишенные права черпать даже из книг своих, немецких писателей понятия о человечности, обязанные считать героем, достойным подражания, уже не Вильгельма Телля, а фашистского погромщика, уголовника Хорста Весселя, они потешались на занятых землях меткими выстрелами в кошек или в детей, не делая между ними различия и не будучи даже способными постигнуть умом это различие.
Поколение тупых недоучек фашисты приспособили для того, чтобы убивать или стоять с бичом над толпою рабов. Они даже не в состоянии понять, что вместе с этой растерзанной русской женщиной, с этими убитыми детьми лежит в дорожной грязи униженная Германия, пьяная от нацизма, превращенная в насильника и палача.
Придя домой, возвратясь к семье, этот Ганс или Руди не скажет ни матери, ни сестре, как он был унижен на службе у фюрера. Он скажет им, что воевал, и они поверят... А он просто палач, тупой, ничтожный мертвец, автомат с автоматом. И, может быть, кто-то дома о нем волнуется, плачет, не зная его позора... — думал Баграмов, глядя на этих конвойных солдат. — И вот эти полчища гнусных нигилистических карликов захватили нас в рабство! Да, эти будут стремиться нас всех уничтожить, особенно в тот момент, когда на них самих надвинется гибель...»
* * *
Ночь была полной провалов, каких-то криков. Кто-то звал ее громко, отчаянно... Или это она звала его... То вдруг залает собака. И во сне возникают голодные собачьи глаза... Да, это было у булочной. Люди несли домой хлеб, еще теплый, свежий. А возле булочной одиноко сидела собака-овчарка. Какими глазами смотрела она на эти кусочки хлеба! Она понимала, что ей никто не подаст куска, и сидела, как голодный нищий, у булочной, большая, безнадежно печальная и немая...
— С голоду уж припадает на задние лапы, бедняга, а где там собаку кормить, когда люди... — говорили стоявшие в очереди.
Часть вторая "Испытания" — март 2007
Фрагменты из второй части:
В эту ночь один из предприимчивых бородачей подкрался с ножом к лошадям санобоза. Дежуривший по обозу Иван Кузьмич заметил его как раз вовремя, чтобы вскочить и опрокинуть его подножкой. На шум борьбы сбежались проснувшиеся ездовые. Чтобы не вызвать стрельбы со стороны караульных немцев, они творили свой суд без шума, но со всей жестокостью, с которой столетиями крестьяне били пойманных конокрадов. Накинув преступнику на голову две шинели, били его сапогами в голову, в грудь и в живот. Он издавал только глухие стоны.
Варакин, проснувшись, не сразу понял, кто там барахтается в рассветной мгле. Исподволь однако же понял, что Иван Кузьмич с товарищами над кем-то чинит самосуд.
— Кого вы там бьете, Иван? — окликнул Варакин.
— Кого надо, Михайло Степаныч! Вредителя добиваем. На лошадь подкрался с ножом. Видишь, маханинки свеженькой захотел, а на людей ему плюнуть — не его, мол, фашисты застрелят, а раненых честных бойцов!
— Хватит! Довольно! Бросьте, я говорю! — резко поднявшись, громко окрикнул Варакин.
— Молчи уж, товарищ военврач! Добить его, гада, к черту! — отозвался один из ездовых.
— Добивай топором по башке! — не обратив внимания на врача, решительно распорядился Кузьмич.
— Расступись! — грозно сказал кто-то.
И Варакин услышал в каком-то зловеще распухшем в ушах молчании тяжелый, глухой удар с коротким надсадным выдохом дровосека...
* * *
Еще прошлой осенью Рогинский артистически прорезал лагерную проволоку под самой пулеметной вышкой, ловко замаскировал проход, и в темные осенние ночи он ухитрялся несколько раз выходить из лагеря, обкрадывать квартиры лагерного начальства и до утра через свой прорез возвращаться, принося с собой сало, колбасу, хлеб, яблоки, водку, удивляя всех, даже пугая опасением: не за предательство ли он получает мзду от фашистов? Немцам же и в голову не приходило искать вора в лагере.
* * *
Один из соседей Емельяна рассказывал о лагере под Брестом, где в 1941 году на обширной песчаной площади без всяких строений за колючую проволоку были согнаны десятки тысяч пленных красноармейцев. С наступлением осени, чтобы спастись от дождей и холода, они рыли себе для ночлега в песке звериные норы. Но песок нередко ночью «садился» и заживо хоронил спавших людей.
— Утром проснешься, ищешь кого знакомых. Ан нету... Тысячи человек, не знаючи, по могилке прошли, притоптали, и нет ни креста, ни следочка... Ох сколько там полегло! Ополченцев все больше московских... Хорошего друга я так потерял. Дружили мы славно, тоже писатель был, Марком звали...
Пленный, присланный с металлургического завода, рассказывал, как мастера-мартенщика за отказ от работы фашисты бросили в жар мартеновской печи, чтобы запугать остальных...
— Взрослые что! Мы сами себе и ответчики, — вмешался голос откуда-то с дальней койки. — Я видал, как еврейских детишек прикладами по головам убивали... Мальчик один, лет семи, на четверёночки встал, головенка курчавая, как у барашка... — Рассказчик умолк, громко втянул воздух и оборвал рассказ.
— А у нас под Черниговом лагерных полицаев куда-то вызвали на работы. Воротились они с золотыми браслетами, с кольцами, серьгами да часами. Говорят, живьем зарывали сваленных в яму евреев... Потом уж эсэсовцы спохватились, в лагерь нагрянули. У полиции обыск. У кого нашли золото — всех расстреляли... Так у нас в лагере и полиции не осталось в тот день...
* * *
Слово «каменоломни» внушало всем ужас. Там работало около тысячи человек, но каждые две недели везли туда пятьсот новых; ранее взятые не возвращались назад — их просто закапывали на месте. Каменоломни — это было одно из многочисленных предприятий, организованных специально для планомерного уничтожения советских людей, согласно общему фашистско-немецкому плану истребления «низших рас». Угоняемым не говорили, куда их везут, но пленные всегда как-то узнавали о наборе команды в это страшное место. Туда брали без особого выбора. Всякий, кто мог продержаться хотя бы четыре-пять дней, считался пригодным в каменоломни. Это было место скорой и торжествующей смерти.
* * *
Измученные, издрогшие, жадно проглотив ненасыщающий завтрак, люди от кухни торопились в бараки, чтобы плотно прижаться на нарах друг к другу. Но ветер схватывал дверь, вырывал из застывших пальцев скобу, и холод со снегом врывался в барак...
— Затворяй! Чтобы черти тебя... Затворяй!
Барак, воздух которого пропитался махорочным чадом, запахом прокисших шинелей, сопревших портянок и нечистого тела, казался обителью блаженства...
* * *
Соседом Ивана по койке оказался Ромка Дымко — моряк-десантник. В первый же день по прибытии в лагерь под Ригой Ромка решил бежать из плена. Он ловко перемахнул через проволоку и уже за оградой лагеря был срезан пулею с вышки. Оказалось, перебита нога; ее ампутировали. Он пролежал в лазарете месяцев пять с незаживающей культей. Одноногий еще раз попробовал бежать и ушел-таки в лес, но был найден погоней с собаками и в числе здоровых отправлен в Германию.
— Тут уж их маковка! Об одной ноге через всю неметчину не ускочишь! — сокрушенно признал Ромка.
Все видели, что Дымко ничего не боится, и за это его любили и уважали товарищи.
Часть третья "Сопротивление" — октябрь 2007
Фрагменты из третьей части:
У молодой, только что оформившейся подпольной лагерной организации было достаточно дел. Ей нужно было все охватить, вникнуть во все, не упустить из виду опасных людей, которые могли прибывать в массе поступающих новых больных, следить за лечебным делом, за делом питания, за фронтовыми сводками и политическими кампаниями фашистов, за расстановкой медицинского персонала по блокам и по баракам, но главное дело, которое требовало огромных усилий и всеобщей дружной поддержки, — это были побеги, их подготовка, их всестороннее обеспечение и безопасность. Немало внимания требовали и карты Германии, их изучение. Энтузиасты этого дела майоры Барков и Кумов разрабатывали маршруты, каждый по своему варианту. Кумов — через Одер и Вислу, по Беловежской пуще и Пинским болотам. Барков — на юг: Судеты — Карпаты — Словакия — Украина.
Сложное, тяжкое, щепетильное дело — пищевые запасы для беглецов, их одежда и крепкая, прочная обувь, медикаменты и перевязочные пакеты, компасы — все касалось Союза антифашистской борьбы, все занимало организацию.
Кроме всего прочего нужно было заранее обеспечить безопасные выходы, чтобы исходный рубеж маршрута лежал уже за пределами проволочной ограды, вне досягаемости прожекторов и пулеметов, установленных на караульных вышках.
Генька сделал несколько компасов и, собираясь сам в скором времени выйти в побег, готовил себе на смену другого часовщика — Мишу Суханова.
Несколько копировщиков карт сидели, вычерчивая маршруты, комбинируя условные знаки с двух разномасштабных карт. Даже для опытных военных картографов это было сложное дело, если принять во внимание, что карты изображали чужую, совсем незнакомую им страну.
* * *
«Полиция» ТБЦ круглые сутки посменно несла службу, охраняя территорию туберкулезного лазарета от внезапного вторжения немцев. Весть о приходе в комендатуру «чистой души», оберфельдфебеля, гауптмана гестапо или какого-нибудь злостного унтера доносилась на другой конец лагеря буквально за двадцать-тридцать секунд сигналами постовых. В ту же минуту часовщик, вырезавший компасные стрелки, начинал заниматься часами, штамповщик компасных корпусов, рыжий Антон, брался за работу над гравировкой алюминиевого портсигара, а картограф Слава ложился на койку и закрывал глаза. Его худоба, изможденность говорили без слов о том, что он умирает от туберкулеза. И в самом деле он умирал, этот саратовский юноша-музыкант. Слава почти твердо знал, что ему, несмотря ни на чьи усилия и старания, не вернуться домой, что не ему суждено пройти по Германии, чтобы выйти к своим и снова вступить в ряды сражающихся сограждан. Но мысль о том, что вычерченная его рукой карта поведет другого этим путем, что, может быть, тот товарищ минует посты и заставы, пройдет через фронт и будет сражаться с фашизмом, — эта мысль и это сознание давали ему силы. И когда миновала опасность и немцы удалялись из лазарета, Слава снова брался за рейсфедер и кальку и часами не поднимал длинных, пушистых ресниц от своей работы. Ведя по бумаге перо, которое пролагало друзьям путь на родину, Слава сам как бы шел этими дорогами, шагал по асфальту шоссе, пробирался по ночным деревням, по лесу, переплывал реки...
* * *
Летом 1943 года на территории всей Германии было объявлено положение тревоги. Проводилась общеимперская облава на военнопленных, бежавших из лагерей. Целые дивизии, снятые с фронта для этой цели, направлялись на пополнение полицейских сил. В общей сложности шестьсот пятьдесят тысяч немцев были брошены на подавление этого внутреннего врага. В том числе четверть миллиона было мобилизовано из актива гитлеровской партии, была призвана к борьбе с потоком бегущих «гитлеровская молодежь», отряды фашистского мотоциклетного корпуса войск СС, пограничные части, даже подразделения военно-морского флота.
Гитлер учредил специальную должность генерального инспектора по делам военнопленных, предоставив ему «особые, неограниченные полномочия».
Беглецов ловили, нещадно били, сажали в карцеры, но, едва оправившись, они снова рвались на волю. Пойманный во втором побеге нес более строгое наказание. Его запрещалось назначать в команды для работы вне лагеря, его вызывали в лагерный абвер на отметку, за ним следили и зондерфюрер и лагерная полиция. Пойманных же в третьем побеге направляли в штрафные лагеря. Масляной краской им рисовали на спинах яркую, видную издалека мишень, и при первом удобном случае именно такой носитель мишени падал под метким выстрелом часового.
Но никакие облавы и патрули с собаками, засады, пулеметные секреты, устроенные вокруг лагерей, никакой жестокий режим не мог остановить этого потока, особенно после попыток изменнической вербовки пленных во власовцы.
Часть четвертая "Последняя схватка" — август 2008
Фрагменты из четвертой части:
Емельяну было известно, что в тюрьме есть способ непосредственного общения между заключенными, что все камеры отпираются и арестованные встречаются между собою. Но инициативу в этом должен был проявить «абориген» тюрьмы Николай Гаврошвили, который сидел тут, приговоренный на десять лет, с сорок первого года за избиение начальника лагерной полиции. Единственный долгосрочный в этих сырых казематах, Гаврошвили считался бессменным старостой. Он знал все карцерные порядки, облегчал отбывание срока, обеспечивал сговор арестованных перед допросами, давая возможность встретиться тем, кого начальство стремилось изолировать друг от друга. Если Николай не открыл карцеры, значит, этого сделать сейчас почему-то нельзя.
* * *
— Товарищ полковник, я должен еще сказать...— несмело начал Иван.
— По тому же вопросу? — нетерпеливо спросил Бурнин.
— По тому же. У меня особое положение, товарищ полковник. Мне надо пройти проверку в бою, мне особенно надо, и я не хочу уклоняться.
— В чем же твое «особое», говори.
Иван потупился. Трудно было вымолвить слово...
— Отец... репрессирован... в тридцать седьмом...
— А кто же был твой отец до этого? — медленно расставляя слова, произнес Бурнин и почувствовал, как мурашки прошли у него по коже. — Военный?
— Да.
— Генерал?
— Ну, как ведь сказать... тогда ведь комбриг,— сдавленно произнес Иван.
— Петр Николаич? — воскликнул Бурнин в смятении.
Только в эту минуту сопоставив фамилию Ивана с фамилией генерал-полковника, Бурнин вспомнил и увязал воедино все, что знал про Ивана: что Иван попал в плен под Вязьмой, что его специальность — печатник, что родом он из Москвы, что по отчеству он Петрович. Все это в сознании Бурнина всплывало какими-то залпами представлений.
— Петр Николаич, — растерянно подтвердил Иван.— А вы что-нибудь...
И Бурнин вдруг понял, что удар, который он должен сейчас нанести Ивану, будет и ранить и исцелять.
* * *
Рассказ разведчиков не шел из ума Баграмова.
«Ведь разбиты уже, раздавлены и бегут, а все не могут еще отказаться от страсти к уничтожению и убийствам! — думал Баграмов. — Неужели же все-таки эти чумные крысы укроются на помойках союзников и будут ждать часа, чтобы соединиться снова в гнусные, грязные скопища и опять заражать всю планету психозом убийств и бандитской наживы?!
После победы их надо будет ловить и давить, во всяком уж случае главных, а прочих клеймить на лбу каленым клеймом, нестираемой свастикой, чтобы все могли видеть фашиста, чтобы никакое лживое слово раскаяния не могло никогда привести его где бы то ни было к власти. Люди должны создать такой общий закон, что палач не имеет права быть депутатом, судьей, врачом, учителем, офицером, солдатом — никем...
Мы тут лучше всех знаем, что такое фашизм, что такое судьба «низшей, отверженной расы», когда она находится во власти «расы господ». Мы понимаем, что за штуковина «Ubermensch»! Мы никогда не забудем того, что видели. Слишком много мы смотрели в лицо смерти, мы ценим и любим жизнь, а во имя жизни мы их не простим! Мы не сможем стать равнодушными, а ведь именно равнодушные, ради собственного покоя и личной сытости, допустили к власти фашистов. Равнодушные и ленивые люди не хотели себя тревожить по первым сигналам бедствия, загоревшимся над планетой. Они думали, что за окнами их домов будет литься только кровь их соседей, «чужая» кровь. Они думали, что сгорят города, но пожар обойдет стороной их дома, города, даже страны. Они думали, что людоед в благодарность за их смирение даже кинет им догладывать после него хрупкие кости чужих младенцев. Неужели же наши союзники в этой войне так ничего и не поняли до сих пор, если они в самом деле идут на сговор с фашистами?! Неужели не поняли и сейчас еще, что после победы надо вколачивать острый осиновый кол в спину фашизму, в спину войне, чтобы они никогда не встали?! Народы не смогут забыть этих ужасов, если их даже забудут правители!»
* * *
— Они же больных казнить, суки, приехали! — вмешался Волжак. — Дайте же нам учинить над ними советскую правду: под пулемет — да и баста!
Он смотрел на пленных фашистов сквозь узкий прищур озлобленных глаз. Смотрел с ненавистью. Они словно бы приковали его взгляд. Он будто выискивал среди них того, кто был больше других достоин смерти и гнева. Но все они были равны перед его беспощадным судом. «Всех под один пулемет! Автоматически рассортирует! Как верно-то Юра сказал! — думал он. — Кострикина нет в живых, Пимена Трудникова не стало, Иваныча унесли, да будет ли жив?.. А этих оставить?! Холеру их матери в брюхо! Чтоб жили да палачат плодили, с женами спали бы, гады! Хоть этот вот лагерный провокатор, шпион Сырцов...»
Страничка создана 10 октября 2006.
Последнее обновление 3 августа 2008.
|