

СОДЕРЖАНИЕ
ЗАМЕТКИ О РУССКИХ МЕМУАРАХ 1800–1825 ГОДОВ
ЛЕОНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ БЕННИГСЕН (10.11.1745 – 2.V.1826)
Записки
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САБЛУКОВ (1.1.1776 – 20.IV.1848)
Записки
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРАВЬЕВ (14.VII.1794 – 18.X.1866)
Записки
ФЕДОР ИВАНОВИЧ КОРБЕЛЕЦКИЙ (1775 или 1776 – 21.Х.1837)
ФРАНЦУЗЫ В МОСКВЕ
ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ КОМАРОВСКИЙ (18.XI.1769 – 18.X.1843)
Записки
ЕГОР ФЕДОРОВИЧ ФОН БРАДКЕ (16.V.1796 – 3.1V.1861)
Автобиографические записки
ИППОЛИТ НИКОЛА ЖЮСТ ОЖЕ (25.V.1796 или 1797 – 5.1.1881)
Из записок
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ (1789–1871)
РОССИЯ И РУССКИЕ
СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА СКАЛОН (1797–1887)
Воспоминания
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ПОДЖИО (1798–1873)
Записки
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН (1793–1837)
Четырнадцатое декабря
НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ ЦЕБРИКОВ (1800–1862)
Воспоминания о Кронверкской куртине (Из записок декабриста)
ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ ВИГЕЛЬ (1786–1856)
Записки
ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ (1792–1878)
Записные книжки
Московское семейство старого быта
Воспоминания о 1812 годе
Примечания
Указатель имен
Иллюстрации
ЗАМЕТКИ О РУССКИХ МЕМУАРАХ 1800–1825 ГОДОВ
Державин
Смерть Екатерины II внезапно и резко оборвала неспешное течение XVIII столетия и, словно смешав карты в большой исторической игре, перевернула все с ног на голову. Давно установленный, привычный и потому казавшийся незыблемым порядок вещей остался отрадным воспоминанием о екатерининской эпохе.
С воцарением «сумасшедшей памяти императора Павла»1 все изменилось. Социальную и психологическую иерархию в период своего непродолжительного царствования сам Павел определил известной фразой: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». В соответствии с этим определением пленный турок, брадобрей Павла Кутайсов был возведен в графское достоинство, а «старинные князья и Рюриковой крови» (слова Пушкина), напротив того, лишались титулов, состояний и по распоряжению императора отправлялись в ссылку. Промедлений Павел не терпел. Гарантий сохранить честь, имя, состояние не было. Все трепетало.
«Павел,– писал В. О. Ключевский,– принес с собой на престол не обдуманную программу, не знание дел и людей, а только обильный запас горьких чувств. Его политика вытекала не столько из сознания несправедливости и негодности существующего порядка, сколько из антипатии к матери и раздражения против ее сотрудников… <…> Это участие чувства, нервов в деятельности императора сообщало последней не столько политический, сколько патологический характер: в ней больше минутных инстинктивных порывов, чем сознательных идей и обдуманных стремлений»2.
Мемуаристы на редкость единодушны в изображении и оценке Павловой эпохи. В сознании современников она запечатлелась ощущением тяжкого гнета, безысходного мрака, обреченности. Н. М. Карамзин, указывая на сходство Павла с Иваном Грозным, писал о тирании: «Снесем его как бурю, землетрясение, язву – феномены страшные, но редкие: ибо мы в течение девяти веков имели только двух тиранов»3. Он же точно заметил, что Павел лишил награду прелести, а наказание – стыда, ибо и то и другое определялось минутной прихотью и произволом.
С первых же часов своего правления Павел проявил себя как антипод Екатерины. Поэтому в стремлении дворянской верхушки во
1 Д а в ы д о в Д. Сочинения.– М., 1962, с. 471.
2 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. V.–М., 1921, с.155, 157.
3 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России.– СПб., 1914, с. 45.
[5]
что бы то ни стало убрать Павла сказались не только личные интересы и пристрастия, но и не всегда осознанная надежда вернуть прошлое, обеспечивающее относительную надежность и прочность земного существования. Понимание этого продиктовало Александру первые слова, сказанные им после роковой ночи 11 марта 1801 г.: «Все будет, как при бабушке».
Анекдоты Павлова времени в более сжатой форме, чем записки современников, отражают основные черты эпохи – зыбкость почвы под ногами людей, головокружительную смену взлетов и падений. Понятно, что такое выражение недовольства, облеченное в юмористическую или ироническую форму, нимало не походит на достоверные рассказы мемуаристов. В них, нарочито подчеркнутая, иногда гротескная непредсказуемость поведения Павла забавна, в записках современников – фатальна.
Заметим, что вымышленные рассказы о Павле очень близки к реальности. В обычном анекдоте действует элемент неожиданности, заключенной в резком столкновении бытового начала с началом гротескным. «Соль» анекдотов о Павле – в самой непредсказуемости его характера.
Однажды во время смотра гатчинский офицер Каннабих помчался выполнять какое-то поручение Павла. Он скакал так быстро, что с него слетела шляпа. «Каннабих, Каннабих,– закричал ему вслед император,– шляпу потерял!» «Но голова тут, ваше величество»,– отвечал Каннабих, продолжая скакать. «Дать ему 1000 душ»,– сказал император, довольный этим ответом»1.
Другой анекдот. Как-то Павел заметил на часах у Адмиралтейства пьяного офицера и приказал его арестовать. Пьяный офицер заметил: «Прежде чем арестовать, вы должны сменить меня, ваше величество!» Павел велел произвести офицера в следующий чин, сказав: «Он, пьяный, лучше нас, трезвых, свое дело знает»2.
Пушкин рассказал анекдот, еще более похожий на правду: «Однажды царь спросил <шута>, что родится от булочника? – Булки, мука, крендели, сухари и пр.,– отвечал дурак.– А что родится от гр. Кутайсова? – Бритвы, мыло, ремни и проч.– А что родится от меня? Милости, щедроты, чины, ленты, законы и проч. Государю это очень полюбилось. Он вышел из кабинета и сказал окружающим его придворным: Воздух двора заразителен, вообразите: уж и дурак мне льстит. Скажи, дурак, что от меня родится? – От тебя, государь,– отвечал, рассердившись, дурак,– родятся бестолковые указы, кнуты, Сибирь и проч.– Государь вспыхнул и, полагая, что дурак был подучен на таковую дерзость, хотел знать непременно – кем. Иван Степанович именовал всех умерших вельмож, ему знакомых. Его схватили, посадили в кибитку и повезли в Сибирь. Воротили его уже в Рыбинске»3.
Другие случаи Павловой непредсказуемости имели менее благоприятный исход, к тому же вымысел, как известно, почти всегда беднее реальности. Реальность же была такова, что, отправляясь на парады, столь любимые этим императором, офицеры брали с собою деньги на тот случай, если их прямо с парада отправят в Сибирь. Такое бывало нередко. Жена, ложась спать, привязывала свою руку к руке мужа, чтобы он не исчез во время ночного ареста (В.О. Ключевский).
1 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. V, с. 158.
2 «Русская старина», 1871, № 4, с. 415.
3 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 1–17.–М.-Л., 1937–1959, т. 11, с. 191.
[6]
«Время это было самое ужасное. Государь был на многих в подозрении. <…> Ежедневный ужас. <…> Сердце болело, слушая шепоты, и рад бы не знать того, что рассказывают»1.
Охотно и подробно рассказывая о царствовании императора Павла, мемуаристы мало и скупо писали о цареубийстве. Это понятно, ибо самая идея цареубийства подрывала основы монархического строя. Среди большого по тем временам количества участников дворцового переворота записки об этом событии оставили только двое – Л. Л. Беннигсен и К. М. Полторацкий. Все остальное, составившее том «Цареубийство 11 марта 1801 года» (СПб., 1907 и 1908) и оставшееся за его пределами, написано по рассказам очевидцев, по слухам и т. п.
О цареубийстве писать боялись. В отличие от Екатерины II, щедро наградившей убийц Петра III, ее внук Александр не только не жаловал тех, кто фактически возвел его на престол, но постарался как можно скорее убрать их с глаз долой, чтобы не напоминали о кровавом деле. Отцеубийства он стыдился и причастность свою к нему скрывал, кажется, даже от самого себя.
Участники переворота вспоминали и рассказывали о нем втихомолку. Члены же семьи Павла I, начиная с его вдовы, Марии Федоровны, бдительно и зорко следили за тем, чтобы информация не просочилась. По заданию правительства действовали люди опытные и искушенные: они вымогали, похищали и покупали документы об убийстве Павла у живых участников заговора и изымали их у тех, кто умер. «Наше правительство следит за всеми, кто пишет записки. <…> Мне известно, что все бумаги после смерти князя Платона Александровича Зубова были по поручению императора Александра взяты посланными для этого генерал-адъютантом Николаем Михайловичем Бороздиным и Павлом Петровичем Сухтеленом…»2.
Даже тогда, когда в печати стали появляться декабристские материалы, на документах об убийстве Павла все еще лежал запрет. Первые публикации об этом появились за границей, русским же читателям они стали доступны значительно позднее. «Цареубийство все равно не может быть официально признано, о нем и не вспоминают в подцензурной прессе до 1905 г.»3.
Записки Л. Л. Беннигсена и Н. А. Саблукова – в отношении позиции мемуаристов к цареубийству – полярны. Беннигсен – сторонник решительных действий, Саблуков – противник их. Они совершенно различны и в другом плане: записки Беннигсена – документ сугубо исторический, воспоминания Саблукова в равной мере принадлежат литературе и истории. Написанные в форме письма к приятелю (А. Б. фон-Фоку), записки Беннигсена строго деловиты. В отличие от главы заговора графа Палена Беннигсен не считает, что «совершил величайший подвиг гражданского мужества и заслужил признательность своих граждан»4. Беннигсен даже несколько умаляет свою роль в деле, «тушуется», сохраняя при этом твердое внутреннее убеждение в необходимости содеянного.
Саблуков, напротив, стремится показать безнравственность и беззаконность убийства. Однако врожденное чувство справедливо-
1 Мертваго Д. Б. Автобиографические записки. 1760–1824.– М., 1867, с. 118.
2 Волконский С. Г. Записки – СПб., 1901, с. 142.
3 Эйдельман Н. Я. Грань веков.–М., 1982, с. 144.
4 Лобанов-Ростовский А. Б. Примечание к записке Коцебу,– Цареубийство 11 марта 1801 г.–СПб., 1908, с. 373.
[7]
сти, сила воображения и литературное дарование Саблукова, помимо (или даже против) его воли, вступают в противоречие с его нравственной позицией, утверждающей принцип «не убий». Саблуков пишет о Павле со всей возможной для него объективностью и, отчасти симпатизируя ему, хочет показать в нем добрые начала. Однако атмосфера Павлова времени, которую живо воссоздает мемуарист, невольно подготавливает читателя к мысли о неизбежности, необходимости и неотвратимости цареубийства.
Насыщенность первой четверти XIX столетия событиями крупного исторического масштаба отчасти обусловила характер мемуаров, посвященных этой эпохе. Читатель, без сомнения, обратит внимание на «событийность» записок, помещенных в этой книге. Катаклизмы эпохи – убийство Павла I, Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов – заслоняют личность мемуаристов. Но и сами они отчетливо сознают свою «малость» в соотношении с этими событиями. Почти каждым из них собственная биография осмыслена как биография поколения, частная судьба – как судьба общая.
Даже рассказывая о себе, мемуаристы сознательно не создают «биографии души». Как и у мемуаристов XVIII в., их записки носят по преимуществу хроникальный характер. Более других приближаются к изображению внутренней жизни Н. Н. Муравьев и Е. Ф. фон-Брадке. В этом отношении записки Муравьева уже «почти литература». Он не скрывает от читателя влияния на формирование его личности прочитанного в юности Руссо (об этом влиянии пишут и многие другие мемуаристы), хотя попытки самоанализа у Муравьева еще очень робки, незначительны в литературном отношении. Например, говоря о своем чувстве к Н. Н. Мордвиновой, он не исследует психологию этого чувства, которое поэтому и остается не более чем фактом его собственной биографии.
Так же далек от изображения душевных движений Ф. Ф. Вигель, великий мастер литературного портрета, но портрета внешнего, почти не затрагивающего психологических тайн души. Вигель пишет хронику своего времени; он наблюдает и с большой степенью субъективности, подчас со злостью и сарказмом фиксирует то, что проходит перед его глазами. Он сам почти всегда за кулисами событий: «О себе буду говорить мало,– предваряет он свое повествование. Не имея великой славы Жан-Жака Руссо, не имею и прав на бесстыдство его. В описываемом я буду ничто: я буду только рама или, лучше сказать, маляр, вставляющий в нее попеременно картины и портреты»1.
Личное и общественное начала еще так тесно сплетены в представлении мемуаристов первой четверти XIX в., что даже душевный и умственный опыт они подчас извлекают не из перипетий своей внутренней жизни, но из опыта государственной службы. Брадке писал: «Тут пришлось мне, вопреки юношеским мечтаниям, узнать на опыте, что в государственной жизни форма и буква суть вещи неизбежные, без коих, особливо в большом кругу управления, нет устойчивости; что, правда, буква может быть помехою добру, но, при несовершенстве всех человеческих отношений, обходя ее, подвергаешься произвести еще более тяжкие недоразумения; но, что в то же время, предоставляя букве столь значительное влияние, никог-
1 Вигель Ф. Ф. Воспоминания, т. 1.– М., 1866, с. 3.
[8]
да не следует забывать, что она в сущности есть только служительница духа, помогающая охранять требования оного в испорченности человеческих отношений, блюсти должные границы внешности, легко переступаемые при господствующем недостатке в духовном образовании, и что если не держаться строго этого соотношения, то дух утратит подобающее ему значение, разрушится весь государственный и общественный строй, и как надгробная ему надпись, останется одна мертвая буква»1. Диалектика Брадке пока еще очень далека от «диалектики души».
Все это вовсе не означает, что мемуаристы первой четверти XIX столетия не писали о себе. Писали, и даже очень: и о себе, и о быте, и о друзьях – обо всем, что составляет человеческую жизнь. Но во всех этих мемуарах явственно ощутима разница между масштабом исторического события и масштабом любой, даже самой выдающейся человеческой личности. Каждый чувствует соотношение этого масштаба по-своему. Беннигсен, Саблуков, Корбелецкий, отчасти фон-Брадке пишут о себе чрезвычайно мало, оставаясь в тени событий. У А. В. Поджио, И. Д. Якушкина, Н. Р. Цебрикова человек вообще остается один на один с Историей, которая целиком заполняет его внутренний мир. Сформированный Историей, он творит ее и подчиняется ее суровым законам. Семейное начало почти совсем уходит из мемуаров; только С. В. Скалой и П. А. Вяземский в «Московском семействе старого быта» соединяют семейное с эпохальным.
Острая заинтересованность в происходящем, пристрастное отношение к пережитым событиям, к современникам сообщают мемуарам первой четверти XIX в. необычайную живость в передаче впечатлений. Из «дали времен» мемуаристы ведут нескончаемый и все еще интересный нам спор о Барклае-де-Толли и Багратионе, о неизбежности поражений, о способах достижения победы, о стратегических просчетах и, наконец, просто о добре и зле, о милосердии и «милости к павшим». Мемуары этого времени – это История, заново совершающаяся на наших глазах. Вместе с тем они почти утрачивают эпическое начало, в значительной мере свойственное запискам XVIII столетия.
Человек начала XIX в. остро осознает непреходящее значение своей эпохи. Более всего это относится к войне 1812 г. и восстанию декабристов.
Пушкин
Война 1812 г. вызвала небывалый подъем патриотических чувств. Их отголоски прокатились потом гулом выстрелов на Сенатской площади. Чувством патриотизма пронизаны все воспоминания об этой эпохе – даже написанные иностранцами, состоящими в русской
1 Брадке Е. Ф. Автобиографические записки.– «Русский архив», 1875, № 1, с. 23.
[9]
службе. «Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании,– писал И. Д. Якушкин.– Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов <…>, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле»1.
Сознание «великого дела», опасение утратить остроту переживания, точность в передаче фактов побуждали многих мемуаристов взяться за перо почти тотчас же по окончании войны. Среди прочих брались за перо люди, прежде не помышлявшие о писательстве.
Мемуары словно «омолодились»: их авторы не седобородые старцы, вышедшие в отставку или оставшиеся не у дел, а юноши, ушедшие на войну подростками, возмужавшие в пороховом дыму. Те, о ком с таким восхищением писала юная Марина Цветаева:
Авторами мемуаров нередко становились люди в расцвете сил, с цепкой памятью, сильными, еще не изжитыми чувствами, полные воли к действию,– люди, едва ли не впервые осознавшие себя гражданами своего отечества. Для него и во имя его они и писали свои записки, чтобы сохранить для потомков, донести до них правду об этой небывалой войне, об этих новых, тоже небывалых чувствах: «Не было пощады для врагов, ознаменовавших всякими неистовствами нашествие свое в нашем отечестве, где ни молодость, ни красота, ни знание – ничего не было ими уважено»2,– писал Н. М. Муравьев. Об этом же вспоминал Н. И. Тургенев: «Завоеватель не нашел в России ни изменников, ни даже льстецов. Выискался только один несчастный епископ, согласившийся упоминать в ектеньи имя Наполеона. <…> На русской территории Наполеон встречал только врагов…» (с. 264).
Глубинная основа самых разных записок о 1812 годе – это проникающее всех, от солдата до фельдмаршала, чувство горячей любви к отечеству. Иногда это чувство проявляется в страстных филиппиках, но гораздо чаще – в намеренно натуралистическом изобра-
1 Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина.–М.– 1951, с. 7.
2Муравьев Н. Н. Записки.–«Русский архив», 1885, т. 3, № 11, с. 379.
[10]
жении того неискупимого зла, которое несли с собой завоеватели, оскорбляя национальные святыни и человеческое достоинство. Не только эти действия, но и рассказы о них должны пробудить в слушателе, читателе ответное чувство мщения. Поэтому возмездие всегда справедливо, всегда оправдано мемуаристами. «Рассказывали,– писал Н. Н. Муравьев,– что Фигнер застал однажды в церкви французов, загнавших в нее из окрестных селений баб и девок. <…> Все эти французы погибли на месте преступления, ибо Фигнер не велел ни одного из них миловать»1.
Ненависть к французам была всеобщей, но рассказы о проявлениях ее были различны: существовала некая иерархия, на нижней ступени которой были военные действия, будни войны, верхняя же ступень находилась на уровне дипломатическом. Все соотнесенное с этим уровнем было значительно утонченнее, изящнее, изысканнее и литературнее. На нижней ступени этой иерархии – сугубо документальный материал, на верхней – освещенный игрой ума и фантазии. Тем более интересно, что и то и другое отражает одинаковые по сути чувства к врагу. Рассказывали, например, что на вопрос Наполеона, какой лучше идти дорогой, чтобы добраться до Москвы, А. Д. Балашов ответил: «Карл XII шел через Полтаву»2.
Н. Н. Муравьев начинает писать свои воспоминания о войне через три-четыре года после ее завершения. Ф. И. Корбелецкий записывает по свежим следам то, что произошло с ним осенью 1812 г., а уже в 1813 г. (не позднее лета) издает свое «Краткое повествование о вторжении французов в Москву…» В эти документы еще не успела войти другая эпоха, в них нет наслоения новых впечатлений, они живы свежестью чувств и почти так же остро сиюминутны, как стихотворение, вдохновленное победой или навеянное поражением. Между этими мемуарами и изображенными в них событиями еще не встала завеса времени, так часто искажающая и точность виденного, и его оценку. Все показано крупным планом, ибо законы ретроспекции еще не вступили в силу, как, например, в записках А. П. Ермолова и многих других, созданных в более позднее время.
Это имеет особое значение для характеристик и портретов исторических лиц. Замечательный мемуарист середины прошлого века П. М. Ковалевский писал, что «люди известные или выходящие из ряда обыкновенных, представляются большею частию не так, как обыкновенные: они сами себя и их другие иначе не показывают, как с высоты подножия и в праздничном убранстве. От этого получается такое впечатление, как будто все они одним миром мазаны. Подойти к ним поближе, когда они стоят просто и на полу <…>, по-будничному одетые, не показывая себя и даже не подозревая, что на них смотрят,– было бы занимательнее»3.
В мемуарах, написанных «по свежим следам», парадные портреты встречаются не так уж часто. Ни Кутузов, ни Багратион, ни Ермолов еще не поставлены на котурны. В те годы, когда создавались записки о войне 1812 г. и многие другие мемуары, «исторические лица» еще не успели стать историческими. Александр Му-
1 Муравьев Н. Н. Записки.– «Русский архив», 1885, т. 3, № 11, с. 379.
2 Цит. по кн.: Орлик О. В «Гроза двенадцатого года…» – М., 1987, с. 19.
3 Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания.– СПб.,–1912, с. 178.
[11]
равьев еще не помышлял о создании тайного общества, Артамон Муравьев учился в школе колонновожатых, а кавалергард М. С. Лунин вынашивал план убийства Наполеона, храня под изголовьем кривой кинжал, предназначенный для этой цели. Пройдет много лет, прежде чем все эти имена прославятся, а историки начнут искать в мемуарах, записках, дневниках, письмах свидетельства современников, улавливать в «далеких отголосках» значительные и даже самые мелкие факты о жизни человека, запечатлевшего свое имя в летописях отечественной истории. Мемуары – поистине бесценный источник для характеристики исторического лица, для реконструкции его облика, который складывается из многих, подчас разноречивых суждений. И разве краткие, емкие, выразительные рассказы Н. Н. Муравьева о встречах с Луниным не стоят многих страниц пространных описаний Ипполита Оже? Пусть сам читатель судит об этом, но при этом помнит, что даже литературное несовершенство мемуариста не дает историку права пренебрегать его свидетельствами, ибо факты, содержащиеся в записках, часто важнее художественного дарования их автора.
Всегда оставаясь материалом для истории, мемуары в известной мере творят ее, закрепляя в сознании потомков те имена и факты, которые иначе поглотило бы «жерло вечности» (Державин).
Н. Н. Муравьев, еще не зная дальнейшей судьбы Матвея Муравьева-Апостола, вспоминает об участии его в «тайном» полудетском обществе «Чока». Много лет спустя, уже после смерти Матвея Ивановича, наука отнесет участие в «Чоке» к истокам революционной судьбы декабриста.
И пусть мемуаристы творят не только историю, но и мифы – эти мифы не меньше, чем факты, возрождают атмосферу эпохи и показывают внутреннюю сущность явления, подчас закрытую для науки. В этих мифах – подлинное отношение современников к лицу или событию, еще не расчлененное бесстрастным анализом последующих поколений. Вот один из таких мифов в записках Н. Н. Муравьева. 23 августа 1812 г., вспоминал он, Кутузов приехал осматривать позицию. Он остановился на возвышении «в сопровождении главной квартиры и советовался с генералами, как заметили орла, поднявшегося из большой рощи, остававшейся у нас в правой стороне. Он поднимался все выше и выше, наконец, величаво поплыл над нами и как бы остановился над главнокомандующим. Багговут, его первый заметивший, снял фуражку и закричал: «Ein Adler, ach ein Adler!» <«Орел, ах, орел!»> Кутузов, увидя его, снял также фуражку свою, воскликнув: «Победа российскому воинству. Сам бог ее нам предвещает!» Случай этот тотчас сделался известен во всей армии и, конечно, способствовал к вящему ободрению войска. Говорят, что когда привезли в Петербург тело умершего князя Кутузова, то орел сопутствовал церемонии. Я слышал это от очевидцев» (с. 109).
Что нужды в том, что в XVIII в. почти то же самое рассказывали о Суворове? Это важно лишь потому, что молва народная тем самым сблизила два замечательных имени: лучи славы Суворова, к тому времени канонизированного, осветили заменившего его Кутузова.
Задолго до того, как война стала достоянием литературы и истории и даже до того, как были написаны самые первые воспоминания о ней, грандиозность событий вызвала к жизни массу устных рассказов, преданий, легенд. И сами события, и связанные с ними чувства любви к отечеству и гордости за него прочно вошли в сознание народа. Так прочно, что возродились с новой силой более
[12]
ста лет спустя в другой, еще более страшной и тоже Отечественной войне.
1812 г. был для России моментом высшего напряжения и реализации духовных и нравственных сил. Это явственно ощутимо в русских мемуарах. Записки об Отечественной войне, даже при поверхностном знакомстве с ними, кажутся совершенно иными по сравнению с воспоминаниями о многочисленных войнах XVIII века. Блистательные победы екатерининской эпохи, добытые России талантом полководцев и профессиональным умением вести войну, отношение к ней как к «делу», службе, сменилось в 1812 г. иным взглядом человека на участие в ней. Война стала народной, речь шла о земле, с которой был кровно связан каждый русский солдат, о судьбе России. Поэтому записки, воспоминания, дневники и даже просто устные рассказы об этом великом событии совершали свое дело, вселяя из поколения в поколение чувства независимости, патриотизма, национальной гордости. Дети воспитывались на подвигах отцов. «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей «Илиадой» и «Одиссеей»1,– писал Герцен.
Пушкин
Молодые офицеры вернулись с войны совсем не теми, какими ушли на нее. «В продолжение двухлетней тревожной боевой жизни, среди беспрестанных опасностей они привыкли к сильным ощущениям, которые для смелых делаются почти потребностью»2.
Война и заграничные походы возбудили в них пламенный патриотизм, сильные гражданские чувства, нетерпеливо требующие выхода, и жажду действия. Полем для применения обуревавших их чувств могла стать только общественная жизнь.
«Жить с пользою для своего отечества и умереть оплакиваемый друзьями – вот что достойно истинного гражданина»3,– писал М. Ф. Орлов в 1818 г. «Кто действует и живет с тем, чтобы передать имя свое потомству, тот просто честолюбец; добродетельный человек ищет пользы человечества в настоящем и будущем, не заботясь о своем имени, но о следствии деяний»4,– размышлял В. Ф. Раевский в 1820–1821 гг.
Мировоззрение будущих декабристов было стройным и цельным, стремление приносить пользу отечеству – осознанным, поэтому та жизнь, которою жили они до войны, уже не удовлетворяла и не могла удовлетворить их. Они жаждали перемен, усовершенствований, преобразований. Эти люди, писал М. О. Гершензон, «психо-
1 Герцен А. И. Сочинения. В 9-ти т. Т. 4.–М., 1956, с. 21.
2 Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т 2.– Иркутск, 1982, с. 181–182.
3 Цит. по кн.: Гершензон М. О. История молодой России – М.–Пг., 1923, с. 13.
4 Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1.–Иркутск, 1980, с. 85–86.
[13]
логически должны были стать политиками. Им лично, каждому в отдельности, эта психическая насыщенность сообщала удивительный нравственный закал, и потому, когда жизнь поставила на пробу их личное мужество, они во тьме рудников засияли, как драгоценные каменья»1.
«Дней Александровых прекрасное начало» еще до Отечественной войны вселило в них надежду на перемены и желание приносить пользу, которая по возвращении из походов была осмыслена как служение великим идеалам добра и правды.
Рассказывая о первых годах после Отечественной войны, мемуаристы передают удивительную свежесть мыслей и чувств, охвативших русское общество; над Россией витал дух всеобщего обновления. «Я слышал, как люди, возвращавшиеся в С.-Петербург после нескольких лет отсутствия, выражали свое изумление при виде перемены, происшедшей во всем укладе жизни, в речах и даже поступках молодежи этой столицы: она как будто пробудилась к новой жизни, вдохновляясь всем, что было самого благородного и чистого в нравственной и политической атмосфере»,– вспоминал Н. И. Тургенев (с. 273).
Мемуары о возникновении тайных обществ и о самом восстании написаны людьми, претерпевшими сложную духовную эволюцию, прошедшими трагический путь от Сенатской площади и казематов Петропавловской крепости до Кавказа или Сибири.
Время превратило энтузиастов в опытных политиков. Отчасти об этом писал в своих записках М. Бестужев: «Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти»2. С годами, отмечал И. Д. Якушкин, «все более и более пояснялось значение нашего общества, существовавшего девять лет вопреки всем препятствиям, встречавшимся при его действиях; пояснялось также и значение 14 декабря»3.
То, о чем писали в своих мемуарах декабристы, было самыми важными и самыми яркими воспоминаниями их жизни. Однако с годами, в тесном общении друг с другом, в прениях, разговорах и спорах, все явственнее проступала объективная оценка событий и своего участия в них, все ответственнее становилось отношение к пережитому. Нет, разумеется, они не могли и не хотели ничего забыть и простить, и эмоциональное начало то и дело прорывается почти во всех их записках. Но именно прожитые годы, умудренность дорого стоившим опытом делают подчас записки А. В. Поджио так похожими то на политический трактат, то на историческое исследование.
Память о прошлом тесно сплетается в записках декабристов не только с приобретенным опытом, но и с накопленными ими широкими знаниями. Ведь, как известно, эти люди, настойчиво занимавшиеся самообразованием до декабрьских событий, продолжали его в тех страшных условиях, в какие поставила их судьба. Исключительную образованность декабристов со всею очевидностью обнаруживает их литературное наследие.
Мемуары стали для декабристов своего рода трибуной, способом выразить те мысли и взгляды, которые в течение многих лет были достоянием их собственного круга и круга людей, близких к
1 Ге р ш е н з о н М. О. История молодой России, с. 5.
2 Воспоминания Бестужевых.–М.-Л., 1951, с. 146.
3 Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина.– М.-Л., 1951, с. 109.
[14]
ним. Нет нужды в том, что никто из них не знал, представится ли им когда-либо возможность быть услышанными, увидит ли кто-нибудь написанные ими страницы. И что знали бы о них мы, не оставь они своих записок?
Заброшенные на край света российским «правосудием», связанные неусыпным надзором полиции, они делали то, что теперь было для них главным, необходимым и единственно возможным,– писали обвинительное заключение против самодержавия. Обличения нередко бывали страстно-публицистическими, как у А. В. Поджио, философски-сдержанными, как у Н. И. Тургенева, жившего за границей, но чаще всего обличали сами факты, сам материал записок, по сути дела, превратившийся в огромное обвинительное досье на политический строй России. В этом досье с исторической достоверностью воссозданы основные черты эпохи и обусловленные этой эпохой судьбы поколения. Притом записки декабристов были не только обличением и обвинением, но и опровержением единственного известного в ту пору русской публике официального документа – «Донесения следственной комиссии».
Сейчас трудно сказать, что более воздействует на читателя – темпераментное, острое слово А. В. Поджио, пропитанное «горечью и злостью», соединенный с безукоризненной логикой едкий сарказм Н. И. Тургенева или «простодушные» с виду рассказы И. Д. Якушкина и Н. Р. Цебрикова, от которых, по известному латинскому изречению, «камни возопиют».
«Чернышев! Достаточно одного этого имени, чтобы обесславить, опозорить все это следственное дело. <…> Нет хитрости, нет коварства, нет самой утонченной подлости <…>, которых бы не употреблял без устали этот непрестанный деятель для достижения своей цели» (Поджио, с. 362). Или: «Перед судом истории Николай стоять будет не один, стоять будут и все эти государственные чины, присутствовавшие при зарождении его царства» (Поджио, с. 364).
Манера И. Д. Якушкина подчеркнуто объективна: с виду он лишь бесстрастный летописец событий, совершившихся на Сенатской площади и непосредственно предшествовавших им. Внешние, субъективные оценки сознательно выключены из его повествования: за автора говорит сам материал. К тому же Якушкин не был на Сенатской площади 14 декабря и писал об этом событии по рассказам своих друзей.
В рассказе Н. Р. Цебрикова, напротив, со всею очевидностью проступает личное начало: и в оценках, и в отборе реалий и фактов.
Независимо от манеры изложения, личных склонностей их авторов, особенностей характера, объективности или пристрастности все записки декабристов имеют общее свойство: они проникнуты чувством великой ответственности перед Историей и грядущими поколениями. Этим живы они и в наши дни.
Воспоминания, вошедшие в настоящее издание, не исчерпывают и не могут исчерпать огромный и разнообразный мемуарный материал, посвященный первой четверти XIX столетия. Составитель стремился лишь к тому, чтобы дать читателю некоторое представление о записках этой эпохи и главных вехах ее.
Материалы, представленные здесь, расположены по хронологии событий: издание открывают записки об убийстве Павла I, затем
[15]
следуют воспоминания об Отечественной войне 1812 г. и восстании декабристов. Книга завершается мемуарами Ф. Ф. Вигеля и записками П. А. Вяземского, охватывающими всю эпоху в целом.
Составитель стремился познакомить читателя с малоизвестными, давно не печатавшимися мемуарами, хотя в некоторых случаях отступал от этого принципа, учитывая значительность документа: это относится к запискам декабристов, П. А. Вяземского и Ф. Ф. Вигеля.
В отличие от книги «Русские мемуары. XVIII век» (М., 1988), куда вошли мемуары, написанные только по-русски, в настоящем издании публикуются воспоминания, написанные по-французски (Л. Л. Беннигсен, И. Оже, Н. И. Тургенев), по-английски (Н. А. Саблуков) и по-немецки (Е. Ф. фон-Брадке). Это объясняется важностью записок Беннигсена и фон-Брадке, которые почти всю жизнь провели на русской службе, степенью их «участия в русской истории». С другой стороны, записки И. Оже интересны тем, что посвящены малоизвестному периоду жизни М. С. Лунина и до сих пор представляют собой ценный источник информации об одном из замечательных людей декабристской эпохи.
В настоящем издании составитель отступил также и от правила помещать в книге материалы, посвященные только историческим событиям, а не отдельным лицам. Как уже сказано, в книгу вошли записки о Лунине. Публикуются здесь и записки фон-Брадке об Аракчееве и учрежденных им военных поселениях. Эти записки покажут читателю одну из самых мрачных и страшных страниц эпохи.
Из записок Е. Ф. Комаровского сделаны извлечения, относящиеся к началу войны 1812 г., а также приведен его рассказ о знаменитом наводнении в Петербурге в 1824 г.
Чтобы не дробить единые по замыслу и большие по объему записки И. Д. Якушкина, составитель взял из них лишь повествование о 14 декабря 1825 г. представляющее собою цельный и завершенный рассказ.
Предлагая вниманию читателей записки декабристов, составитель преследовал цель показать декабрьские события и то, что им предшествовало, с разных сторон. О возникновении тайных обществ рассказывают воспоминания Н. И. Тургенева; общий взгляд на события представлен записками А. В. Поджио; 14 декабря – И. Д. Якушкина; заключение в Петропавловской крепости – Н. Р. Цебрикова.
Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля извлечено лишь то, что непосредственно относится к литературе и литературным событиям первой четверти XIX в. Из записных книжек П. А. Вяземского приводятся лишь отрывки, тематически связанные с другими материалами книги. Чтобы не нарушать цельности представления читателя о своеобразии литературной манеры Вяземского, составитель объединил его записные книжки, воспоминания о 1812 годе и очерк «Московское семейство старого быта».
Все даты в книге приведены по старому стилю.
Тексты печатаются с соблюдением современных орфографических и синтаксических норм.
Всем мемуарам, помещенным в настоящем издании, предпосланы биографические очерки об их авторах. Очерки о Н. И. Тургеневе, С. В. Скалой, А. В. Поджио, И. Д. Якушкине, Н. Р. Цебрикове, Ф. Ф. Вигеле и П. А. Вяземском написаны В. В. Куниным; очерки о Л. Л. Беннигсене, Н. А. Саблукове, Н. Н. Муравьеве, Ф. И. Корбелецком, Е. Ф. Комаровском, Е. Ф. фон-Брадке и И. Оже – И. И. Подольской.
И. Подольская
[16]
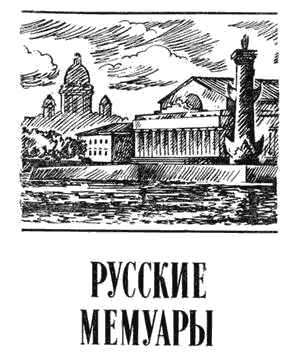
ЛЕОНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ БЕННИГСЕН
(10.11.1745 – 2.V. 1826)
Имя Леонтия Леонтьевича Беннигсена сейчас мало кому известно. Даже историки пишут о нем редко, мало и противоречиво. В одной из последних советских исторических монографий об Отечественной войне 1812 г. генерал Беннигсен вовсе не упомянут1.
Между тем генерал Беннигсен сыграл значительную роль в русской истории XIX века, и было время, когда известность его выходила далеко за пределы России. Долгая жизнь генерала (он прожил 81 год), полная взлетов и падений, несомненно, заслуживает пристального интереса. Звезда его то сияла высоко в зените, то внезапно меркла, чтобы потом вспыхнуть снова, правда, уже не так ярко.
Начнем с портрета.
«Граф Беннигсен <…> был длинный, сухой, накрахмаленный и важный, словно статуя командора из „Дон-Жуана“» (княгиня Д. X. Ливен)2. Беннигсен «высокий, сухощавый, с длинным лицом и орлиным носом, с видной осанкой, прямым станом и холодной физиономией» (А.Ф. Воейков)3. Генерал «длинный, как шест, сухой, хладнокровный, как черепаха» (А. И. Тургенев)4.
Таким запомнили Леонтия Леонтьевича современники.
С известного портрета Беннигсена работы Дж. Доу, который занимает почетное место в Галерее героев Отечественной войны 1812 г. в Эрмитаже, на нас смотрит немолодой уже генерал с высоким лбом, массивным подбо-
1 Орлик О. В. «Гроза двенадцатого года…» – М.: Наука, 1987.
2 Цареубийство 11 марта 1801 г.– СПб., 1908, с. 181.
3 Исторический сборник Вольной русской типографии.– Лондон, кн. II, 1861, с. 126.
4 Цит. по кн.: Эйдельман. Н. Я. Грань веков.– М., 1982, с. 297.
[19]
родком и длинным носом, нависающим над тонкими, словно застывшими в полуулыбке губами. Лицо его выражает ум, волю, настойчивость. В его светлых глазах скрыта затаенная мысль. Людей такого типа в России испокон веков называют «себе на уме».
Левин Август Теофил Беннигсен происходил из старинного ганноверского дома в Германии. Некоторые биографы пишут, что его призвание к военной службе определилось очень рано: уже десятилетним мальчиком, состоя пажем при короле Георге II, Беннигсен усердно занимался военными науками, чертил карты, учился верховой езде. Видимо, тогда же начали проявляться главные черты его характера – твердость, упорство, выносливость и методичность.
С этим редким запасом качеств, необходимых для военной карьеры, юный Беннигсен вступил в жизнь. Подростком 14 лет он был произведен в прапорщики пешей гвардии, спустя 4 года – в капитаны. В этом чине участвовал он в последней кампании известной Семилетней войны.
Смерть отца круто переменила его жизнь. Беннигсен вступил в обладание богатым родовым имением Бантельн. Деньги вскружили ему голову: он вышел в отставку и со всей безудержностью молодости предался тому, что ранее было ему недоступно. Светская жизнь, любовные похождения, многолюдные и шумные пиры – он с лихвой возмещал то, чего не мог позволить себе прежде. «Его чрезмерная страсть к прекрасному полу вызвала в то время больше толков, нежели его военные подвиги. <…> вследствие расточительного образа жизни он безнадежно запутался в долгах и <…> решил для восстановления своего состояния поступить на русскую военную службу»1.
Подполковнику Беннигсену было 28 лет, когда он перешел на русскую службу, не сменив, однако, своего подданства. В те времена это был случай нередкий: офицеры-иностранцы отправлялись в Россию искать чинов, почестей и наград.
В России жизнь Беннигсена снова вошла в прежнюю размеренную колею; в сдержанном, исполнительном, замкнутом молодом офицере никто не узнал бы прежнего повесу и гуляку.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIV.–М., 1959, с. 113.
[20]
В начале 1774 г. Беннигсен определился премьер-майором в Вятский мушкетерский полк. Одно только перечисление дел и боев, в которых участвовал ганноверский офицер, находясь на русской службе, вероятно, заняло бы несколько страниц печатного текста. Скажем только, что уже штурм Очакова (1788 г.) и предшествующие ему сражения утвердили за Беннигсеном репутацию храброго, решительного и исключительно хладнокровного человека.
Впрочем, известность пришла к нему позже, в польскую кампанию 1794 г. с легкой руки Суворова, пожаловавшего Беннигсена за несколько успешных операций генерал-майорским чином. «Во время польской кампании он обнаружил качества хорошего кавалерийского офицера – пыл, отвагу, быстроту,– но не выявил более высокого призвания, необходимого для командующего армией»1. Это «высокое призвание» не пришло к нему никогда: во всю свою жизнь Беннигсен не знал озарений. Он рожден был исполнителем, а не творцом. Поэтому самою судьбой ему всегда была уготована второстепенная роль; он же стремился быть первым, и это несоответствие желаний и возможностей разжигало в нем мучительное честолюбие.
Тем не менее именно в польскую кампанию о Беннигсене заговорили как об «офицере отличных достоинств». Осенью 1794 г. награды посыпались на него щедро, как из рога изобилия: 15 сентября – орден св. Георгия 3-й степени; 24 сентября – золотая, украшенная бриллиантами шпага с надписью: «За храбрость»; 2 октября – орден св. Владимира 2-й степени большого креста и, наконец, 1080 душ в Минской губернии. Тогда же – и это тоже было удачей – Леонтий Леонтьевич познакомился с В. А. Зубовым, братом всесильного в ту пору фаворита Екатерины. А через него – со всеми Зубовыми и людьми, близкими к ним, в частности с графом Петром Алексеевичем Паленом.
Знакомства эти имели далеко идущие последствия: через несколько лет они привели ганноверца к участию в заговоре против Павла I. Но пока, в последние годы царствования Екатерины, все складывалось для генерала спокойно и удачно. Вместе с В. А. Зубовым в качестве начальника штаба Беннигсен отправился на Персидскую войну, участвовал в кровопролитном штурме Дербента
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIV, с. 114.
[21]
и был пожалован в начале июня 1796 г. орденом св. Анны 1-й степени. Это была высокая награда.
С воцарением Павла судьба Беннигсена изменилась. Правда, в феврале 1798 г. он был произведен по старшинству в генерал-лейтенанты, а вскоре на больших московских маневрах его похвалил сам император, но Леонтий Леонтьевич чувствовал его недоверие к себе. И недаром. Беннигсен в представлении Павла был «человеком Зубовых», а Зубовы – первыми врагами. «На плаву» при Павле удержался граф Пален, но на его поддержку рассчитывать было нельзя.
В одном из вариантов своих воспоминаний о цареубийстве Беннигсен писал: «Недоверчивый характер Павла заставил его также со времени восшествия его на престол уволить или исключить из службы придворной, военной и гражданской всех тех, кто привязан был к Екатерине II. Число этих лиц в течение четырех лет и четырех месяцев времени царствования Павла простиралось до нескольких тысяч, а это вызвало отчаяние огромного количества семейств, лишившихся средств к существованию и даже убежища, так как никто не осмеливался принимать у себя высланного из боязни навлечь и на себя подозрение»1.
Над генералом постепенно сгущались тучи.
В сентябре 1798 г. Павел позвал к себе фельдмаршала Н. И. Салтыкова и, беседуя с ним, как бы между прочим заметил, что сомневается в усердии Беннигсена, что и попросил приватно передать генералу.
Выбора не было. Беннигсен подал в отставку и отправился в свое имение в Минской губернии.
Тем временем в Петербурге назревал заговор против Павла. Главой заговора был уже известный нам граф П. А. Пален. Все недовольные императором группировались вокруг Зубовых: в ту пору они стали словно живой памятью о временах Екатерины, а потому еще более живым укором временам Павловым.
«Личная обеспеченность,– писал М. Е. Салтыков-Щедрин о своей эпохе,– это такое дело, что ежели я сижу смирно, то и личность моя обеспечена, а ежели я начну фыркать да фордыбачить, то, разумеется, никто за это меня не похвалит»2. При Павле даже такой «обес-
1 «Исторический вестник», 1917, № 5–6, с. 547.
2 Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений и писем. В 20-ти т. Т. XIV –М., 1972, с. 82.
[22]
печенности» не было. Сегодняшний фаворит мог завтра отправиться в ссылку, подвергнуться любому унизительному наказанию.
Недовольство Павлом нарастало с каждым днем.
В начале 1801 г. граф Пален тайно вызывает Беннигсена в Петербург. День цареубийства еще не назначен, хотя дело уже решено; пронырливый и расчетливый Пален знает, что для приведения заговора в исполнение ему необходим именно Беннигсен, решительный и осторожный, хитрый и исполнительный.
В каждом из вариантов своих записок Беннигсен сознательно умалял значение своего участия в заговоре. По странной иронии судьбы он, всегда мечтавший о главной роли, не смог и не захотел признаться в том, что сыграл ее. Имея большой жизненный опыт и зная характер Александра I, «длинный Кассиус» (как назвал Беннигсена Гете; Кассий – убийца Цезаря) почел за лучшее уступить первенство в этом деле другим – Палену, Зубовым. В записках генерала читатель, без сомнения, заметит стремление доказать свое алиби, а тем самым обрести право на всю оставшуюся жизнь считать свои руки чистыми, не запачканными Павловой кровью.
Человек большой и безоглядной личной храбрости, Беннигсен, как почти все люди такого склада, не был жесток. Убийство было противно его натуре. Он сознавал его неизбежность, но желал, чтобы оно совершилось без его участия.
М. А. Фонвизин, будущий декабрист, знал подробности той страшной ночи от своего двоюродного брата А. В. Аргамакова, который провел цареубийц в Михайловский замок. С его слов Фонвизин писал: «В начале этой гнусной, отвратительной сцены Беннигсен вышел в предспальную комнату, на стенах которой расставлены были картины, и с свечкой в руке преспокойно рассматривал их. Удивительное хладнокровие! Не скажу – зверское жестокосердие, потому что генерал Беннигсен во всю свою службу известен был как человек самый добродушный и кроткий. Когда он командовал армией, то всякий раз, как ему подносили подписать смертный приговор какому-нибудь мародеру, пойманному за грабеж, он исполнял это как тяжкий долг, с горем, с отвращением и делая себе насилие»1.
1 Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2.– Иркутск, 1982, с. 143.
[23]
Быть может, именно потому, что алиби было доказано или почти доказано, Александр I, терзаемый противоречивыми чувствами (угрызения совести и радость вступления на престол), не отправил Беннигсена в опалу. Генерал даже принимал участие в торжественной церемонии коронации. Литератор А. Ф. Воейков вспоминал: «В первый раз я встретил Беннигсена в Кремлевском дворце в день коронации императора Александра и с невольным почтением остановился пред этой величавой фигурой»1.
В июне 1802 г. Беннигсен получил первое изъявление монаршей благодарности – чин генерала от кавалерии. Однако, не желая, чтобы «длинный Кассиус», как живой укор, вечно напоминал ему о грехе отцеубийства, Александр удалил его из Петербурга в Литовскую губернию – к войскам. Двойственное отношение к Беннигсену Александр сохранил до конца жизни.
Звезда Беннигсена на время померкла. Два года провел он вдали от столичного шума, в уединении и забвении. О себе он не напоминал, в Петербург не просился, но кто знает, может быть, и теплилась в нем надежда на новый, благоприятный для него поворот судьбы.
Действительность скоро превзошла его ожидания, ибо жизнь, с ее неисчерпаемыми возможностями, оказалась богаче самых дерзких фантазий генерала.
В 1804 г., в преддверии войны с Наполеоном, Александр вызвал Беннигсена в столицу. Очень скоро его карьера, словно поднятая девятым валом, взмыла высоко вверх. Но 1805 год еще не принес генералу особых перемен. Он командует корпусом и после Аустерлицкого сражения отправляется на помощь Австрии. Известие о Пресбургском мире возвращает его в столицу. И это пока все.
Но время словно работает на Беннигсена. «Зима 1806–1807. Апофеоз Беннигсена. О нем снова (второй раз после цареубийства.– И. П.) говорят во всем мире: выстоял против Наполеона при Эйлау; непобедимый император не победил»2.
Денис Давыдов, очевидец и участник тех давних боев, относился к генералу трезво и не без доли иронии. Тем интереснее его свидетельство: «Среди бури ревущих
1 Из записок А. Ф. Воейкова.– «Исторический сборник Вольной русской типографии». Кн. II –Лондон, 1861, с. 126.
2Эйдельман Н. Записки Беннигсена.– Сб.: Встречи с книгой.–М., 1979, с. 312.
[24]
ядр и лопавшихся гранат, посреди упадших и падавших людей и лошадей, окруженный сумятицею боя и облаками дыма, возвышался огромный Беннигсен, как знамя чести. К нему и от него носились адъютанты; известия и повеления сменялись известиями и повелениями; скачка была беспрерывная, деятельность неутомимая; но положение армии тем не исправилось, потому что все мысли, все намерения, все распоряжения вождя нашего – все дышало осторожностью, расчетливостью, произведениями ума точного, основательного, сильного для состязания с умами такого же рода, но не со вспышками гения и с созданиями внезапности, ускользающими от предусмотрений и угадываний, основанных на классических правилах»1.
Вдохновения не было; именно отсюда «осторожность, расчетливость» не уверенного в себе человека.
В конце декабря 1806 г. он выиграл битву при Пултуске. Эта победа, одержанная благодаря численному превосходству русской армии, была гораздо скромнее, чем пышное донесение о ней императору, принятое с радостью и благодарностью. Петербург, уставший от известий о поражениях, ликовал. Менее проницательные увидели в Беннигсене достойного соперника Наполеона. Другие, более дальновидные, рассуждали примерно так, как Денис Давыдов: «Но оттого, что уже не было Суворова, нельзя было пренебрегать Беннигсена, полководца не без замечательных достоинств по многим отношениям»2. Александр «не пренебрег». Беннигсен был назначен главнокомандующим.
В конце января – начале февраля 1807 г. произошло сражение у Прейсиш-Эйлау. Ценою невероятных жертв и стойкости русских войск Беннигсен отразил французов. «Каждая из сторон претендовала на право считаться победительницей, но, как бы то ни было, по словам самого Наполеона, битва при Эйлау была самым кровопролитным из всех его сражений»3.
Беннигсен отправил в Петербург очередную реляцию о победе и 8 февраля получил ответ Александра: «Вы легко можете представить себе, генерал, радость, испытанную мною при вести о счастливом исходе сражения при Прейсиш-Эйлау. Вам, генерал, уготована была сла-
1 Давыдов Д. Сочинения.–М., 1962, с. 221,
2 Там же, с. 216.
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIV, с. 115.
[25]
ва быть победителем того, кто до сих пор не был побежден. Для меня очень приятно выразить Вам и свою благодарность, и благодарность всего отечества. Курьеру поручено доставить Вам от моего имени знак ордена св. Андрея Первозванного, а вместе с тем я дал повеление министру финансов о назначении Вам ежегодной пенсии в 12 тысяч рублей»1.
После неполной, незавершенной победы у Прейсиш-Эйлау начались неудачи: дезорганизация армии, недостаток боевых запасов и провианта и в довершение всего крупное поражение при Фридланде. Счастье, кратковременное и неверное, покинуло его. Он понял, что пост главнокомандующего пора оставить и что лучше уйти с честью.
На склоне лет генерал любил рассказывать, как сопровождал императора Александра в Тильзит и как Наполеон, обратясь к нему, Беннигсену, сказал: «Вы были злы под Эйлау. Я всегда любовался вашим дарованием, еще более вашею осторожностью». Комментируя этот рассказ, Денис Давыдов заметил с усмешкой: «Самолюбие почтенного старца-воина приняло эту полуэпиграмму за полный мадригал, ибо во мнении великих полководцев осторожность почитается последней военной добродетелью, предприимчивость и отважность – первыми. Этот анекдот рассказывал мне Беннигсен несколько раз, и каждый раз с новым удовольствием»2. Д. Давыдов не совсем прав: Беннигсен не принял слов Наполеона «за полный мадригал». Генералу нравилось повторять этот рассказ потому, что он неопровержимо вводил его в Историю, и, может быть, еще больше потому, что именно здесь самим Наполеоном, первый и единственный раз в жизни Беннигсена, было произнесено слово «дарование». Все остальное было не так уж важно.
Это магическое слово – ключ к Беннигсеновой натуре. Не было у него дарования, и он знал об этом. Отсюда личная храбрость и тактическая нерешительность. Два конца одной палки, две параллельные линии, которые никогда не сойдутся; узел противоречий: «…все его поведение представляло удивительное сочетание безрассудной опрометчивости и беспомощной нерешительности»3.
Оставив пост главнокомандующего, Беннигсен – уже в который раз! – притих, словно затаился.
1 «Исторический вестник», 1917, № 5–6, с. 565.
2 Давыдов Д. Сочинения, с. 246–247.
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIV, с. 115.
[26]
«Настал 1812 год, памятный каждому русскому, тяжкий потерями, знаменитый блистательною славою в роды родов!»1 – писал генерал А. П. Ермолов.
В июне 1812 г. Беннигсен вернулся в армию. Он сразу же начал ссориться с Барклаем-де-Толли, упрекая его в нерешительности (!), укоряя за отступление. Он провел в армии два месяца без назначения, без определенных дел. Только 18 августа Кутузов назначил его начальником Главного штаба. Поначалу их отношения сложились вполне благоприятно. Правда, легкая тень омрачила их на военном совете в Филях, когда Беннигсен, выбрав позицию под Москвой, предложил ожидать неприятеля и дать сражение. Но тень скоро рассеялась, и Кутузов считал полезным и нужным пользоваться советами и «спомоществованием» бывшего главнокомандующего. Об этом говорят документы.
В начале сентября 1812 г. полковник А. И. Чернышев привез фельдмаршалу план военных действий, составленный Александром I. Кутузов план посмотрел, но сказал Чернышеву, что «не хочет он без совета генерала Беннигсена решиться…»2. Что это: истинное доверие к генералу или неведомая нам политика, соблюдение условий неизвестной игры?
29 сентября, представляя Беннигсена к награждению за сражение при Бородине, Кутузов писал о нем Александру: «…с самого приезда моего к армии <Беннигсен> во всех случаях был мне усерднейшим помощником; в деле же 26 августа <…> генерал Беннигсен советами своими усердно мне спомоществовал, находясь лично в опаснейших местах»3. Храбрость Беннигсена нас не удивляет, однако ведь генералу уже под 70 лет…
Под Тарутиным слава блеснула старому генералу еще раз, но уже последними, заходящими лучами. Он командовал тремя корпусами, назначенными для атаки. «Лестнее всего,– сообщал Кутузов Александру,– при сей победе тишина и порядок, сохраненные во всех колоннах. Некоторые свидетели уподобляют действо войск сего дня учебному маневру, с рачением приготовленному»4.
1 Записки генерала Ермолова.– «Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете». 1864, № 4, с. 119.
2 Кутузов М. И. Сборник документов. Т. IV, ч. 1.–М., 1954, с. 266.
3 Там же, с. 196.
4 Там же, т. IV, ч. 2.–М., 1955, с. 19.
[27]
К концу октября между Беннигсеном и Кутузовым начинаются разногласия. Генерал недоволен «пассивностью» светлейшего и жалуется на него царю. В ноябре фельдмаршал удаляет Беннигсена из армии.
Здесь следовало бы поставить точку, ибо на этом, по сути дела, кончается военная слава генерала. Однако был еще и постскриптум: после смерти Кутузова Беннигсен вновь был поставлен во главе русских войск, правда, тех, что были в тылу действующей армии, в герцогстве Варшавском и Литовском. Он участвовал в сражениях под Дрезденом, Лейпцигом, Гамбургом, получил орден св. Георгия 1-й степени. Но все шло как-то вяло, совсем не так, как в былые времена. Он стал чувствовать возраст и просился в отставку. Александр не возражал.
С 1818 г. Беннигсен жил в Ганновере, но до самой смерти живо интересовался событиями, происходившими в России.
ЛИТЕРАТУРА
Маркс К. и Энгельс Ф. Беннигсен.– Сочинения. Т. XIV.– М., 1959.
Кутузов М. И. Сборник документов. Т. IV, ч. 1–2.– М., 1954–1955.
Эйдельман Н. Записки Беннигсена.– Сб.: Встречи с книгой.– М., 1979.
Эйдельман Н. Грань веков.– М., 1982.
Вы сами видите, генерал1, что такое положение дел, такое замешательство во всех отраслях правления, такое всеобщее недовольство, охватившее не только население Петербурга, Москвы и других больших городов империи, но и всю нацию, не могло продолжаться и что надо было рано или поздно предвидеть падение империи.
Основательные опасения вызвали, наконец, всеобщее желание, чтобы перемена царствования предупредила несчастия, угрожавшие империи. Лица, известные в публике своим умом и преданностью отечеству, составили с этой целью план. Его приписывали графу Панину2, занимавшему пост вице-канцлера империи, и генералу Де Рибасу3, из адмиралтейской коллегии. На кого им было лучше направить свои взоры, как не на законного наследника престола, на великого князя, воспитанного своей бабкой, бессмертной Екатериной II, которой Россия обязана осуществлением обширных замыслов Петра I и в особенности своим значением за границей,– словом, на этого великого князя, которого народ любил за прекрасные качества, обнаруженные им еще в юности, и на которого он смотрел теперь как на избавителя,– единственно, кто мог удержать Россию на краю пропасти, куда она неминуемо должна была ввергнуться, если продолжится царствование Павла.
Вследствие этого граф Панин обратился к великому князю4. Он представил ему те несчастия, какие неминуемо должны явиться результатом этого царствования, если оно продлится; только на него одного нация может возлагать доверие, только он один способен предупредить роковые последствия, причем Панин обещал ему арестовать императора и предложить ему, великому князю, от имени нации бразды правления5. Граф Панин и генерал Де Рибас были первыми, составившими план этого переворота. Последний так и умер, не дождавшись осуществления этого замысла, но первый не терял надежды спасти государство. Он сообщил свои мысли военному губернатору, графу Палену6. Они еще раз говорили об этом великому князю Александру и убеждали его согласиться на переворот, ибо революция, вызванная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня-завтра, и уже тогда трудно будет предвидеть ее последствия. Сперва Александр отверг эти предложения7,
[29]
противные чувствам его сердца. Наконец, поддавшись убеждениям, он обещал обратить на них свое внимание и обсудить это дело столь огромной важности, так близко затрагивающее его сыновние обязанности, но, вместе с тем, налагаемое на него долгом по отношению к его народу. Тем временем граф Панин, попав в опалу8, лишился места вице-канцлера, и Павел сослал его в его подмосковное имение, где он, однако, не оставался праздным. Он сообщал графу Палену все, что мог узнать о мнениях и недовольстве столицы, на которую можно было смотреть, как на орган всей нации. Он советовал спешить, чтобы предупредить опасные следствия отчаяния и нетерпения, с какими общество жаждало избавиться от этого железного гнета, становящегося тем более тягостным, что находилось немало личностей, достаточно гнусных и корыстных, чтобы исполнять втайне роль шпионов в городах, где они втирались в общество, подслушивали, что там говорится, и часто одного доноса этих людей было достаточно, чтобы сделать несчастными множество лиц и целые семейства. Нельзя без чувства презрения вспомнить, что в числе этих низких рабов, занимавшихся ремеслом шпионов в городах империи, встречались люди всех слоев общества, даже принадлежавшие к известным, уважаемым семьям.
Павел был суеверен. Он охотно верил в предзнаменования. Ему, между прочим, предсказали, что если он первые четыре года своего царствования проведет счастливо, то ему больше нечего будет опасаться, и остальная жизнь его будет увенчана славой и счастием. Он так твердо поверил этому предсказанию, что по прошествии этого срока издал указ, в котором благодарил своих добрых подданных за проявленную ими верность и, чтобы доказать свою благодарность, объявил помилование всем, кто был сослан им, или смещен с должности, или удален в поместья, приглашая их всех вернуться в Петербург для поступления вновь на службу. Можно себе представить, какая явилась толпа этих несчастных. Первые были все приняты на службу без разбора, но вскоре число их возросло до такой степени, что Павел не знал, что с ними делать. Пришлось отослать назад всех остальных, что подало повод к новым недовольствам в стране, когда увидали возвращение большинства этих несчастных в Петербург из внутренних областей империи, большею частью пешком, и оставшихся без всяких средств к жизни. До сих пор множество людей, можно сказать, боль-
[30]
шая часть нации, выносили этот железный гнет с терпением и твердостью в надежде на будущее более светлое и счастливое, ибо каждый предвидел и сознавал в глубине души, что такое несчастное положение не может продлиться долго, как вдруг одна жестокая выходка Павла довершила ряд его несправедливостей и сумасбродств.
Двое молодых людей, один военный, другой штатский, оба из хороших фамилий, поссорились между собой9 и дрались на дуэли из-за одной молодой дамы, пользовавшейся благосклонностью императора. Штатский был сильно ранен в руку. В этом состоянии его отвезли к матери, у которой он был единственным сыном. Можно себе представить ее горе. Павел ревновал к этому молодому человеку. Узнав о случившемся, он не мог удержать своей радости и выразил ее в одобрительных восклицаниях по адресу молодого офицера, которого он обласкал при первом же свидании. Но скоро снова пробудился его гнев против другого. Он приказал немедленно арестовать его и отвезти в крепость. Полиция явилась к раненому в тот момент, когда врачи наложили первую перевязку, предписав больному лежать в постели в спокойном состоянии, чтобы избежать кровоизлияния, которое могло оказаться смертельным, так как он был очень истощен.
Легко себе представить состояние матери. Никакие слезы, никакие доводы насчет опасности, какой подвергнется ее сын, если его будут перевозить в таком положении, не оказали ни малейшего действия. Полицейские чины, не смея медлить с исполнением приказаний, отданных самим императором, перевезли больного как есть, вместе с постелью и со всякими предосторожностями, прямо в крепость. Когда доложили императору об аресте молодого человека и о том, в каком состоянии он был доставлен в крепость, он спросил: «А мать что сказала?» На ответ, что она плачет и что ее положение внушает жалость, он приказал немедленно выслать ее из города; полиция поспешила это исполнить, и еще до наступления ночи почтенная и несчастная женщина была выпровождена за заставу, где она, однако, пробыла спрятанной несколько дней в одном доме, чтобы быть поближе от раненого сына; затем только она уехала к родным, жившим вдали от столицы. К этому варварскому поступку прибавились и другие, столь же бесчеловечные, и меня завлекло бы это слишком далеко, если б я стал их все
[31]
перечислять. Я обязан, однако, упомянуть о поступках, которые он проделывал в собственной семье и которые были не лучше, потому что касались лиц, наиболее ему близких и наиболее любимых народом.
Убежденный, что нельзя терять ни минуты, чтобы спасти государство и предупредить несчастные последствия общей революции, граф Пален опять явился к великому князю Александру, прося у него разрешения выполнить задуманный план, уже не терпящий отлагательства10. Он прибавил, что последние выходки императора привели в величайшее волнение все население Петербурга различных слоев и что можно опасаться самого худшего.
Наконец, принято было решение овладеть особой императора и увезти его в такое место, где он мог бы находиться под надлежащим надзором и где бы он был лишен возможности делать зло. Вы сейчас увидите, генерал, что эта мера, сделавшаяся неизбежной, обернулась совершенно неожиданным образом, какого никто не мог и предвидеть.
11-го (23-го) марта 1801 г., утром, я встретил князя Зубова11 в санях, едущим по Невскому проспекту. Он остановил меня и сказал, что ему нужно переговорить со мной, для этого он желает поехать ко мне на дом. Но, подумав, он прибавил, что лучше, чтобы нас не видели вместе, и пригласил меня к себе ужинать. Я согласился, еще не подозревая, о чем может быть речь, тем более что я собирался на другой день выехать из Петербурга в свое имение в Литве. Вот почему я перед обедом отправился к графу Палену просить у него, как у военного губернатора, необходимого мне паспорта на выезд. Он отвечал мне: «Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе,– и добавил,– князь Зубов вам скажет остальное». Я заметил, что все время он был очень смущен и взволнован. Так как мы были связаны дружбой издавна, то я впоследствии очень удивлялся, что он не сказал мне о том, что должно было случиться; хотя все со дня на день ожидали перемены царствования, но, признаюсь, я не думал, что время уже настало12. От Палена я отправился к генерал-прокурору Обольянинову13, чтобы проститься, а оттуда часов в десять приехал к Зубову. Я застал у него только его брата, графа Николая14, и трех лиц, посвященных в тайну,– одно было из сената15, и это лицо должно было доставить туда приказ собраться, лишь только арестуют императора. Граф Па-
[32]
лен позаботился о том, чтобы были заготовлены необходимые приказы, начинавшиеся словами: «По высочайшему повелению» и предназначенные для арестования нескольких лиц в первый же момент.
Князь Зубов сообщил мне условный план, сказав, что в полночь совершится переворот. Моим первым вопросом было: кто стоит во главе заговора? Когда мне назвали это лицо16, тогда я, не колеблясь, примкнул к заговору, правда, шагу опасному, однако необходимому, чтобы спасти нацию от пропасти, которой она не могла миновать в царствование Павла. До какой степени эту истину все сознавали, видно из того, что, несмотря на множество лиц, посвященных в тайну еще накануне, никто, однако, ее не выдал.
Немного позже полуночи я сел в сани с князем Зубовым, чтобы ехать к графу Палену. У дверей стоял полицейский офицер, который объявил нам, что граф у генерала Талызина17 и там ждет нас. Мы застали комнату полной офицеров; они ужинали у генерала, причем большинство находились в подпитии,– все были посвящены в тайну. Говорили о мерах, которые следует принять, а между тем слуги беспрестанно входили и выходили из комнаты. Кто-нибудь из них, руководимый желанием составить себе блестящую карьеру, легко мог бы незаметно проскользнуть вон из дому, броситься в Михайловский замок и там предупредить о заговоре. После узнали, что накануне множество лиц в городе знали о готовящемся ночью событии, и все-таки никто не выдал тайны: это доказывает, до какой степени всем опротивело это царствование и как все желали его конца.
Условились, что генерал Талызин соберет свой гвардейский батальон во дворе одного дома, неподалеку от Летнего сада; а генерал Депрерадович18 – свой, также гвардейский батальон – на Невском проспекте, вблизи Гостиного двора. Во главе этой колонны будут находиться военный губернатор и генерал Уваров19, а во главе первой – князь Зубов, его два брата, Николай и Валериан20, и я; нас должны были сопровождать несколько офицеров, как гвардейских, так и других полков, стоявших в Петербурге, офицеров, на которых можно было положиться. Граф Пален со своей колонной должен был занять главную лестницу замка, тогда как мы с остальными должны были пройти по потайным лестницам, чтобы арестовать императора в его спальне.
[33]
Проводником нашей колонны был полковой адъютант императора, Аргамаков21, знавший все потайные ходы и комнаты, по которым мы должны были пройти, так как ему ежедневно по нескольку раз случалось ходить по ним, принося рапорты и принимая приказания своего повелителя. Этот офицер повел нас сперва в Летний сад, потом по мостику и в дверь, сообщавшуюся с этим садом, далее по лесенке, которая привела нас в маленькую кухоньку, смежную с прихожей перед спальней Павла. Там мы застали камер-гусара, который спал крепчайшим сном, сидя и прислонившись головой к печке. Из всей толпы офицеров, сначала окружавших нас, оставалось теперь всего человека четыре; да и те, вместо того чтобы вести себя тихо, напали на лакея; один из офицеров ударил его тростью по голове, и тот поднял крик. Пораженные, все остановились, предвидя момент, когда общая тревога разнесется по всем комнатам. Я поспешил войти вместе с князем Зубовым в спальню, где мы действительно застали императора уже разбуженным этим криком и стоящим возле кровати, перед ширмами. Держа шпаги наголо, мы сказали ему: «Вы арестованы, ваше величество!» Он поглядел на меня, не произнося ни слова, потом обернулся к князю Зубову и сказал ему: «Что вы делаете, Платон Александрович?» В эту минуту вошел в комнату офицер нашей свиты и шепнул Зубову на ухо, что его присутствие необходимо внизу, где опасались гвардии; что один поручик не был извещен о перемене, которая должна совершиться. Несомненно, что император никогда не оказывал несправедливости солдату и привязал его к себе, приказывая при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском гарнизоне. Тем более должны были бояться этой гвардии, что граф Пален не прибыл еще со своей свитой и батальоном для занятия главной лестницы замка, отрезавшей всякое сообщение между гвардией и покоями императора.
Князь Зубов вышел, и я с минуту оставался с глазу на глаз с императором, который только глядел на меня, не говоря ни слова. Мало-помалу стали входить офицеры из тех, что следовали за нами. Первыми были подполковники Яшвиль, брат артиллерийского генерала Яшвиля, майор Татаринов и еще несколько других. Я должен здесь прибавить, что, так как за последнее время было сослано и удалено со службы громадное количество офицеров всех чинов, то я уже не знал почти ни-
[34]
кого из тех, кого теперь видел перед собой, и они тоже знали меня только по фамилии. Тогда я вышел, чтобы осмотреть двери, ведущие в другие покои; в одном из них, между прочим, были заперты шпаги арестованных офицеров. В эту минуту вошли еще много офицеров. Я узнал потом те немногие слова, какие произнес император по-русски,– сперва: «Арестован, что это значит – арестован?» Один из офицеров отвечал ему: «Еще четыре года тому назад с тобой следовало бы покончить!» На это он возразил: «Что я сделал?» Вот единственные произнесенные им слова.
Офицеры, число которых еще возросло, так что вся комната наполнилась ими, схватили его и повалили на ширмы, которые были опрокинуты на пол. Мне кажется, он хотел освободиться от них и бросился к двери, и я дважды повторил ему: «Оставайтесь спокойным, ваше величество,– дело идет о вашей жизни!»
В эту минуту я услыхал, что один офицер, по фамилии Бибиков, вместе с пикетом гвардии вошел в смежную комнату, по которой мы проходили. Я иду туда, чтобы объяснить ему, в чем будет состоять его обязанность, и, конечно, это заняло не более нескольких минут. Вернувшись, я вижу императора, распростертого на полу. Кто-то из офицеров сказал мне: «С ним покончили!» Мне трудно было этому поверить, так как я не видел никаких следов крови. Но скоро я в том убедился собственными глазами. Итак, несчастный государь был лишен жизни непредвиденным образом22 и, несомненно, вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции, которая, как я уже сказал, являлась необходимой. Напротив, прежде было условлено увезти его в крепость, где ему хотели предложить подписать акт отречения от престола.
Припомните, генерал, что было много выпито вина за ужином, предложенным генералом Талызиным офицерам, бывшим виновниками этой сцены, которую, к несчастью, нельзя вычеркнуть из истории России. Должен прибавить, что граф Пален, обращаясь к этим офицерам, сказал им, между прочим: «Господа, чтобы приготовить яичницу, необходимо разбить яйца». Не знаю, с каким намерением было употреблено это выражение, но эти слова могли подать повод к ложным толкованиям. <…>
Весть о кончине Павла с быстротою молнии пронеслась по всему городу еще ночью. Кто сам не был очевидцем этого события, тому трудно составить себе понятие
[35]
о том впечатлении и о той радости, какие овладели умами всего населения столицы. Все считали этот день днем избавления от бед, тяготевших над ними целых четыре года. Каждый чувствовал, что миновало это ужасное время, уступив место более счастливому будущему, какого ожидали от воцарения Александра I. Лишь только рассвело, как улицы наполнились народом. Знакомые и незнакомые обнимались между собой и поздравляли друг друга с счастьем – и общим, и частным для каждого порознь. <…>
Вы видите, генерал, что мне нечего краснеть за то участие, какое я принимал в этой катастрофе. Не я составлял план ее. Я даже не принадлежал к числу тех, кто хранил эту тайну, так как я не был извещен о ней до самого момента осуществления переворота, когда все уже было условлено и решено. Я не принимал также участия в печальной кончине этого государя. Конечно, я не согласился бы войти в комнату, если бы знал, что есть партия, замышлявшая лишить его жизни.
Я подробно изложил вам, генерал, абсолютную необходимость перемены правления. Никогда смерть монарха не вызывала такой всеобщей радости среди народа, какую произвела кончина Павла I, и никогда ни один государь не был приветствуем с таким единодушным восторгом при воцарении, как Александр I, от царствования которого народ ожидает величайших благ. <…>
[36]
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САБЛУКОВ
(1.1.1776–20.IV.1848)
Николай Александрович Саблуков происходил из старинного дворянского рода. Дед его, Александр Ульянович, был кофишенком императрицы Елизаветы Петровны и в знак благодарности за усердие получил от нее не одно поместье. Богатство семьи было приумножено стараниями Александра Александровича Саблукова: он начал свою служебную карьеру в год воцарения Екатерины II, пережил пятерых монархов и умер в 1826 г. в чине действительного тайного советника. Судьба не обошла его ни почетом, ни царскими милостями: Екатерина II украсила грудь его Владимирским крестом и Анненской лентою, Павел пожаловал сенатором, Александр ввел в только что учрежденный им Государственный совет. Правда, одна из высоких должностей Александра Александровича чуть было не стоила ему жизни, но, в конце концов, все обошлось почти благополучно и поплатился он «только» здоровьем.
Эту должность – вице-президента мануфактур-коллегии – А. А. Саблуков получил еще при Екатерине, в последние годы ее царствования. Тогда особых хлопот она ему не доставляла и, вероятно, и дальше все шло бы хорошо, если бы вступивший на престол Павел I не повелел переодеть армию, заменив светло-зеленые мундиры екатерининских времен темно-зелеными с синеватым оттенком. Мануфактур-коллегия должна была проследить за поспешной окраской сукна. Однако, как ни старались мануфактурщики, сукно – то ли по свойству краски, то ли потому, что окрашивали его в больших кусках, – приобретало предательски неоднородный цвет. Именно на А. А. Саблукова пал несчастный жребий сообщить о том Павлу. Случай был не из тех, когда реак-
[37]
цию монарха нельзя было предвидеть: удар обрушился на Саблукова незамедлительно.
Как раз в ту зиму, холодную и ветреную, свирепствовал в Петербурге грипп, или, как тогда его называли: инфлуэнца. Александр Александрович лежал в тяжелом состоянии, от жара в голове смешались бред и явь. Сны, тяжелые и мучительные, томили его. Сын его, Николай Александрович, то и дело заходил в спальню, опасаясь за жизнь отца.
В это самое время Павел отправил нарочного фельдъегеря к графу Палену, военному губернатору Петербурга, с приказанием «выслать из города тайного советника Саблукова, уволенного от службы, и немедленно отправить назад посланного с донесением об исполнении этого приказания»1. От неудовлетворенного чувства мести у Павла по обыкновению раздувались ноздри.
А. А. Саблукову знаком был весь Петербург. «Отец мой,– вспоминал Николай Александрович,– держал открытый дом, в котором собирались запросто многие министры и дипломаты, вследствие чего, несмотря на мою молодость, я уже достаточно был подготовлен к пониманию текущих политических событий» (с. 10).
Среди близких людей, постоянно посещавших дом, был петербургский полицмейстер генерал-майор В. И. Лисаневич. Именно он и прибыл в дом А. А. Саблукова, чтобы передать приказание Павла.
– Что делает ваш батюшка? – спросил Лисаневич Николая Александровича.
– Лежит в соседней комнате, и боюсь, не на смертном ли одре.
Чувства дружбы, жалости, служебного долга и страха недолго боролись в Лисаневиче.
– Мне надо видеть вашего отца,– сказал он,– ибо я должен передать ему повеление императора.
Открыв дверь, Лисаневич вошел в спальню больного, который не сразу узнал его: прошло несколько времени, прежде чем он пришел в себя и Лисаневич протянул ему бумагу. Содержание ее походило на те бредовые сны, которые мучили его.
– Господи, да что же я сделал? – прошептал больной.
– Я ничего не знаю,– отвечал Лисаневич,– кроме того, что я должен выслать вас из Петербурга.
1 Здесь и далее цитирую по изд.: Цареубийство 11 марта 1801 г,– СПб., 1908, с. 43. Далее страницы приведены в тексте.
[38]
Не мешкая, Николай Александрович бросился к графу Палену просить если не о помощи, то хотя бы об отсрочке. Однако и Пален, давний приятель отца, не решился нарушить приказ императора.
– Передайте батюшке,– сказал он,– что я люблю его, но сделать ничего не могу. Пусть он тотчас же уедет из города, а затем подумаем, что можно для него сделать.
В этих бессильных словах была безнадежность и пустота. Николай Александрович знал, что произойдет далее: из страха за место, из опасения за карьеру все отвернутся от опального отца.
Тем временем с А. А. Саблуковым случился апоплексический удар. И все же его уложили в сани и, тщательно закутав в шубы, увезли в загородный дом под Петербургом. От удара он никогда уже не оправился, но в должности и чинах его восстановили весьма неожиданно. Сенатор П. Я. Аршеневский, поспешно занявший его место, очень скоро убедился в том, что окраска сукна – дело действительно безнадежное,– и подал Павлу рапорт об отставке. Павел, страшный в гневе и расточительный в милостях, А. А. Саблукова не только простил, но и принес ему извинения.
Свидетелем этого эпизода, столь характерного для Павлова царствования, Н. А. Саблуков был в молодых летах. Хотя случай этот касался его лично и мог сыграть пагубную роль в его служебной карьере, Николай Александрович зла на императора не затаил, и в отношении его к Павлу, в его суждениях о нем всегда чувствуется беспристрастие благородного, чуждого интригам и личной корысти человека. Наделенный гипертрофированным чувством чести, Николай Александрович Саблуков был одним из редких в ту эпоху людей, способных преодолеть обиду, пристрастия, симпатии, антипатии и внимательно вслушаться в тихую, величавую поступь Истории, не заглушая ее суетливым шумом собственных шагов. Николай Александрович был скромным человеком, не склонным придавать какое-то особое значение своей личности и своей судьбе. Он сознавал, что История задела его мимоходом и, понимая случайность своей сопричастности важнейшим событиям эпохи, как в жизни, так и в записках своих, держался в тени.
«Смею думать,– заметил он в самом начале своих воспоминаний,– что читатель не поставит мне в вину, если в течение этого повествования мне не раз придется
[39]
говорить о себе лично <…> Подробности эти я привожу лишь как доказательство правдивости моего повествования, которая только и может придать настоящий интерес этому рассказу» (с. 9). Эта позиция Саблукова-мемуариста, сообщившая особое обаяние его запискам, вместе с тем почти скрыла от нас судьбу их автора.
Однако последуем примеру Саблукова и сделаем попытку правдиво рассказать о его жизни, восстановив хотя бы отчасти ее основные этапы.
Как уже понял проницательный читатель, Николай Александрович Саблуков вырос в богатой и знатной семье. Он получил прекрасное домашнее воспитание и благодаря попечениям родителей, в особенности матери своей, Екатерины Андреевны (урожденной Волковой), знал сверх обязательного в ту пору французского языка еще необязательные немецкий и английский. Это не только помогло ему в жизни, но отчасти предопределило его судьбу. Французским языком Саблуков владел столь хорошо, что в возрасте тринадцати лет перевел и даже напечатал «Последний наказ Фридриха Великого племяннику своему, наследовавшему по нем прусскою державою» (СПб., 1789). Однако ни переводчиком, ни литератором Саблуков не стал. К тому времени военная карьера его была уже предрешена: в 1792 г. он поступил унтер-офицером в конногвардейский полк. Как и в доме отца, где постоянно собирались министры и дипломаты, придворные и генералы, в полку Саблуков оказался в блестящей аристократической среде.
Кроме светских развлечений, приличных его возрасту, состоянию, приятной наружности и прекрасным манерам, судьба дала Саблукову обильную пищу для наблюдений. Он был благодарным слушателем и столь же благодарным наблюдателем. Чувство чести было опорой его жизни. Наделенный порядочностью без полутонов и твердыми нравственными критериями, Саблуков потому и рассказал в своих записках о прошлом с правдивостью нейтрального лица, не замешанного в придворных интригах. Между тем спектр его наблюдений был весьма широк. Саблуков родился и вырос в екатерининское время и прослужил три года при «матушке-императрице». В 1795 г. он уехал за границу, побывал в Германии и Италии, где был представлен иностранным дворам благодаря семейным и дружеским связям своего отца. Кстати сказать, в Германии познакомился он с особенностями
[40]
прусской военной службы, что весьма пригодилось ему впоследствии, когда Павел реорганизовал армию по прусскому образцу. Тогда же заслужил он благосклонное внимание императора.
Саблуков вернулся в Россию в 1796 г., незадолго до смерти Екатерины II: «Нельзя выразить словами ту скорбь, которую испытывал каждый офицер и солдат конной гвардии,– писал он,– когда в нашем полку прочтен был этот манифест <о смерти Екатерины и восшествии Павла на престол>. Весь полк буквально был в слезах, многие рыдали, словно потеряли близкого родственника или лучшего друга» (с. 21).
Саблуков, как мало кто другой, знал, что он оплакивает и что теряет. Еще в юности он увидел и понял глубокое различие между Екатериной и ее сыном. Отец Саблукова некоторое время возглавлял государственное казначейство и по долгу службы регулярно выдавал Павлу жалованье и принимал от него расписку в получении оного. «Во время поездок, которые он совершал для этой цели в Гатчину и в Павловск, – рассказывает Саблуков, – я иногда сопровождал его, и живо помню то странное впечатление, которое производило на меня все то, что я здесь видел и слышал. Тут все было как бы в другом государстве, особенно в Гатчине, где выстроен был форштадт, напоминавший мелкие германские города» (с. 15). Более всего ощущал тогда Саблуков, что Гатчина дышала другим воздухом, и от воздуха этого стесняло грудь.
Поэтому и не связывал он радужных надежд с новым царствованием, но действительность оказалась хуже его мрачных предчувствий.
Все, кто писал о воцарении Павла, с изумлением отмечали, что уже в первые дни все в Петербурге изменилось до неузнаваемости, словно новый император «над Россией простер совиные крыла» (Блок). В души людей закрался страх. Теперь над Петербургом витал дух Гатчины. Новые порядки изменили отношение к жизни и соответственно восприятие ее. Саблуков передал это с выразительностью, свойственной умному, тонко и живо чувствующему человеку: «В эпоху кончины Екатерины и вступления на престол Павла Петербург был, несомненно, одной из красивейших столиц в Европе <…> Как по внешнему великолепию, так и по внутренней роскоши и изяществу, ничто не могло сравняться с Петербургом в 1796 году,– таково было, по крайней мере, мне-
[41]
ние всех знаменитых иностранцев, посещавших в то время Россию, и которые проводили там многие месяцы, очарованные русскою веселостью, радушием, гостеприимством и общительностью, которые Екатерина с особенным умением проявляла во всей империи.
Внезапная перемена, происшедшая с внешней стороны в этой столице в течение нескольких дней, просто не вероятна. Так как полицейские мероприятия должны были исполняться со всевозможной пышностью, то метаморфоза совершалась чрезвычайно быстро, и Петербург перестал быть похожим на современную столицу, приняв скучный вид маленького немецкого города XVII столетия» (с. 27). Итак, за несколько дней Павел сделал гигантский шаг назад – на целое столетие!
Все, кто обладал способностью сопоставлять, оценивать, думать, разом заговорили в узких семейных и более широких дружеских кружках. Все выражали недовольство: одни громче, другие – тише. Не дремала и тайная полиция: с каждым днем она набирала силу и действовала все энергичнее. Начались доносы, слежка, аресты, разжалования.
В ту пору Саблуков был уже в чине подпоручика. Конногвардейский полк, где он по-прежнему служил, вызывал особую подозрительность и неприязнь Павла: блестящие офицеры-аристократы с брезгливым недоумением встретили гатчинское пополнение, насмешливо обсуждая дурные манеры, грубость и неотесанность гатчинцев. К 1801 г. из тридцати двух офицеров конногвардейского полка осталось лишь двое. Одним из них был Н. А. Саблуков.
Саблуков испытывал к Павлу странные, смешанные чувства. Как и все в его кругу, он понимал, что жить при Павле плохо, почти невозможно. Но Саблуков был максималистом только тогда, когда охранял свою честь и соблюдал верность присяге. Вообще же был он человеком гибким и умел разглядеть в Павле не только злое, но и хорошее – как бы задушенное этим злым. Зная обстоятельства жизни Павла, сформировавшие его дурные наклонности, Саблуков относился к нему с жалостью. Это чисто человеческое чувство не имело ничего общего с тем, что испытывает подданный по отношению к монарху. Разумеется, не подозревая об этом, но интуитивно ощущая высокие свойства натуры Саблукова, Павел относился к нему с благосклонностью, ценя в
[42]
нем более всего «неподкупную верность порядочного человека»1.
В 1799 г. Саблуков был произведен в полковники прямо из подпоручиков – такова была одна из Павловых прихотей.
С юности интересуясь политикой, Саблуков никогда не участвовал ни в политических интригах, ни в заговорах: у него были свои особые критерии, благодаря которым он отделял строгую человеческую мораль от более подвижной морали политической. Поэтому он сознательно держался в стороне от заговорщиков и до самого конца сохранял нейтралитет.
Не будем, однако, повторять рассказанную самим Саблуковым историю цареубийства, но обратимся к дальнейшей его судьбе.
После событий 11 марта Саблуков решил покинуть столицу: он не желал иметь ничего общего с людьми, запачканными кровью. Поэтому Николай Александрович с удовольствием взялся охранять вдовствующую императрицу Марию Федоровну и вместе с ней удалился в Павловск.
Служба его в Павловске продолжалась всего несколько месяцев. В конце сентября 1801 г. он вышел в отставку с производством в генерал-майоры и уехал за границу. Об этом периоде жизни Саблукова мы почти ничего не знаем, хотя, может быть, где-то и лежат еще пожелтевшие от времени его письма на родину. В Англии он познакомился с Эдуардом Ангерштином, известным ценителем живописи и обладателем богатой коллекции картин, завещанной им позднее Лондонской национальной галерее. В 1803 г. Саблуков женился на дочери Ангерштина Юлиане.
То ли тоска по родине, то ли семейные обстоятельства заставили Саблукова вернуться в 1806 г. в Россию. Здесь он прослужил три года по Морскому ведомству, снова вышел в отставку и уехал в Англию. Подъем национального патриотизма в России накануне Отечественной войны, несомненно, вызвал отклик и в его душе. Саблуков поспешил на родину, поступил в действующую армию в августе 1812 г. и во время военных действий находился при особом кавалерийском отряде генерал-майора Корфа. 29 марта 1813 г. Николай Александрович вы-
1 Военский К. От переводчика.– Сб.: Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 5.
[43]
шел в отставку, на этот раз уже окончательно. С тех пор он жил то в Англии, то в России. Умер он в Петербурге во время холерной эпидемии 1848 г.
В последние годы жизни он нередко рассказывал друзьям и родным о своем прошлом и, уступая настояниям своих слушателей, написал воспоминания, живые, интересные, правдивые и до сих пор еще не оцененные по-настоящему. Написанные по-английски, они впервые появились в 1865 г. в английском журнале «Fraser's Magazine for town and country» («Журнал Фрезера для города и деревни»). Длинное заглавие их едва ли принадлежало автору, писавшему кратко и выразительно. В переводе на русский язык оно звучало так: «Воспоминания о дворе и временах императора российского Павла I до эпохи его смерти». Год спустя записки Саблукова были напечатаны во Франции, и только в 1869 г., то есть через четыре года после английской публикации, с ними познакомилась русская публика: они появились в журнале «Русский архив».
Ни в коей мере не относя свои записки к литературному жанру, Саблуков смотрел на них как на исторический документ, как на свидетельские показания очевидца важнейших для России событий. Для нас значение записок Саблукова гораздо шире: написанные просвещенным, гуманным и литературно одаренным человеком, они несут в себе не только историческую информацию, но рисуют характер, образ мыслей и мироощущение определенного типа людей начала XIX столетия.
ЛИТЕРАТУРА
Военский К. От переводчика.– Сб.: Цареубийство 11 марта 1801 г.– СПб., 1908.
Кумпан К. А., Паперно И. А. К дешифровке позиции мемуариста. (Павел I в записках Н. А. Саблукова).– Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 394. Труды по знаковым системам. VII.– Тарту, 1975.
<…> Император Павел находился в Павловске, окруженный интригами и волнуемый попеременно чувствами любви, великодушия и ревности. В том же состоянии переехал он в Гатчину, а затем в Петербург. Многие из его приближенных сознавали, что их положение при дворе чрезвычайно опасно1 и что в любую минуту, раскаиваясь в только что совершенном поступке, государь может перенести свое расположение на новое лицо и уничтожить их всех. Великие князья также находились в постоянном страхе: оба они были командирами полков и в качестве таковых ежедневно, во время парадов и учений, получали выговоры за малейшие ошибки, причем, в свою, очередь, подвергали солдат строгим наказаниям, а офицеров сажали под арест. <…>
Нельзя себе представить тех жестокостей, которым подвергал нас Константин и его Измайловские мирмидоны2. Тем не менее дух полка нелегко было сломить, и страх Константина, при одном упоминании о военном суде, неоднократно сдерживал его горячность и беспричинную жестокость. Своей неуступчивости и твердости в это тяжелое время обязан я тем влиянием в полку, которое я сохранил до конца моей службы в конной гвардии и которое спасло этот благородный полк от всякого участия в низком заговоре, приведшем к убийству императора Павла. <…>
Его величество со своим августейшим семейством оставил старый дворец и переехал в Михайловский3, выстроенный наподобие укрепленного замка, с подъемными мостами, рвами, потайными лестницами, подземными ходами,– словом, он напоминал собою средневековую крепость. <…>
По возвращении в Петербург я был самым радушным образом принят старыми друзьями и даже самим графом Паленом, генералом Талызиным и другими, а также Зубовым и Обольяниновыми. Меня стали приглашать на интимные обеды, причем меня всегда поражало одно обстоятельство: после этих обедов, по вечерам, никогда не завязывалось общего разговора, но всегда беседовали отдельными кружками, которые тотчас расходились, когда к ним подходило новое лицо. Я заметил, что генерал Талызин и другие подошли ко мне, как будто с намерением сообщить мне что-то по секрету, а затем оста-
[45]
новились, сделались задумчивыми и замолкли. Вообще, по всему видно было, что в этом обществе затевалось что-то необыкновенное. Судя же по той вольности, с которой императора порицали, высмеивали его странности и осуждали его строгости, я сразу догадался, что против него затевается заговор. Подозрения мои особенно усилились после обеда у Талызина (за которым нас было четверо), после «petite soiré» * у Хитровых4 и раута у Зубовых. <…> Я вспомнил свой долг, свою присягу на верность, припомнил многие добрые качества императора и в конце концов почувствовал себя очень несчастным. Между тем все эти догадки не представляли ничего определенного: не было ничего осязательного, на основании чего я мог бы действовать или даже держаться известного образа действий. В таком состоянии нерешительности я отправился к своему старому другу Тончи **, который сразу разрешил мое недоумение, сказав следующее: «Будь верен своему государю и действуй твердо и добросовестно; но так как ты, с одной стороны, не в силах изменить странного поведения императора, ни удержать, с другой стороны, намерений народа, каковы бы они ни были, то тебе надлежит держаться в разговорах того строгого и благоразумного тона, в силу которого никто бы не осмелился подойти к тебе с какими бы то ни было секретными предложениями». Я всеми силами старался следовать этому совету и, благодаря ему, мне удалось остаться в стороне от ужасных событий этой эпохи.
Около этого времени великая княгиня Александра Павловна, супруга эрцгерцога Иосифа, палатина6 венгерского, была при смерти больна и известие о ее кончине ежечасно ожидалось из Вены. Император Павел был чрезвычайно недоволен Австрией за ее образ действий в Швейцарии, результатом которого было поражение Корсакова под Цюрихом7 и совершенная неудача знаменитой кампании Суворова в Италии, откуда он отступил на север, через Сен-Готард8. Англии была объявлена война9, на имущество англичан наложено эмбарго, и уже делались большие приготовления, дабы в союзе с Фран-
* Вечеринки (фр.).
** Тончи5 был родом неаполитанский дворянин, прибывший в Россию в свите польского короля в качестве философа, поэта и художника. Это был чрезвычайно умный и образованный человек. Он любил меня, как сына, и смотрел, как на своего воспитанника. Я много обязан этому почтенному человеку. (Прим. автора.)
[46]
цией начать морскую войну против этой державы с открытием весенней навигации.
Все эти обстоятельства произвели на общество удручающее впечатление. Дипломатический корпус прекратил свои обычные приемы; значительная часть петербургских домов, из которых некоторые славились своим широким гостеприимством, изменили свой образ жизни. Самый двор, запертый в Михайловском замке, охранявшемся наподобие средневековой крепости, также влачил скучное и однообразное существование. Император, поместивший свою любовницу в замке10, уже не выезжал, как он это делал прежде, и даже его верховые прогулки ограничивались так называемым третьим летним садом, куда, кроме самого императора, императрицы и ближайших лиц свиты, никто не допускался. Аллеи этого парка или сада постоянно очищались от снега для зимних прогулок верхом. Во время одной из этих прогулок, около четырех или пяти дней до смерти императора (в это время стояла оттепель), Павел вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись к шталмейстеру Муханову11, ехавшему рядом с императрицей, сказал сильно взволнованным голосом: «Мне показалось, что я задыхаюсь и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что умираю… Разве они хотят задушить меня?» Муханов отвечал: «Государь, это, вероятно, действие оттепели». Император ничего не ответил, покачал головой, и лицо его сделалось очень задумчивым. Он не проронил ни единого слова до самого возвращения в замок. <…>
Теперь я подхожу к чрезвычайно знаменательной эпохе в истории России, эпохе, в событиях которой мне до известной степени пришлось быть действующим лицом и живым свидетелем и очевидцем многих обстоятельств, причем некоторые подробности об этих крайне важных событиях я узнал немедленно же и из самых достоверных источников. При описании этих событий мною руководит искреннее желание сказать правду, одну только правду. Тем не менее я буду просить читателя строго различать то, что я лично видел и слышал, от тех фактов, которые мне были сообщены другими лицами и о которых я по необходимости должен упоминать для полноты рассказа.
11-го марта 1801 года эскадрон, которым я командовал и который носил мое имя, должен был выставить караул в Михайловский замок. Наш полк имел во дворце внутренний караул, состоявший из 24-х рядовых, трех
[47]
унтер-офицеров и одного трубача. Он находился под командою офицера и был выстроен в комнате, перед кабинетом императора, спиною к ведущей в него двери. Корнет Андреевский был в этот день дежурным по караулу.
Через две комнаты стоял другой внутренний караул от гренадерского батальона Преображенского полка, любимого государева полка, который был ему особенно предан. Этот караул находился под командою подпоручика Марина12 и был, по-видимому, с намерением составлен на одну треть из старых Преображенских гренадер и на две трети из солдат, включенных в этот полк после раскассирования лейб-гренадерского полка, происшедшего по внушению генерала графа Карла Ливена13, человека чрезвычайно строгого и вспыльчивого. Полк этот в течение многих царствований, особенно же при Екатерине, считался одним из самых блестящих, храбрых и наилучше дисциплинированных, и солдаты этого полка, вследствие его раскассирования, были весьма дурно расположены к императору.
Главный караул (the main guard) во дворе замка (а также наружные часовые) состоял из роты Семеновского великого князя Александра Павловича полка и находился под командою капитана из гатчинцев, который, подобно марионетке, исполнял все внешние формальности службы, не отдавая себе, по-видимому, никакого отчета, для чего они установлены.
В 10 часов утра я вывел свой караул на плац-парад, а между тем, как происходил развод, адъютант нашего полка Ушаков14 сообщил мне, что, по именному приказанию великого князя Константина Павловича, я сегодня назначен дежурным полковником по полку. Это было совершенно противно служебным правилам, так как на полковника, эскадрон которого стоит в карауле и который обязан осматривать посты, никогда не возлагается никаких иных обязанностей. Я заметил это Ушакову несколько раздраженным тоном и уже собирался немедленно пожаловаться великому князю, но, к удивлению всех, оказалось, что ни его, ни великого князя Александра Павловича не было на разводе. Ушаков не объяснил мне причин всего этого, хотя, по-видимому, он их знал.
Так как я не имел права не исполнить приказания великого князя, то я повел караул во дворец и, напомнив офицеру о всех его обязанностях (ибо я не рассчитывал уже видеть его в течение дня), вернулся в казармы, чтобы исполнить мою должность дежурного по полку.<…>
[48]
Несколько минут после часа пополуночи, 12 марта, Степан, мой камердинер, опять вошел в мою комнату с собственным ездовым великого князя Константина, который вручил мне собственноручную записку его высочества, написанную, по-видимому, весьма спешно и взволнованным почерком, в которой значилось следующее:
«Собрать тотчас же полк верхом, как можно скорее, с полною амунициею, но без поклажи и ждать моих приказаний».
(подписано) «Константин цесаревич».
Потом ездовой на словах прибавил: «Его высочество приказал мне передать вам, что дворец окружен войсками и чтобы вы зарядили карабины и пистолеты боевыми патронами».
Я тотчас велел моему камердинеру надеть шубу и шапку и идти за мною. Я довел его и ездового до ворот казармы и поручил последнему доложить его высочеству, что приказания его будут исполнены. Камердинера же своего я послал в дом к моему отцу, рассказать все то, что он слышал, и велел ему оставаться там, пока сам не приеду.
Я знал то влияние, которое имею на солдат, и что без моего согласия они не двинутся с места; к тому же я был, очевидно, обязан ограждать их от ложных слухов. Наша казарма была дом с толстыми стенами, выстроенный в виде пустого четырехугольника, с двумя только воротами. Так как была еще зима и везде были вставлены двойные окна, то я легко мог сделать из этого здания непроницаемую крепость, заперев наглухо и заколотив гвоздями задние ворота и поставив у передних ворот парных часовых со строгим приказанием никого не впускать. Я поступил так потому, что не был вполне уверен в образе мыслей генерала Тормасова15 при данных обстоятельствах; вот почему я распорядился поставить у дверей его квартиры часового, строго приказав ему никого не пропускать.
Затем я отправился в конюшни, велел созвать солдат и немедленно седлать лошадей. Так как дело было зимою, то мы были принуждены зажечь свечи, яркий свет которых тотчас разбудил весь полк. Некоторые из полковников упрекнули меня в том, что я так «чертовски спешу», когда до четырех часов еще времени достаточно. Я не отвечал, но так как, зная меня, они рассудили, что я не стал бы действовать таким образом без уважитель-
[49]
ных причин, то все они последовали моему примеру, каждый в своем эскадроне. Тем не менее, когда я приказал заряжать карабины и пистолеты боевыми патронами, все они возражали, и у нас вышел маленький спор; но так как я лично получил приказания от его высочества, они пришли к убеждению, что я, должно быть, прав, и поступили так же, как и я.
Между тремя и четырьмя часами утра меня вызвали к передовому караулу у ворот. Тут я увидел Ушакова, нашего полкового адъютанта.
– Откуда вы? Вы не ночевали в казарме? – спросил я его.
– Я из Михайловского замка.
– А что там делается?
– Император Павел умер, и Александр провозглашен императором.
– Молчите! – отвечал я и тотчас повел его к генералу, отпустив поставленный мною караул.
Мы вошли в гостиную, которая была рядом со спальнею. Я довольно громко крикнул:
– Генерал, генерал, Александр Петрович!
Жена его проснулась и спросила:
– Кто там?
– Полковник Саблуков, сударыня.
– А, хорошо.– И она разбудила своего мужа. Его превосходительство надел халат и туфли и вышел в ночном колпаке, протирая себе глаза, еще полусонный.
– В чем дело? – спросил он.
– Вот, ваше превосходительство, адъютант, он только что из дворца и все вам скажет…
– Что же, сударь, случилось? – обратился он к Ушакову.
– Его величество государь император скончался: он умер от удара…
– Что такое, сударь? Как смеете вы это говорить? – воскликнул генерал.
– Он действительно умер,– сказал Ушаков; – великий князь вступил на престол, и военный губернатор передал мне приказ, чтобы ваше превосходительство немедленно привели полк к присяге императору Александру.
Он сказал нам тоже, что Михайловский замок окружен войсками и что Александр с женою Елизаветой переехал в Зимний дворец под прикрытием кавалергардов, которыми предводительствовал сам Уваров.
[50]
Убедившись в справедливости сообщенного известия, генерал Тормасов сказал мне по-французски:
– Eh bien, mon cher colonel, faites sortir le régiment, preparez le pretre et l'Evangile et réglez tout cela. Je m'habillerai et je descendrai tout de suite *.
Ушаков в заключение прибавил, что генерал Беннигсен был оставлен комендантом Михайловского замка.
12 марта, между четырьмя и пятью часами утра, когда только что начинало светать, весь полк был выстроен в пешем строю на дворе казарм. Отец Иван, наш полковой священник, вынес крест и Евангелие на аналое и поставил его перед полком. Генерал Тормасов громко объявил о том, что случилось: что император Павел скончался от апоплексического удара и что Александр I вступил на престол. Затем он велел приступить к присяге. Речь эта произвела мало впечатления на солдат: они не ответили на нее криками «ура», как он того ожидал. Он затем пожелал, чтобы я, в качестве дежурного полковника, поговорил с солдатами. Я начал с лейб-эскадрона, в котором я служил столько лет, что знал в лицо каждого рядового. На правом фланге стоял рядовой Григорий Иванов, примерный солдат, статный и высокого роста. Я сказал ему:
– Ты слышал, что случилось?
– Точно так.
– Присягнете вы теперь Александру?
– Ваше высокоблагородие,– ответил он,– видели ли вы императора Павла действительно мертвым?
– Нет,– ответил я.
– Не чудно ли было бы,– сказал Григорий Иванов, – если бы мы присягнули Александру, пока Павел еще жив?
– Конечно,– ответил я.
Тут Тормасов шепотом сказал мне по-французски:
– Cela est mal, arrangez cela **.
Тогда я обратился к генералу и громко, по-русски, сказал ему:
– Позвольте мне заметить, ваше превосходительство, что мы приступаем к присяге не по уставу: присяга никогда не приносится без штандартов16.
* Тогда, дорогой полковник, выводите полк, приготовьте священника и Евангелие и организуйте все это. Я тотчас оденусь и выйду (фр.).
** Это скверно, займитесь этим (фр.).
[51]
Тут я шепнул ему по-французски, чтобы он приказал мне послать за ними.
Генерал сказал громко:
– Вы совершенно правы, полковник, пошлите за штандартами.
Я скомандовал первому взводу сесть на лошадей и велел взводному командиру, корнету Филатьеву, непременно показать солдатам императора Павла, живого или мертвого.
Когда они прибыли во дворец, генерал Беннигсен, в качестве коменданта дворца, велел им принять штандарты, но корнет Филатьев заметил ему, что необходимо прежде показать солдатам покойника. Тогда Беннигсен воскликнул: «Mais c'est impossible, il est abime fracassé, on est actuellement a le peindre et a l'arranger!» *.
Филатьев ответил, что, если солдаты не увидят Павла мертвым, полк отказывается присягнуть новому государю. «Ah, ma foi! – сказал старик Беннигсен,– s'ils lui sont si attachés, ils n'ont qu'à le voir» **.
Два ряда были впущены и видели тело императора.
По прибытии штандартов им были отданы обычные почести с соблюдением необходимого этикета. Их передали в соответствующие эскадроны, и я приступил к присяге. Прежде всего я обратился к Григорию Иванову:
– Что же, братец, видел ты государя Павла Петровича? Действительно он умер?
– Так точно, ваше высокоблагородие, крепко умер!
– Присягнешь ли ты теперь Александру?
– Точно так… хотя лучше покойного ему не быть… А, впрочем, все одно: кто ни поп, тот и батька.
Так окончился обряд <присяги>, который, по смыслу своему, долженствовал быть священным таинством: впрочем, он всегда и был таковым… для солдат.
Теперь я буду продолжать свое повествование уже со слов других лиц, но на основании данных самых достоверных и ближайших к тому времени, когда совершилась эта ужасная катастрофа.
Вечером 12 марта заговорщики разделились на небольшие кружки. Ужинали у полковника Хитрово, у двух
* Но это невозможно, он изуродован, обезображен, его сейчас необходимо прибрать и привести в порядок (фр.).
** Ах, право, если они так преданы ему, им не следует его видеть (фр.).
[52]
генералов Ушаковых, у Депрерадовича (Семеновского полка) и у некоторых других. Поздно вечером все соединились вместе за одним общим ужином, на котором присутствовали: генерал Беннигсен и граф Пален. Было выпито много вина, и многие выпили более, чем следует. В конце ужина, как говорят, Пален будто бы сказал: «Rappelez-vous, messieurs, que pour manger d'une omelette il faut commencer par casser les oeufs» *.
Говорят, что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибиков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла; что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше всего было бы отделаться от них всех сразу. Как ни возмутительно подобное предположение, достойно внимания то, что оно было вторично высказано в 1825 году, во время последнего заговора, сопровождавшего вступление на престол императора Николая I.
Около полуночи большинство полков, принимавших участие в заговоре, двинулись ко дворцу. Впереди шли семеновцы, которые и заняли внутренние коридоры и проходы замка.
Заговорщики встали с ужина немного позже полуночи. Согласно выработанному плану, сигнал к вторжению во внутренние апартаменты дворца и в самый кабинет императора должен был подать Аргамаков17, адъютант гренадерского батальона Преображенского полка, обязанность которого заключалась в том, чтобы докладывать императору о пожарах, происходящих в городе. Аргамаков вбежал в переднюю государева кабинета, где недавно еще стоял караул от моего эскадрона, и закричал: «Пожар!»
В это время заговорщики, числом до 180-ти человек, бросились в дверь. Тогда Марин, командовавший внутренним пехотным караулом, удалил верных гренадер Преображенского лейб-батальона, расставив их часовыми, а тех из них, которые прежде служили в лейб-гренадерском полку, поместил в передней государева кабинета, сохранив, таким образом, этот важный пост в руках заговорщиков.
Два камер-гусара, стоявшие у двери, храбро защищали свой пост, но один из них был заколот, а другой
* «Вспомните, господа, чтобы съесть яичницу, сначала надобно разбить яйца» (фр.).
[53]
ранен. Найдя первую дверь, ведшую в спальню, незапертого, заговорщики сначала подумали, что император скрылся по внутренней лестнице (и это легко бы удалось), как это сделал Кутайсов18. Но когда они подошли ко второй двери, то нашли ее запертою изнутри, что доказывало, что император несомненно находился в спальне.
Взломав дверь, заговорщики бросились в комнату, но императора в ней не оказалось. Начались поиски, но безуспешно, несмотря на то, что дверь, ведшая в опочивальню императрицы, также была заперта изнутри. Поиски продолжались несколько минут, когда вошел генерал Беннигсен, высокого роста, флегматичный человек; он подошел к камину, прислонился к нему и в это время увидел императора, спрятавшегося за экраном. Указав на него пальцем, Беннигсен сказал по-французски: «le voilà» *, после чего Павла тотчас вытащили из его прикрытия.
Князь Платон Зубов, действовавший в качестве оратора и главного руководителя заговора, обратился к императору с речью. Отличавшийся обыкновенно большою нервностью, Павел на этот раз, однако, не казался особенно взволнованным и, сохраняя полное достоинство, спросил, что им всем нужно.
Платон Зубов отвечал, что деспотизм его сделался настолько тяжелым для нации, что они пришли требовать его отречения от престола.
Император, преисполненный искреннего желания доставить своему народу счастье, сохранять нерушимо законы и постановления империи и водворить повсюду правосудие, вступил с Зубовым в спор, который длился около получаса и который, в конце концов, принял бурный характер. В это время те из заговорщиков, которые слишком много выпили шампанского, стали выражать нетерпение, тогда как император, в свою очередь, говорил все громче и начал сильно жестикулировать. В это время шталмейстер граф Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так кричишь!»
При этом оскорблении император с негодованием оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху
* «вот он» (фр).
[54]
нанес правою рукою удар в левый висок императора19, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту француз-камердинер Зубова вскочил с ногами на живот императора, а Скарятин, офицер Измайловского полка, сняв висевший над кроватью собственный шарф императора, задушил его им. Таким образом его прикончили.
На основании другой версии, Зубов, будучи сильно пьян, будто бы запустил пальцы в табакерку, которую Павел держал в руках. Тогда император первый ударил Зубова и, таким образом, сам начал ссору. Зубов, будто бы, выхватил табакерку из рук императора и сильным ударом сшиб его с ног. Но это едва ли правдоподобно, если принять во внимание, что Павел выскочил прямо из кровати и хотел скрыться. Как бы то ни было, несомненно то, что табакерка играла в этом событии известную роль.
Итак, произнесенные Паленом за ужином слова «quil faut commencer par casser les oeufs» * не были забыты и, увы, приведены в исполнение.
Называли имена некоторых лиц, которые выказали при этом случае много жестокости, даже зверства, желая выместить полученные от императора оскорбления на безжизненном его теле, так что докторам и гримерам было нелегко привести тело в такой вид, чтобы можно было выставить его для поклонения, согласно существующим обычаям. Я видел покойного императора, лежащего в гробу**. На лице его, несмотря на старательную гримировку, видны были черные и синие пятна. Его треугольная шляпа была так надвинута на голову, чтобы, по возможности, скрыть левый глаз и висок, который был зашиблен. <…>
Что касается Александра и Константина, то большинство лиц, близко стоявших к ним в это время, утверждали, что оба великих князя, получив известие о смерти отца, были страшно потрясены, несмотря на то, что сначала им сказали, что император скончался от удара, причиненного ему волнением, вызванным предложениями, которые ему сделали заговорщики.
* «Сначала надобно разбить яйца» (фр.).
** Говорят (из достов<ерного> источника), что, когда дипломатический корпус был допущен к телу, французский посол, проходя, нагнулся над гробом и, задев за галстук императора, обнаружил красный след вокруг шеи, сделанный шарфом. (Прим. автора.)
[55]
На следующий день, 13-го марта, мы снова явились в обычный час на парад. Александр и Константин появились оба и имели удрученный вид.
Некоторые из главарей заговора и главных действующих лиц в убийстве выглядели несколько смущенно. Один граф Пален держал себя, как обыкновенно; князь Зубов был более болтлив и разговорчив, чем накануне.
Тело покойного императора, загримированное различными художниками, облеченное в мундир, высокие сапоги со шпорами и в шляпе, надвинутой на голову (чтобы скрыть левый висок), было положено в гроб, в котором он должен был быть выставлен перед народом, согласно обычаю. Но еще до всего этого, убитая горем вдова его должна была увидеть его мертвым, без чего она не соглашалась признать своего сына императором.
Избежать этого было невозможно, и роковое посещение должно было произойти. Подробности этой ужасной сцены были мне сообщены в тот же вечер С. И. Мухановым по возвращении его из дворца, и нет слов, чтобы достаточно выразить скорбь, в которую был погружен этот достойный человек. Насколько помню, вот что он сообщил мне.
Императрица находилась в своей спальне, бледная, холодная, наподобие мраморной статуи, точно такою же, как она была в самый день катастрофы. Александр и Елизавета прибыли из Зимнего дворца, в сопровождении графини Ливен и Муханова. Я не знаю, был ли тут и Константин, но кажется, что его не было, а все младшие дети были со своими нянями. Опираясь на руку Муханова, императрица направилась к роковой комнате, причем за нею следовал Александр с Елизаветой, а графиня Ливен несла шлейф. Приблизившись к телу, императрица остановилась в глубоком молчании, устремила свой взор на покойного супруга и не проронила при этом ни единой слезы.
Александр Павлович, который теперь сам впервые увидал изуродованное лицо своего отца, накрашенное и подмазанное, был поражен и стоял в немом оцепенении. Тогда императрица-мать обернулась к сыну и с выражением глубокого горя и видом полного достоинства сказала: «Теперь вас поздравляю – вы император». При этих словах Александр, как сноп, свалился без чувств, так что присутствовавшие на минуту подумали, что он мертв. <…>
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРАВЬЕВ
(14.VII.1794–18.X.1866)
Жизнь Николая Николаевича Муравьева с трудом умещается в рамки биографии одного человека. Он родился в царствование Екатерины II, был пятью годами старше Пушкина, участвовал в Отечественной войне 1812 г. и Крымской 1854–1856 гг., основал один из самых ранних преддекабристских кружков и не только дожил до освобождения крестьян, но освободил собственных задолго до манифеста 1861 г. В его жизни словно совместились разные эпохи, разные отрезки истории.
В ранней юности Муравьев испытал сильное влияние Руссо, и оно навсегда оставило след в характере этого человека, по словам его друзей, более всего похожего на древнего римлянина. Его спокойное мужество и аскетизм, неподкупная честность, прямота и безмерная требовательность к себе и окружающим не раз давали повод современникам и в особенности подчиненным говорить о нем как о педанте и бездушном «службисте». Однако этот суровый воин был, без сомнения, наделен внутренней мягкостью, благородством и рыцарственностью. Всем этим, помимо влияния Руссо, он был обязан воспитанию и усвоенным в раннем возрасте привычкам.
Расцвет многообразных дарований Н. Н. Муравьева пришелся на николаевское время, но по своему цельному и сильному характеру, по критическому складу ума, по чувству беззаветной и жертвенной любви к отечеству Муравьев принадлежал к поколению декабристов. Правда, он так и остался «декабристом без декабря», но всю жизнь сохранял дружеские связи с теми, кто отбывал ссылку в Сибири и солдатчину на Кавказе. Он поддерживал братьев по крови (вспомним, сколько Муравьевых было среди декабристов) и духу, рискуя собственной карьерой и даже благополучием семьи.
[57]
Декабрист Александр Муравьев, его родной брат, сказал однажды о Николае Николаевиче, что «во всех обстоятельствах своей жизни он был всегда рыцарем чести»1. Много ли людей, достойных таких слов? Свидетельство подчиненного еще важнее, чем мнение брата: «Имев честь быть личным адъютантом Николая Николаевича Муравьева, когда он был начальником штаба 1-й армии, а потом командиром 5-го пехотного корпуса, быв очевидцем его гражданской доблести, как государственного деятеля, я вынес убеждение, что совестливость его имела свой масштаб, часто и многим казавшийся неприменимым к служебной деятельности»2.
Николай Николаевич Муравьев был профессиональным военным и непрофессиональным литератором. Как полководец, он стяжал славу при взятии Карса (1855 г.), после чего стал именоваться Муравьевым-Карским.
Даже расточительная на милости Екатерина II давала такие прибавления к фамилиям полководцев не так уж часто: за великие дела этой награды были удостоены лучшие из них. Суворов стал называться Рымникским, Г. А. Потемкин – Таврическим, А. Г. Орлов – Чесменским, П. А. Румянцев – Задунайским. Это было не только самой высокой наградой императрицы, не только означало высшую степень одобрения и поощрения заслуг в Российской империи, но возводило полководцев в ранг народных героев и навсегда связывало их имена с деяниями, совершенными ими во имя Отечества. В XIX столетии такие прибавления к фамилиям стали более редкими. Лишь великий Кутузов получил титул князя Смоленского да лукавые царедворцы Дибич и Паскевич были пожалованы титулами: первый – Забалканского, второй – Эриванского.
Как литератор Николай Николаевич не стяжал славы, да и не стремился к ней. Он написал замечательные книги о своих путешествиях, о войне на Босфоре и за Кавказом. Первая из его книг «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардейского генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров» была издана в Москве в 1822 г. и позднее переведена на три языка: французский, немецкий и английский. В тогдашней, мало читающей
1Муравьев А. Н. Николай Николаевич Муравьев.– «Русская старина», 1874, т. 10, № 5, с. 141.
2Брянчанинов П. <Реплика>.– «Русский архив», 1885, кн, 3, № 12, c 565.
[58]
России, она прошла почти незамеченной, хотя о подвиге капитана Муравьева, проведшего 48 дней в заключении у хивинского хана, много говорили и писали в столичных газетах.
Эта увлекательная и живо написанная книга показала и степень литературной одаренности молодого Муравьева, и его тонкую наблюдательность, и широту его кругозора. В этой книге Николай Николаевич позволил себе открыто высказать свои политические взгляды, а так как речь шла о Хивинском ханстве, дело сошло ему с рук. Русская литература вместе с боковыми ответвлениями своими (записки, мемуары, очерки и т. д.) росла и мужала, частенько прибегая к аллюзиям и иносказаниям.
Муравьев писал: «…в самовластном правлении деспот есть душа правления и всякая его, даже, по-видимому, незначащая черта, имеет уже большое влияние как на народ, так и на его управление. <…> Любовь к отечеству в таковом правлении существовать не может. <…> В таковом правлении никто не может достигнуть до истинного счастия, каждый гражданин есть раб,– счастие же его – избегнуть гонения властителя и вместе с тем быть угнетателем других»1. Этот взгляд на деспотическое государство Муравьев сохранил до конца своих дней. Но и в этом государстве он всегда был истинным гражданином, потому что не отступал от закона, «им самим над собою признанного» (слова Пушкина).
Муравьев начал вести дневник рано, видимо, вскоре после приезда своего в Петербург. Тогда ему было 16 лет. В разные периоды жизни дневниковые записи чередовались у него с записками о недавнем прошлом. Так, об Отечественной войне 1812 г., когда началось его военное поприще, и о Заграничных походах 1813–1814 гг. писал он в Тифлисе, в 1818 г., в часы досуга, отмечая с привычной ему точностью, в какой день что записано. Там же, в Тифлисе, он впервые обратился к своему детству и к истории своей семьи.
«Отец мой был некогда записан в Измайловском полку и на 16-м году от рождения поехал учиться в Страсбургский университет, где отличался своими успехами. Пробыв четыре года в чужих краях, он возвратился в Россию и вступил в морскую службу, был в 1788 г. адъютантом у принца Нассау, участвовал в нескольких морских сражениях со шведами, и когда порученная в ко-
1 Муравьев Н. Н. Путешествие в Туркмению и Хиву. Ч. II.– М., 1822, с. 53, 57, 58.
[59]
мандование его галера, избитая ядрами, пошла ко дну, он, по спасении своего экипажа, последний бросился в воду с несколькими матросами. Будучи ловким плавателем, он, при небольшой ране на ноге, полученной им от корабельного осколка, надеялся достичь одного из наших судов, но был вытащен из воды шведами, взят в плен и отвезен в Стокгольм, где оставался около года. По размене пленных его назначили капитаном фрегата»1.
Николай Николаевич Муравьев-старший (1768–1840) был человеком замечательных дарований и образованности. Академик М. В. Нечкина с полным на то основанием отметила однажды, что «семья Муравьевых – один из культурнейших очагов своего времени…»2. Любовь к знаниям, даже некую ненасытность в овладении ими, Муравьев-старший сумел передать своим детям. От него же унаследовали они разнообразные дарования и аналитический ум. Впрочем, аналитичность Муравьева-старшего носила скорее отвлеченный характер и, как человек своего века, глубоко почитающий традицию, он никогда не заносил руку на устои.
В 1810 г. четырнадцатилетний сын Муравьева-старшего Михаил, в ту пору студент Московского университета, основал общество математиков. Оно состояло из студентов, кандидатов и преподавателей университета и ставило целью распространение математических знаний в России. Председателем общества был избран Муравьев-старший, в доме которого открылись публичные бесплатные лекции. Члены общества читали своим слушателям курс чистой и прикладной математики. Муравьев-старший преподавал военные науки. Впоследствии (в 1815 г.) это общество стало училищем колонновожатых (офицеров квартирмейстерской части). Общий дух и атмосфера училища были таковы, что из него вышло около тридцати деятелей тайных обществ. Декабрист Н. В. Басаргин вспоминал, что лекции Муравьева-старшего «считались не учением, а скорее отдохновением и приятною поучительною беседою»3.
1Муравьев Н. Н. Записки.– «Русский архив», 1885, № 9, с. 23. Далее год, номер и страница журнала «Русский архив» будут указываться в тексте очерка в скобках.
2 Нечкина М. В. Священная артель. – Сб.: Декабристы и их время.– М.– Л., 1951, с. 160. Заметим, кстати, что Муравьевы были в родстве с Саблуковыми. Н. А. Саблуков – двоюродный дядя Н. Н. Муравьева-Карского.
3 Басаргин Н. В. Воспоминания.– «Русский архив», 1868 № 6, с, 798.
[60]
В этой атмосфере дружества и полного взаимного доверия формировался характер Н. Н. Муравьева-младшего. В 1811 г. он близко сошелся с многими из слушателей отца, а также с братьями Артамоном Муравьевым и Матвеем Муравьевым-Апостолом, дальними по родству, но близкими по духу. Все они, юные, восторженные, мечтательные, желали соединить себя узами еще более тесными, чем узы дружбы и даже кровного родства. Понятно, что их связало стремление к общему благу, единство взглядов и интересов. Они читали и обсуждали «Общественный договор» Руссо, помышляли создать республику на каком-нибудь далеком острове вроде Сахалина и воспитать из его диких обитателей свободных граждан. Так возникло «тайное» полудетское общество, главой которого был единогласно избран Николай Муравьев. На первом заседании, состоявшемся осенью 1811 г., присутствовали Николай и Артамон Муравьевы, Матвей Муравьев-Апостол, Лев и Василий Перовские и Алексей Сенявин. Они были очень юными; игра в тайну, а еще больше – свободу – необычайно сблизила их. Отечественная война 1812 г. прервала их занятия и мечтания.
Весною 1812 г. три брата Муравьевы, Александр, Николай и Михаил, которому не было еще шестнадцати лет, отправились в армию. Прошло много лет, прежде чем твердый, решительный, свободомыслящий и готовый жертвовать собою для блага России Михаил Муравьев превратился в жестокого крепостника, стал одним из самых бездушных столпов империи и, проведя резкую черту между собою и всеми братьями, произнес печально известную фразу: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают». В этой фразе – приговор истории Михаилу Муравьеву: после кровавого подавления Польского восстания 1863 г. он так и был прозван – «вешателем».
Однако жизнь не скоро еще разведет в разные стороны братьев Муравьевых. Во время Отечественной войны они рядом, плечом к плечу. Только Михаил, получив тяжелую рану в Бородинской битве и едва не лишившись ноги, остается в России, а Александр и Николай вместе с победоносной русской армией идут в Европу, участвуют во всех главных сражениях и входят в Париж.
Для многих русских офицеров из богатых аристократических семей пребывание в Париже стало нескончаемым праздником. Николай Муравьев был беден и мог только наблюдать. Вообще бедность сыграла фатальную
[61]
роль в его жизни. В ней проявился перст судьбы, указующей Муравьеву на серьезность и значительность его целей. В отличие от других он не мог искать рассеяния в светской жизни. Он стал сосредоточен; у него освободился досуг для занятий, наблюдений и размышлений. Уже во Франции, во время прогулок по Парижу и его окрестностям, начала проявляться в Муравьеве склонность всматриваться в быт, нравы, обычаи народа. Пройдет всего несколько лет, и у него сформируется тот пристальный интерес к этнографии, который даст такую яркую и своеобразную окраску его первой книге о путешествии в Хиву и Туркестан, а затем и другим его запискам, в том числе и кавказским.
То, что увидел он во Франции, нимало не походило на рассказы о ней его старого гувернера и других людей, посещавших прежде эту страну.
Однажды, гуляя в Тюильрийском саду, он загляделся на лебедя, плавающего в пруду. К нему подошли хорошо одетые люди и спросили, есть ли в России лебеди. К такому невежеству Муравьев испытывал насмешливую брезгливость.
– Нет,– отвечал он,– как у нас лебедям быть, когда воды целый год во льду и покрыты снегом.
– Как же у вас пашут и сеют?
– Пашут снег, сеют во снегу, и хлеб родится на снегу.
– О боже, какая страна!
В 1814 г. Н. Н. Муравьев вместе с русской армией вернулся в Россию, полный радужных надежд, предвкушая встречу с родными, друзьями, а главное – с Наталией Николаевной Мордвиновой, в которую был влюблен с отроческих лет. Наталия Николаевна была дочерью адмирала Н. С. Мордвинова, человека умного, просвещенного и гуманного. Мать Николая Муравьева, Александра Михайловна, была Мордвинову дальней родственницей.
В семье адмирала Муравьева встретили с родственной теплотой и подали повод к надеждам. Муравьев стал почти ежедневно бывать у Мордвиновых. Однако прошло немного времени, и отношение к нему изменилось: он не имел видов на наследство и жил на скромное офицерское жалованье, а потому в зятья не годился. Так как в Петербурге распространились слухи о сватовстве Муравьева, адмирал попросил его удалиться из столицы, чтобы не повредить Наталии Николаевне.
[62]
Только через одиннадцать лет после этих событий, в 1827 г., на Кавказе, в том же доме, где А. С. Грибоедов впервые увидел Нину Александровну Чавчавадзе, Николай Муравьев просил руки Софии Федоровны Ахвердовой, сироты и бесприданницы. Ему не суждено было продолжительное семейное счастие: в 1830 г. он овдовел и поручил малолетнюю дочь Наташу попечениям семьи своего двоюродного брата А. Мордвинова. «Боже, боже мой! – написал он в дневнике 13 ноября 1830 г.– Не оставь меня в дни скорби моей!»
Но до этого еще далеко. В 1816 г. Николай Муравьев еще очень молод и не одинок. Узы, если и не столь сильные, как любовь, то все же очень крепкие, привязывали его в ту пору к Петербургу. Возвратившись из похода во Францию, он возглавил одну из самых ранних преддекабристских организаций – «Священную артель». Началось это так: три брата Муравьевы и их старинные друзья – И. Г. Бурцев, Петр и Павел Колошины – сняли общую квартиру на Грязной улице. Так было дешевле жить и проще разделять бытовые тяготы. Очень скоро совместная жизнь соединила их в прочное содружество, связав единством интересов, стремлений и целей. Они занимались научным и политическим самообразованием, много читали, изучали языки, а главное – говорили и спорили. Если в этих спорах и не родилась истина, то самое направление интересов, самая атмосфера «Священной артели» подготовили молодых людей к участию в политических кружках, которые в скором времени возникли в России. Юноши, только что вернувшиеся из заграничных походов, многое вспоминали, обсуждали, сравнивали, анализировали.
Постоянными гостями артельщиков были Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Иван Якушкин, Никита Муравьев, Сергей Трубецкой, Михаил Лунин, Иван Пущин.
В недрах артели созревал идейный центр декабризма. Иван Пущин вспоминал: «Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем»1.
Так продолжалось до 1816 г., когда по требованию Н. С. Мордвинова Николай Муравьев покинул Петер-
1 Пущин И. И. Записки о Пушкине,– ГИХЛ, 1956, с. 68.
[63]
бург и отправился с А. П. Ермоловым на Кавказ. Знакомство с Ермоловым было недавнее, но приятное. Муравьев испытывал уважение к этому отменно храброму и бескомпромиссно честному генералу. «Я смело дал слово Ермолову остаться после посольства с ним в Грузии, сколько ему времени угодно будет» (1886, № 4, с. 445). Свое слово Муравьев сдержал.
Товарищи проводили Муравьева до Средней Рогатки, и он со стесненным сердцем простился с ними, полагая, что расстается с Россией навсегда. В Москве догнал его брат Александр и передал ему письмо от товарищей по «Священной артели»: «Бог да благословит тебя, честная душа, а любовь к отечеству да руководствует тобою, а воспоминания о неразрывной артели да усладят тебя во всех твоих трудах и начинаниях!» (1886, № 4, с. 448).
«Я сей лист высоко чту и никогда ни на какие аттестаты не променяю»,– написал Муравьев в «Записках» (1886, №4, с. 449).
С членами «Священной артели», с людьми, близкими к ней, с теми, кто вошел позднее в декабристские общества, Муравьев переписывался всю жизнь: и тогда, когда было еще можно, и даже тогда, когда было уже нельзя. Письма декабристов к Муравьеву – свидетельства любви и безграничного уважения к этому замечательному человеку. Многие из этих писем словно продолжают ранее начатые споры, пытаются разрешить возникшие прежде вопросы. Так как Муравьев находится очень далеко от своих корреспондентов, то в некоторых письмах ощущается беспокойство: не изменил ли он принципам братства, не предал ли свои убеждения. Поэтому Иван Бурцов, например, нередко наставляет Муравьева, призывая его укреплять свои добродетели: «…в государствах возникающих, преисполненных зла и невежества, обыкновенные обязанности недостаточны – потребны доблести, потребно отречение от собственных выгод и стремление к общему всеобъемлющему благу целого»1.
Муравьев, со своей стороны, чувствует себя облеченным доверием товарищей, считает делом чести осуществлять в жизни принципы правды, любви к отечеству, гражданской доблести, выработанные «Священной артелью». По какому-то внутреннему, негласному, но при-
1 Из эпистолярного наследия декабристов. Письма к Н. Н. Муравьеву-Карскому.– М., 1975, с. 135.
[64]
нятому им уговору, Муравьев, расставшись с товарищами, уже не вправе вести себя как частное лицо: куда бы ни закинула его судьба, он ныне и присно будет представлять нравственные и гражданские идеалы «Священной артели». Поэтому вся дальнейшая его жизнь – не служба, но высокое служение отечеству.
Офицер Муравьев, профессиональный военный, не оставляя своих прямых обязанностей, становится на Кавказе путешественником и этнографом. Заметим сразу – одним из первых этнографов в России, хотя сама этнография как наука зародилась несколько позднее. Каждое описание путешествий Муравьева – не только литературный, исторический, научно-познавательный документ. Это точное воссоздание быта, культуры, обычаев того или иного народа. Муравьеву чужд всегда насаждавшийся в России сверху великодержавный шовинизм. Молодой офицер терпим, человечен и доброжелателен. «Узбеки,– пишет он,– вообще умны, приятны и остры в разговорах; в предприятиях своих тверды и решительны; нраву прямого и презирают искательство, обман и ложь…»1. Посланный как завоеватель Муравьев приходит как друг, исследователь, ученый. Поэтому его записки, полные доброжелательной объективности, до сих пор не утратили своего интереса.
В июле 1817 г. Муравьев вместе с А. П. Ермоловым совершает поездку в Персию. Пылкое воображение молодого офицера заранее рисовало ему пышную роскошь шахского двора. То, что он увидел, поразило его не менее, чем некогда Париж: «Дворец построен из жженого кирпича на невысоком пригорке. Нет порядочного помещика в России, у которого бы дом не был лучше несчастного сего дворца. <…> Комнаты маленькие, нечистые. Гарем шахский построен кружком на дворе, имеет одну среднюю комнату с кружком, весьма неправильно на полу начерченным; по четырем углам есть четыре чуланчика, в которых живут жены его. <…> На другом дворе множество чуланчиков нечистых, скорее нужников, в которых живут его наложницы и танцовщицы <…> Шах сидел в открытой палатке на троне. Он был весь в каменьях; ноги его, обутые в белые чулки, болтались, и вместо величия, которое мы ожидали, мы увидели мишурного царя на карточном престоле, и все невольно
1Муравьев Н. Н. Путешествие в Туркмению и Хиву. М., 1822, ч. II, с. 123.
[65]
улыбнулись» (1886, № 4, с. 501, 516). «Мишурный царь» – это уж из Державина; Муравьев знал не только математику и языки, но и поэзию.
Потом была опасная, прославившая его имя поездка в Хиву и Туркестан, когда он чудом остался жив и вернул себе свободу. В отчете об этой поездке А. П. Ермолов сообщал в генеральный штаб: «Гвардейского генерального штаба капитан Муравьев, имевший от меня поручение проехать в Хиву и доставить письмо тамошнему хану, несмотря на все опасности и затруднения, туда проехал. Ему угрожали смертью, содержали в крепости; но он имел твердость, все вытерпев, ничего не устрашиться; видел хана, говорил с ним и, внуша ему боязнь мщения со стороны людей, побудил отправить ко мне посланцев. Муравьев есть первый из русских в сей дикой стороне, и сведения, которые передает нам о ней, чрезвычайно любопытны»1.
Узнав о возвращении Муравьева из Хивы, восторженный Иван Бурцов писал ему: «Имя твое, достойнейший Николай, превозносимо согражданами. Подвиг, тобой совершенный, достоин славного Рима. Как ни равнодушен век наш к подобным делам, но не умолчит о тебе история»2.
Прошло несколько лет. Муравьев почти не выезжал с Кавказа, мирил горцев, изучал персидский и турецкий языки, много читал, участвовал во второй туркменской экспедиции, был секундантом А. И. Якубовича на его дуэли с А. С. Грибоедовым. Потом довольно близко сошелся с Грибоедовым, хотя всегда испытывал к нему какое-то двойственное чувство, которое и сам едва ли мог объяснить. Уважение и интерес к Грибоедову часто сочетались с непонятным и трудно преодолимым раздражением к нему.
Еще в октябре 1818 г. Муравьев записал: «…видел Грибоедова. Человек весьма умный и начитанный, но он мне показался слишком занят собой»3. Был момент, когда сам он чуть было не стрелялся с Грибоедовым, но дело как-то обошлось. Муравьев все внимательнее присматривался к Грибоедову и в 1822 г. отметил: «Образование и ум его необыкновенны»4.
1 «Русский архив», 1887, № 9, с. 394.
2 Цит. по кн.: Задонский Н. Горы и звезды.– М., 1965, с. 153.
3 Цит. по кн.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников.– М., 1980, с. 41.
4 Там же, с. 90.
[66]
Муравьев был одним из первых, кто дал высокую оценку дипломатической деятельности Грибоедова после его трагической смерти: «…Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте… он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию… не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места»1.
Особые отношения связывали Муравьева с А. П. Ермоловым, для которого он был не просто подчиненным, но доверенным лицом. У них оказалось много общих знакомых и друзей, деятелей тайных обществ. Когда-то Ермолов был тесно связан с декабристами, потом его отдалило от них время и расстояние, но сохранилась переписка и неподвластные ни пространству, ни времени взаимная симпатия и добрые чувства. Бывая в Петербурге и в Москве, Ермолов встречался с многими из прежних друзей, однако не считал себя вправе осведомляться о внутренних делах тайных обществ. Однажды в 1822 г. в Москве, увидев М. А. Фонвизина, он подозвал его: «Поди сюда, величайший карбонари! Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он <Александр 1> вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся»2.
Муравьев разделял политические взгляды Ермолова, его отношение к правительству. У них были общие представления о позиции гражданина и долге перед отечеством. «Римские добродетели сего человека единственны»,– сказал Муравьев об Ермолове (1886, № 4, с. 523).
Весть о восстании на Сенатской площади сблизила их еще более. Оба они оказались под подозрением как друзья казненных и опальных декабристов; Муравьев – как близкий родственник многих из них. Оба понимали, что Ермолов скоро будет отозван с Кавказа и, вероятнее всего, уволен в отставку. Кроме всего прочего, у главнокомандующего было всегда много недоброжелателей. Хорошо знавший Ермолова и его окружение М. А. Фонвизин очень точно сказал когда-то, что многим людям «колола глаза военная слава и античный характер Алексея Петровича, которого биография, беспристрастно и умно написанная, была бы под стать Плутарховым жизнеописаниям знаменитых людей Греции и Рима»3.
1 Цит. по кн.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников, с. 69.
2 Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. I.– Иркутск, 1979, с. 43.
3 Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2, с. 173.
[67]
В 1827 г. Ермолов был смещен и его место занял ничтожный, коварный и капризный И. Ф. Паскевич. По совету Ермолова Муравьев остался при Паскевиче помощником начальника штаба с тем, чтобы продолжать прежнюю политику завоевания Кавказа, разумную и по возможности гуманную.
С приходом Паскевича судьба Муравьева изменилась – и надолго. Не то, чтобы удача отвернулась от него; ему по-прежнему везло, и это везение было следствием его таланта, военной инициативы и личной смелости. Но с этих самых пор лавры его блестящих побед пожинал не он, а другие. Он и прежде служил отечеству бескорыстно, теперь же почти безымянно. Его победы на Кавказе умело и ловко использовал в своих целях бездарный Паскевич. Хотя вскоре после взятия Тавриза Муравьев и был произведен в генерал-майоры, истинную признательность императора снискал не он, а Паскевич.
В 1833 г., после того как Муравьев, посланный с секретной миссией в Турцию и Египет, добился заключения выгоднейшего для России Ункяр-Искелесийского договора, честь и слава достались не ему, а А. Ф. Орлову. Кстати сказать, в соответствии с секретной статьей этого договора Турция обязалась (ни много ни мало) по требованию России закрыть Дарданельский пролив для всех иностранных военных кораблей. Как коротка и неблагодарна человеческая память! Кто, кроме историков, вспомнил впоследствии имя Муравьева и заслуги его перед отечеством? А ведь недобрая память о М. Н. Муравьеве-вешателе пережила его время и укрепилась в сознании потомков.
Вслед за поездкой в Турцию и Египет последовало повышение по службе: Муравьев был назначен командиром корпуса. В жизни его произошла перемена, он женился на Наталии Григорьевне Чернышевой, сестре декабриста Захара Чернышева, которого опекал он на Кавказе. Его связи с опальными деятелями тайных обществ приобрели теперь характер семейственный, что вызывало особое подозрение власть предержащих. К тому же Муравьев, пытаясь облегчить участь декабристов, проявлял чрезмерную активность.
Энергия, свойственная сильному и настойчивому характеру Муравьева, проявилась и в заботах его о положении солдат. Бессильный изменить это положение ра-
[68]
дикальным образом, Муравьев подал Николаю I докладную записку, где изложил «все неудобства и бедствия, коим подвержены несчастные нижние чины». Этот рискованный поступок не был, однако, опрометчивым; быстрых и опрометчивых решений он почти никогда не принимал. Сказалась здесь и природная доброта его, милосердие к простому человеку. Один из современников писал о Муравьеве: «Под суровою оболочкою его скрывалось самое теплое и сострадательное сердце. В мерах взыскания он всегда отклонял все, что могло уничтожить будущность виновного. В командование свое на Кавказе он не решился подписать ни одного смертного приговора, не сделал никого несчастным»1.
Муравьев наблюдал жизнь русского солдата с ранней юности и представлял себе ее вполне отчетливо. В память его глубоко запало возвращение из заграничных походов 1814 г., когда победившие «непобедимую» наполеоновскую армию солдаты предпочитали остаться на чужбине, чтобы не тянуть невыносимую лямку солдатчины у себя на родине. На родине, которую они отстояли своей кровью.
С горечью истинного патриота он рассказал об этом в «Записках»: «Во все время похода до своей границы у нас было много беглых во всех полках. Люди уходили, иные с лошадьми и с амуницией. Зная трудное положение нашего солдата в России, это бы и не странно казалось: но удивительно то, что в числе беглых были старые унтер-офицеры, имеющие кресты и медали. Побегов всего более сказывалось в пехоте. Вообще в этом походе от Парижа до своей границы мы лишились около 6000 беглыми, из которых впоследствии многих возвратили нам союзные державы» (1886, № 2, с. 119).
Докладная записка не прошла ему даром. Для Николая I она стала поводом выразить всю накопившуюся ненависть к этому независимому и слишком свободомыслящему генералу. И Николай воспользовался первым удобным случаем, чтобы припомнить Муравьеву все: прежние связи с тайными обществами, попечения о разжалованных в солдаты и отправленных в «теплую Сибирь» (циничная шутка императора, называвшего так Кавказ), дружбу с Ермоловым, родственные связи с де-
1 Дондуков-Корсаков А. М. Воспоминания.– Кавказский сборник, Т. I. – Тифлис, 1876, с, 366.
[69]
кабристами. Его характер раздражал Николая: Муравьев никогда не проявлял искательства, и в нем легко угадывалось высокое чувство человеческого достоинства.
По личному распоряжению Николая Павловича Муравьев после одного из военных смотров, к которым так исступленно-придирчиво относился император, был лишен генеральского звания и отставлен от службы. Бывший генерал удалился в имение своей второй жены, где думал заняться хозяйственными делами, освободить крестьян и продолжить записки о своей жизни. Он провел в Скорнякове (Воронежского уезда) более десяти лет и осуществил почти все, что задумал. О дальнейшей военной карьере Муравьев не помышлял. Однако судьба распорядилась иначе.
В 1854 г. началась Крымская война. В русском обществе она вызвала необычайный подъем патриотических чувств: с исходом войны связывали судьбы России и Западной Европы. Петербург был объявлен на военном положении, Севастополь называли «нашей Троей».
Осенью 1854 г. Николай I вспомнил о Муравьеве. В конце ноября он был произведен в генерал-адъютанты, назначен наместником и главнокомандующим кавказскими войсками. Муравьев писал: «Не милостью царской мне было вверено управление Кавказом, а к тому государь был побужден всеобщим разрушением, там водворившимся от правления предместника моего. Находясь в столице близ государя и первенствующих лиц, я видел ничтожность многих. Еще раз убедился в общем упадке духа в высшем кругу правления, в слабости, ничтожестве правящих. Я видел своими глазами то состояние разрушения, в которое приведены нравственные и материальные силы России тридцатилетним безрассудным царствованием человека необразованного, хотя, может быть, от природы и не без дарований, надменного, слабого, робкого, вместе с тем мстительного и преданного всего более удовлетворению своих страстей, наконец, достигшего как в своем царстве, так и за границею высшей степени напряжения, скажу, презрения, и опирающегося, еще без сознательности, на священную якобы преданность народа русского духовному обладателю своему,– сила, которой он не разумеет и готов пользоваться для себя лично в уверенности, что безусловная преданность сия относится к лицу его, нисколько не забо-
[70]
тясь о разрушаемом им государстве»1. Эта поразительно точная характеристика Николая и политической ситуации в России сделана не просто умным, благородным и проницательным человеком, но государственным мужем, сознающим свою величайшую ответственность перед отечеством и историей.
В 1855 г. Муравьев приехал на Кавказ. Летом того же года русские войска под его командованием вошли в Турцию, взяли крепость Ардаган и начали осаду Карса. Штурм этой крепости, считавшейся неприступной, имел мировой резонанс и прославил имя Муравьева. Во время штурма, продолжавшегося восемь часов, Муравьев, серьезный и молчаливый, сидел на камне, на вершине Столовой горы, к подножию которой долетали турецкие ядра. За ходом боя он наблюдал в подзорную трубу.
16 ноября 1855 г. Карс был взят. Муравьев получил Георгиевский крест второй степени. Это было первой пощечиной нового царя, Александра II. Не дожидаясь второй, Муравьев без колебаний написал прошение об отставке. Оно было удовлетворено. Муравьев вернулся в Россию. Он прожил еще одиннадцать лет, удалясь от государственных дел и спеша творить добро.
Сложное и отвлеченное понятие связи времен подчас оказывается удивительно конкретным. Спустя много лет после смерти Н. Н. Муравьева его забытая могила привлекла внимание мальчика, который родился и жил в тех краях, где окончил свои дни генерал. Отшумели войны и революции. Мальчик вырос и стал писателем Н. А. Задонским. В течение многих лет писателя тревожила мысль о несправедливо забытом Муравьеве. Задонский начал изучать его биографию и, как это часто бывает, материал «пошел ему в руки». В архивах он нашел интереснейшую неопубликованную переписку Муравьева с декабристами, общественными деятелями, писателями (в том числе с Грибоедовым), неопубликованные по цензурным соображениям части «Записок», служебные бумаги и т. п. Долг требовал от Задонского рас-
1 Цит. по кн.: Задонский Н. А. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2.– М., 1981, с. 580.
[71]
сказать соотечественникам о замечательном человеке, незаслуженно обойденном прижизненной и посмертной славой. Так родился роман «Горы и звезды», соединивший две эпохи и вернувший нам Николая Николаевича Муравьева.
ЛИТЕРАТУРА
Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. – М., 1955.
Задонский Н. А. Новое в истории декабризма.– «Октябрь», 1963, № 7.
Задонский Н. А. Новое о Священной артели и ее основателе.– «Вопросы истории славян». Вып. 1. Воронеж, 1963.
Задонский Н. А. Тайны времен минувших.– Воронеж, 1964.
Задонский Н. А. Горы и звезды. (Жизнь Муравьева).– Избранные соч. В 2-х т. Т. 2,– М, 1981.
Из эпистолярного наследия декабристов. Письма к Н. Н. Муравьеву-Карскому.– М., 1975.
Родился я 14-го июля 1794 г., воспитывался и учился в родительском доме. В феврале месяце 1811 г. отец привез меня в Петербург для определения в военную службу.
Я не имел опытности в обращении с людьми, обладал порядочными сведениями в математике, не имел понятия о службе и желал вступить в нее. Уже четыре года был я влюблен. Сначала я бывал только у своих родственников, т.е. у братьев и двоюродного брата Александра Мордвинова1. С сим последним и со старшим братом детские ссоры довольно часто расстраивали наше согласие; в детстве ссоры эти вызывали между нами драки, в описываемое время кончались упреками, иногда горькими; теперь же спором и смехом.
Брат Александр2 был годом меня старее в службе. В день приезда моего в Петербург, он возвратился из Волыни, куда был командирован для съемки. Увидев его в офицерском мундире, я сердечно порадовался при мысли, что скоро сам его надену. Дня три после его приезда, отец повез меня рекомендовать к капитану Сулиме, а сей последний к г<енерал>-адъют<анту> князю Петру Михайловичу Волконскому3, который, исправляя тогда должность генерал-квартирмейстера, исключительно занимался преобразованием генерального штаба, называвшегося тогда свитою его величества. Наступил страшный день, назначенный для экзамена. Полковник Хватов и подполковник Шефлер, которые меня экзаменовали, первый в фортификации, а второй в математике, знали менее моего; я хорошо выдержал экзамен, они остались довольны и донесли о том князю, который поздравил меня колонновожатым и приказал мне немедленно явиться в Семеновский полк к полковому адъютанту Сипягину для обмундирования. Я прибежал домой, запыхавшись, и обрадовал отца, который с нетерпением ожидал решения (подагра его удерживала в постели). То было в пятницу. Мне не терпелось надеть братнин кивер и саблю, и, поехав в Семеновский полк, я заказал себе мундир, который надел в воскресенье поутру. <…>
Я жил близ Смольного монастыря, в так называемой Подгорной, на квартире у дяди Мордвинова4. Связи и знакомства мои не были обширны. Особенной дружбы ни с кем не имел, в приятельском же кругу бывали у меня сослуживцы Колычев и Мйхаила Александрович Ер-
[73]
молов; часто видался я также с Матвеем Муравьевым-Апостолом5, служившим тогда юнкером в Семеновском полку. Колычев принадлежал к числу тех молодых людей, которых называют отчаянными головами; ему было 23 года, он имел сведения и был верный товарищ. Он сначала имел неудовольствия по службе, потому что поссорился с начальником; впоследствии, в кампании 1812 г., он пристал к партизанам и по отличию достиг чина ротмистра в Александрийском гусарском полку. Ермолов был мне ровесник. Он был хорошо воспитан, скромен и с познаниями. Товарищи любили его. Он перешел от нас в гвардейский егерский полк, где также приобрел себе общее расположение сослуживцев и начальников. В 1813 г. Ермолов отличился храбростью в сражении под Кульмом, где был жестоко ранен. Матвея Муравьева-Апостола я очень любил. Он благородный малый и прекрасного нрава; жаль только, что он мало учился, через что природные дарования его остаются втуне; хотя он характера легкого и склонен следовать примеру других, он может заблуждаться, но правила чести его безукоризненны. Он приходил ко мне делить свое горе, ибо имел неудовольствия от своего отца, который не умел ценить счастливого нрава Матвея. С братом его Сергеем6 я не был так близок, как с ним.
Я жил вместе с братом Александром и двоюродным братом Мордвиновым. Случалось нам ссориться, но доброе согласие от того не расстраивалось. Мы получали от отца по 1000 р. асс<игнаций> в год. Соображаясь с сими средствами, мы не могли роскошно жить. Было даже одно время, что я во избежание долга в течение двух недель питался только подожженным на жирной сковороде картофелем. Матвей часто приходил разделять мою трапезу, нимало не гнушаясь ее скудостью. Помню, как я в это голодное время пошел однажды на охоту на Охту7 и застрелил дикую утку, которую принес домой и съел с особенным наслаждением. Изредка навещал нас по вечерам бывший экзаменатор мой, добрый Шефлер. По воскресеньям бывал я на вечерах у Н. С. Мордвинова, где танцевали. Страсть моя к дочери его возрастала; я навестил адмирала однажды и на мызе в Парголове8, где он проводил часть лета с семейством. Более я ни у кого не бывал и проводил время дома. Вне служебных занятий вел я жизнь праздную, вовлекшую меня в школьные шалости, которые, может быть, несколько и повредили мне.
[74]
Первая попавшаяся мне книга была «Compère Mathieu» *. Несколько раз прочитал я этот роман, который мне очень понравился, но разрушил все мои религиозные понятия и чувства; однако книга сия не заменила разрушенного новыми правилами и потому она только спутала понятия мои, не возродив ничего нового. Мне тогда было 16 лет. За этой книгой попалась мне в руки «Новая Элоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся в сих письмах, растрогала мое сердце, по природе впечатлительное. Разметанные первым чтением мысли мои начали приходить в порядок. Несколько раз прочитал я с большим вниманием «Новую Элоизу», и страсть моя к Н. Н.9 усилилась. Думаю, что начало это способствовало к развитию во мне нелюдимости, к которой я от природы склонен. Я тогда уже находил удовольствие в уединении, ходил по вечерам задумываться на Быки10, где просиживал до глубокой ночи, ходил на охоту и наслаждался своим одиночеством, когда лежал среди леса, растянувшись на траве вдали от свидетелей, коих, казалось, избегали и мысли мои. Предаваясь воображению, я сравнивал положение свое с положением независимого человека. Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорит. Не менее того чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям, предался созерцательности и обленился. Я перемогал свою лень при исполнении обязанностей и стал уже помышлять об отставке. Я и теперь ленив, но не для того однако же сознаюсь в том, чтобы таким признанием пред собою скрыть множество других недостатков, ибо в лености всего легче сознаться. <…>
До 1801 г. мы жили в Петербурге; но вотчим отца моего, князь Александр Васильевич Урусов11, лишившись дочери своей, которая была за бароном Строгановым, и, желая переселиться в Москву, пригласил к себе батюшку с семейством; нас тогда было только три сына, из коих старшему Александру 8 лет. Князю Урусову было 70 лет, близких к нему никого не оставалось; присоединением к себе семейства нашего он, по-видимому, заботился о призрении своем в старости. В отце же моем он приобрел хорошего себе помощника для управления своими имением и делами. Родители мои не имели
* «Ловкач Матью» (фр.).
[75]
достаточно средств, чтобы дать нам должное воспитание, почему и согласились принять предлагаемую им обузу и поступить в истинную кабалу к князю Урусову. Итак, мы перебрались в Москву, где жили в доме у князя, летом же ездили с ним в деревню его Александровское (иначе Долголядье). Сим только способом родители мои могли употребить свои доходы, состоявшие из 5000 р., на наше воспитание, крайне умеряя себя во всех своих издержках; но и при такой умеренности они не могли избежать долгов, от чего доход их уменьшился до 4000 р.
Матушка скончалась в 1809 г. Князь, которому она заменяла покойную дочь, любил ее и был ее смертию очень огорчен. Он сделался до крайности упрямым, вспыльчивым и даже грубым и часто сердился на отца моего, но, чувствуя нужду в нем, удерживался; батюшка же не умел с ним обойтись, как, бывало, матушка, и поэтому несколько раз думал оставить его. Князь Урусов родился в бедности, составил все свое состояние картами и нажил несколько тысяч душ (говорят, однако же, что он честно играл). Он служил в военной службе и вышел в отставку в генерал-майорском чине. У него было много родственников, по большей части люди бедные, и почти все без особенного образования. Родственники князя навещали его и надоедали ему. Он часто бранил их и даже ругал при всех, ибо видел, с каким они нетерпением ожидали смерти его, чтобы завладеть имением, и потому он их не любил, а они нас также не любили. Сказывали, что наш князь Урусов, однажды поссорившись с братом своим Петром, 30 лет с ним не видался, хотя оба жили в одном городе. Счастье избаловало старика, и он часто бывал несносен.
Так как имение князя было благоприобретенное, то он имел право располагать им по произволу. Князь Урусов был очень скуп, но при этом иногда помогал большими суммами своим родственникам, наперед побранив их порядочно; нам же он никогда ничего не давал. Родители мои, хотя и нуждались, но никогда не просили у него денег. Однажды случилось, что батюшка занял у него 2000 р., и он не имел покоя от старика, пока не возвратил их, что принужден был сделать через пять дней после займа. При жизни еще матушки князь сделал свое духовное завещание, в котором назначил нам часть своего имения. Надеясь на сие, отец мой сделал после смерти матушки небольшие долги, что его еще больше рас-
[76]
строило; посему для него было очень тягостно давать каждому из нас по тысяче рублей в год.
Таким средствам соответствовал и род жизни моей. Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны; когда я еще на своей квартире жил, мало в комнате топили; кушанье мое вместе со слугою стоило 25 копеек в сутки; щи хлебал деревянного ложкою, чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом, а часто заменяла и дрова. Так жить, конечно, было грустно, но тут я впервые научился умерять себя и переносить нужду.
Обращаюсь к событиям старого времени, когда бывший начальник Черноморского флота, в третьем колене матушке родственник, адмирал Мордвинов в 1807 г. приехал со своим семейством из Крыма в Москву. В то время, по случаю войны с Францией, формировалось земское войско, и Мордвинов был избран в начальники ополчения Московской губернии. Батюшка, отставной подполковник, был назначен к нему старшим адъютантом. Как адмирал немного разумел в военном управлении, то всем делом распоряжался мой отец. На лето адмирал поместился с семейством и своею главною квартирою в селе Волнителе или Полуектове, принадлежащем князю Барятинскому и находящемся в 20 верстах от села Александровского князя Урусова, где мы жили. Мы ездили тогда к адмиралу, и он бывал у нас в деревне. 14-го июля, в день моего рождения, он приехал к нам с семейством, и мне понравилась меньшая дочь его, Наталия Николаевна, мне ровесница. Мне тогда был 14 год; я тосковал, но не смел никому поверить своей тоски, ходил по ночам в саду один и писал имя ее на деревьях. Один из сих памятников должен еще теперь существовать. Имя ее вырезано на березе на одном из островов, что на большом пруду перед домом. Однажды тайком отправился я ввечеру на остров вопреки запрещения кататься на плотах по пруду; я вступил в бой с сердитыми лебедями, которые тогда яйца высиживали, и согнал их своим шестом, невзирая на поднятый ими крик. Вырезав имя ее на дереве и переправившись на противоположный берег пруда под прикрытием острова, я пришел домой другою дорогою, дабы никому не дать подозрения в моем тайном заявлении. Зиму мы проводили в Москве, и каждое воскресенье нас возили танцевать к Николаю Семеновичу, где страсть моя усиливалась, что было замечено братьями, которые стали смеяться надо мною;
[77]
я краснел, скрывался, но не смел возражать им, дабы не увеличить подозрения.
В 1810 г. Николай Семенович уехал в Петербург с семейством; в 1811 г. я определился в службу и опять увидел Наталию Николаевну. Я был очень робок, и каждое слово мое более и более обнаруживало мои думы. Старики заметили сие, заметила и она; но трудно было узнать ее тогдашнее расположение; однако же, мне казалось, что она была не совсем равнодушна. <…>
В числе частным образом у меня учившихся12 были двое дальних родственников наших Муравьевых, Артамон13 и Александр14, которые вступили тоже в колонновожатые. Отец их Захар Матвеевич15, прозванный нами сахар-медович, в самом деле сладко стлал в речах своих и постоянно рассказывал об осаде Очакова» в которой он участвовал, причем без милосердия лгал; впрочем, он был человек добрый. Артамон и Александр учились прежде в Москве, в обществе у моего отца, но оказались ленивыми, за что были прозваны у товарищей деревяшками. Оба они были склонны к шалостям и мало подавали мне надежды на успехи. Однако же впоследствии старший из них сделался внимательнее и подвинулся более меньшего в изучении математики. Он после перешел штаб-ротмистром в кавалергардский полк и был адъютантом у графа Воронцова16. Второй числился тем же чином в том же полку и служил адъютантом у фельдмаршала Барклая-де Толли17, с которым мать их, немка, Лизавета Карловна находилась в родстве. Сестра их18вышла замуж за генерал-интенданта армии Канкрина19.
Мы часто бывали вместе, и к нам присоединился еще Матвей Муравьев-Апостол, о котором я выше упоминал. Как водится в молодые лета, мы судили о многом, и я, ставя преграды воображению своему, возбужденному чтением «Contrat Social»20 Руссо, мысленно начертывал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться через пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собою надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мне помощниками. Сочинив и изложив на бумагу законы, я уговорил следовать со мною Артамона Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола и двух Перовских, Льва21 и Василия22, которые тогда определились колон-
20 «Общественный договор» (фр.).
[78]
новожатыми; в собрании их я прочитал законы, которые им понравились. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече. Положено было взяться правою рукою за шею и топнуть ногой, потом, пожав товарищу руку, подавить ему ладонь средним пальцем, и взаимно произнести друг другу на ухо слово «чока». Меня избрали президентом общества, хотели сделать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю, но денег на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синие шаровары, куртка и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства; но и тут ни у кого денег не оказалось, посему собирались к одному из нас в мундирных сюртуках. На собраниях читались записки, составляемые каждым из членов для усовершенствования законов товарищества, которые по обсуждении утверждались всеми. Между прочим постановили, чтобы каждый из членов научился какому-нибудь ремеслу, за исключением меня, по причине возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владение наше против нападения соседей. Артамону назначено быть лекарем. Матвею – столяром. Вступивший к нам юнкер конной гвардии Сенявин должен был заняться флотом. Мы еще положили всем носить на шее тесемку с пятью узлами, из коих развязывать ежегодно по одному. В день первого собрания, при развязывании последнего узла, мы должны были ехать на остров Чоку, лежащий подле Японии, рекомендованный нам Сенявиным и Перовским-старшим. В то время проект наш никому не казался диким, и все занимались им как бы делом, в коем, однако же, условные знаки и одеяния всего более обращали на себя внимание. Не так быстро подвигалось составление общими силами устава общества, которого набралось не более трех писанных листов. Всем членам назначены были печати с изображением звания и ремесла каждого, но опять ни у кого денег не доставало, чтобы вырезать сии печати, на собраниях же каждый назывался своим именем, читанным наоборот с конца. <…>
Французские войска были уже на границах наших. Молодые офицеры мечтали о предстоявшей им бивачной жизни и о кочевом странствовании вне пределов столицы, помимо часто досадливых требований гарнизонной службы. Они увлеклись мыслью, что в бою с неприятелем уподобятся героям древности, когда каждый мог озна-
[79]
меновать себя личною храбростью. Повествования о подвигах древних рыцарей и примеры воинской доблести, почерпаемой при чтении жизни героев, действительно служат к пробуждению воинского духа между молодыми людьми. Я слышал от А. П. Ермолова, что накануне Бородинского сражения он читал с гр<афом> Кутайсовым23, убитым в сем сражении, песни Фингала24. Понятия о святости обязанностей, конечно, обеспечивают исполнение оной, но примеры отличных подвигов украшают сию обязанность.
Гвардейские полки выступили в поход, помнится мне, в феврале месяце25; многие из офицеров наших были расписаны по войскам и выехали из Петербурга. <…>
Отправляясь в Вильну, мы избрали себе старшиною на время дороги брата Александра, как личность опытнее других в путешествиях. Ему предоставлено было назначать ночлеги, обеды, отдыхи, и мы обязывались исполнять его приказания. По предложению Александра всем были розданы должности: мне поручено было платить за всех прогоны, брату Михайле носить подорожные к смотрителям и хлопотать о лошадях, а Колошину заказывать и платить за обеды и чаи. Между слугами завели очередных, которые должны были смотреть, чтобы ямщики по ночам не дремали. Все это нас много забавляло; да иначе и быть не могло: первый еще раз на свободе, и где же? На большой дороге, где нет ни начальства, ни полиции. Не обошлось и без некоторого буйства: сворачивали в снег встречающие экипажи, били ямщиков, шумели с почтмейстерами и проч.
Приехали в город Лугу, откуда поворотили влево проселком, чтобы побывать в отцовской родовой вотчине Сырце. Мы, двое старших, очень обрадовались увидеть сие место, где провели ребяческий возраст: я до седьмого года от рождения, брат же до девятого. Все еще оставалось у меня в памяти после десятилетнего отсутствия, где какие картины висели, расположение мебели, часы с кукушкою и проч. Первое движение наше было рассыпаться по всем комнатам, все осмотреть, избегать лестницы и даже чердак, как будто чего-нибудь искали. Старые слуги отца обрадовались молодым господам; некоторых нашли мы поседевшими, иные представляли нам детей своих, которых мы прежде не видали, и скоро около нас собрались всякого возраста и роста мальчики, которые набивали нам трубки и дрались между собой за честь услужить барину. Старые мужики и
[80]
бабы также сбежались, принося в дар кур, яйца и овощи. Сыскался между дворовыми какой-то повар и поспел обед, состоявший из множества блюд, все куриных и яичных.
С мундиром приобретается у молодых людей как будто право своевольничать, и сундуки были отперты. Александр премудро разговаривал то с земским, то с ключником, то со старостой и слушал со вниманием рассказы их о посеве и жалобы, не понимая ничего. Ему, как старшему, и следовало принять на себя важный вид, дабы нас не сочли за детей. Между тем он с нами вместе осматривал сундуки, и мы смело друг друга уверяли, что батюшка за то не может сердиться, потому что мы в поход отправлялись. Михайла достал какой-то двухаршинный кусок красного кумача, который он долго с собой возил и, наконец, употребил, кажется, на подкладку. Я добыл себе отцовскую старую гусарскую лядунку26, которая у меня весь поход в чемодане везлась; после же носил ее слуга мой, Артемий Морозов (которого я взял с собой 1813-го года в поход и одел донским казаком). Александр приобрел какую-то шведскую саблю, которая от ржавчины не вынималась из ножен. Кроме того, мы еще пополнили свою походную посуду кое-какими чайниками и стаканами. Затем старый земский Спиридон Морозов, опасаясь ответственности, принес нам реестр вещам, оставленным батюшкою в деревне, прося нас сделать на нем отметки. Глядя друг на друга, мы вымарали из реестра взятые вещи и подписали его. Батюшка впоследствии несколько погневался за наше самоуправство, но тем и кончилось.
Мы поместились в отцовском кабинете, приказали принести большой запас дров и, во все время пребывания нашего в деревне, содержали неугасаемое пламя в камине, у коего поставили двух мальчиков для наблюдения за тем, чтобы огонь не погас. К вечеру перепилась почти вся старая дворня, причем не обошлось без драк и скандалезных происшествий, в коих нам доводилось судить ссорившихся и успокаивать шумливых убедительными речами. Иные хотели с нами отправляться на войну, и мы сами не рады были возбудившемуся появлением нашим буйному духу.
Обрадованный или испуганный внезапным приездом нашим, приказчик Артемий прискакал из села Мроктина, где он обыкновенно пребывает и уже 15 лет как постоянно находится под каплею, от чего, может быть, и
[81]
сделался заикою. Желая показать первенство свое над другими, он выступил вперед и собирался сказать нам речь, но язык его не зашевелился; он наклонился под углом 45-ти градусов к нам, выставил одну ногу вперед, дабы не упасть, и оказался в таком положении, что если бы ему один только золотник на голову положить, то, перевесившись, он лежал бы у нас в ногах. Левой рукой держался он за кушак, правой же делал различные знаки, желая что-то сказать, но судорожное молчание его только изредка прерывалось отрывистыми восклицаниями: «Батюшка Александр Николаевич! Батюшка Николай Николаевич! Батюшка Михайло Николаевич! А вас (указывая на Колошина),– виноват, не знаю, как зовут; того, того, того. Хлеб, сударь, того, того, десяточек яиц! – 6 курочек, того, того, урожай, того, того, того, сударь, оброк. Отцы родные! Соколики!» и пр. Мы его уговорили уйти и заснуть; он послушался, но на другой день, встав до солнца, опять пришел и простоял в углу занимаемой нами комнаты в том же нравственном расположении, как накануне.
Хотелось мне объехать старых соседей. Я помнил, что была какая-то пожилая соседка Прасковья Федоровна, которая жила в двух верстах от нас, помнил даже дорогу к ней. Приказав оседлать лошадь, я навестил ее и нашел ту же старушку. В доме ее находилось все в том же положении, как я за 12 лет видел: на стене висел в круглой черной рамке тот же барельефом сделанный монумент Петра Великого, по окнам висели те же клетки с канарейками, те же кошки с котятами, которые меня царапали и с которыми мне играть запрещали, – разумеется, потомки прежних канареек и котят. Я заметил только, что у Прасковьи Федоровны выросли седые, редкие, но довольно длинные усы, чего у нее прежде не было. Проведя у нее около часа, я возвратился к нашему пылающему камину.
Я навестил также безрукого и безногого соседа, барона Роткирха, которого видал в моем ребячестве. Он также жил с женатым братом своим в другом селе; дом и садик у них были хорошенькие. Ныне же, после развода брата его с женою, он остался одинокий. При разделе, в коем его, может быть, и обидели, ему досталась изба с небольшим участком земли, несколько дворов крестьян и слуга. Этот барон Роткирх родился без рук и без ног; на место ног у него две маленькие лапки длиною вершков в 6 с пальцами. Туловище и голова его
[82]
очень большие. Он получил некоторое образование и около 50 уже лет сидит неподвижно на своих лапках, занимаясь чтением. Листы лежащей пред ним на пюпитре книги переворачивает он языком и зубами. Выражение лица его приятное и умное, разговор занимательный; он хорошо пишет своими лапками, даже рисует и вырезывает из бумаги разные игрушки для детей. Он езжал к нам на дрожках, сидя на кожаной подушке, с которою его вносили на ремнях в комнату; слуга кормил его, стоя за стулом, и давал ему даже табак нюхать. Когда Роткирх жил в своем семействе с матерью, которую очень любил, он не думал о своей будущности; круг соседей их был многолюден, и они находили удовольствие в беседе с человеком довольно начитанным. Я навестил несчастного вечером, уже в сумерках. Он сидел на стуле один без свечки: слуга его часто отлучался, оставляя его одного на целые сутки, иногда с отпертыми настежь дверьми. Слова его ни к чему не служили, и ему приходилось терпеть холод, ибо никто его не посещает. В избе заметна бедность, но беспомощный страдалец с терпением и в молчании переносит свою горькую участь. «Антон Антонович,– сказал я ему,– сочувствую вашему несчастию и желал бы посещением своим, хотя на минуту, утешить вас».– «Благодарю вас, Николай Николаевич,– отвечал он.– И батюшка ваш не оставлял меня. Вы видите, мое положение не то, что прежде было. В течение 50-летней жизни моей я привык к терпению, и что ж больше делать? Вот уже почти десять лет, как я заброшен, забыт и десять лет молчу. Теперь уже не долго ждать конца: бог милостив и прекратит мою жизнь».
Я возвратился к камину грустный и застал дома другого соседа. Опишу его и виденное у него в доме, как картину быта мелкого помещика и деревенской его жизни.
То был Петр Семенович Муравьев, дальний родственник наш, человек лет 50-ти, когда-то записанный сержантом в Измайловском полку, откуда он был выпущен, как при Екатерине водилось, капитанским чином по армии; вышел в отставку, никогда не служивши, и поселился на житье в своем сельце Радгуси, отстоящем в пяти верстах от нашего Сырца. Тут он построил себе порядочный дом, копит деньги и ездит каждые пять или шесть лет на лошадях своих крестьян в Москву; иногда бывает в Петербурге, где останавливается в Ямской слободе у знакомых ямщиков, откуда справляет в зеленой тележ-
[83]
ке визиты к своим родственникам, засиживаясь у них по целым дням, если же не с ними, то пьянствует с их дворовыми людьми. Хотя человек этот без всякого воспитания, но он по носимой им фамилии ласково принимаем моим отцом, к которому имеет большое уважение. Обыкновенное общество Петра Семеновича в деревне состоит из попов и приказчиков околодка, с которыми он пьет и нередко дерется, причем случалось, что его обкрадывали и пьяного привозили на телеге домой без часов или других вещей, при нем находившихся. Петр Семенович известен также в околодке своими раскрашенными дугами и коренными лошадьми, на которых он иногда тратит деньги. Он жестоко обходится со своими крестьянами и дворовыми людьми, насильственно бесчестит девок и в пьянстве своем палками наказывает баб, раздев их прежде наголо и привязав к кресту, на сей предмет сделанному. Такая, по крайней мере, неслась о нем дурная слава. Вместе с этим он большой хлебосол. С ним в доме живут баба-наложница, староста и кучер Фомка; при нем же находилась и побочная дочь его, хорошенькая девочка, лет 18-ти, которую он часто бивал по праву родительскому; говорили, что и она вела жизнь не совсем скромную. Едва ли проходил год, в который не бежал бы от него кто-либо из его дворовых людей, с уворованием денег из накопляемой им казны, которая хранится в амбаре, в окованном сундуке за несколькими замками, из коих первый у него самого всегда в руке. Некоторые из сих беглых людей были пойманы и зарезались. Затем из дворовой прислуги оставался при Петре Семеновиче только один десятилетний мальчик, который за ним безотлучно носил табакерку и платок в те дни, когда к нему приезжали гости. Мальчика этого называл он Шер и постоянно драл его за уши.
Услышав о приезде нашем, Петр Семенович крайне обрадовался, прискакал к нам и, приказав вытопить у себя баню, звал нас на другой день к себе обедать. На другой день мы отправились к Петру Семеновичу; обед был хороший. Хозяин всячески старался угождать нам, и хотя то было во время великого поста, он велел созвать всех деревенских баб и девок, поставил их в комнату около стен и приказал им песни петь. Между тем сам он не переставал пить и нас хотел к тому же склонить, но мы были осторожны и выливали вино под стол на пол. Хозяин начал было плясать, но, не будучи более в состоянии ходить, он приказал себя по комнатам
[84]
водить, только приплясывал и кланялся нам в ноги с поддержкою, разумеется, старосты и Фомки-кучера. Перед ним шел наименованный Шер с платком и табакеркою барина, не перестававшего твердить нам: «Батюшка ваш, братец мой Николай Николаевич, которого я много люблю и почитаю, сказал мне: Петр Семенович, в тебе ума палата! Ах, не будь я Муравьев, дай башмаки, к царю пойду». Пьяный надел милиционную шляпу свою с зеленым султаном, препоясался саблею, и в таком виде волокли его по комнатам. Когда ввечеру мы в бане мылись, то Фомка и староста привели его под руки к нам пьяного и еще наголо раздетого.
Было поздно. Мы хотели возвратиться домой, но кучера наши были пьяны, а Петр Семенович не велел саней закладывать. Александр остался с ним, мы же разошлись по другим комнатам и легли на полу, как были в мундирах, подложив шинели в голову. Только что мы начали засыпать, как Петр Семенович пришел к нам с бабами и приказал им петь; мы вскочили и хотели уйти, но он громко приказал певицам молчать, и все замолчали. Тогда, став впереди их, он провел рукою по воздуху и возгласил им, при самых наглых выражениях, что он их барин. «Так ли?» – заревел им барин.– «Так, батюшка Петр Семенович»,– отвечали они, кланяясь со страху.– «Так пойте же громко и хорошо, а не то я вас! Греметь!» – и все загремело. Комнаты наполнились певицами, от коих некуда было деваться. Колошин шепнул на ухо Михайле, что надобно собираться домой, хотя бы то было пешком. Петр Семенович, услышав это, напал на Колошина: «Что ты по французски-то толкуешь, калмык, башкирец и пр., вон отсюда!» Колошин, опасаясь толчка от сумасброда, готовился было предупредить его, но был задержан братом. После того сосед наш, рассердившись, отпустил нас, и мы возвратились домой очень поздно.
На следующий день мы получили от Петра Семеновичу записку, в которой он просил нас опять к себе, чтобы извиниться перед нами. Не желая оскорбить соседа, мы поехали и застали его на крыльце, окруженным всем своим вечерним штатом: тот же староста с кучером Фомкою держали его под руки. Увидя нас издали, он, как блудный сын, пал ниц на ступенях крыльца и вопил: «Виноват!»,– не будучи в лучшем состоянии, как накануне. Опасаясь возобновления прошедшего, мы провели у него с полчаса и поспешили возвратиться домой; он
[85]
же, по обычаю своему, продолжал гулять таким образом, не выпуская день и ночь баб из своих хором. «Такое у меня сердце!» – говорил Петр Семенович.
После пятидневного пребывания в Сырце мы поехали обратно в Лугу, откуда продолжали свой путь далее.
Перегонов пять за Псковом была почтовая станция Синская, на берегу реки Великой, через которую нам доводилось переправиться для перемены наших уставших от долгого перехода обывательских лошадей. Мы тащились ночью почти всю станцию пешком и, наконец, увидели впереди огонек на почтовом дворе за рекою Великою, на которой лед уже было тронулся, но остановился и снова примерз от бывшего в последние две ночи мороза. На реке оставался только след старого пути, которого извозчики наши не знали и потому поехали прямо. Первые сани провалились сквозь лед недалеко от берега, где еще не было глубоко, и их скоро вытащили. Ночь была темная, холодная, река широкая и глубокая, опасно было ее переехать без проводника; но, видя огонек, я решился и, приказав саням дожидаться на берегу, пустился пешком ощупью по льду, который подо мною трещал. В надежде привести с почты проводника я продолжал путь свой, но отошедши сажен двадцать, когда я был на самой середине реки, лед подо мною вдруг обрушился, и я провалился. На мне был тулуп и сабля, которые меня на дно тащили. Едва успел я руками опереться о края проруби, как ноги стало вверх под лед подымать и волочить по течению. Я упирался, сколько сил было, руками об лед, чтобы вылезть; но лед ломался под руками, и прорубь становилась обширнее. Теряя надежду вылезть, я кричал братьям: «Прорубь, прорубь!» – но они, не зная, что я в нее провалился, отвечали: «Прорубь, так обойди!» Тогда я в отчаянии закричал им: «Братья, помогите, тону!» – и, говорят, таким диким голосом, что они испугались. Они все бросились искать меня по реке. Александр прежде всех нашел меня по голосу и, прибежав к проруби, не видя меня в темноте и полагая, что я уже под водою, он с поспешностью бросился в прорубь, чтобы меня вытащить, и ощупал меня. Мы держались друг за друга одной рукой, другою же цеплялись за лед, чтобы вылезть, но лед все ломился. Тут подбежал Петр, слуга брата Михайлы, который был тогда еще небольшим мальчиком; лед выдержал его, и он нам помог вылезть. Между тем Колошин и брат Михайла, которые бежали ко мне на помощь в другую сторо-
[86]
ну, тоже провалились вместе; их вытащил мой слуга. Возвратившись на берег, мы собрались, перекликаясь, и пошли в сторону отыскивать какой-нибудь ночлег, чтобы обсушиться и обогреться. С версту тащились мы без дороги, по глубокому снегу; все на нас обледенело, и мы наконец добрались до небольшой деревушки, где забрались на печь и оттаяли. Тут и ночевали. На другой день, приехав к реке, увидели стежку, по которой можно было ехать, и переехали благополучно. Но прежде сего брат Михаила отыскал проводников, которые на время ростепели назначаются к сему месту от земской полиции, с приказанием сменяться на берегу день и ночь, и которых накануне не было. Он, объяснив им виновность их, приговорил к наказанию и приказал при себе же наказать, после чего внушал им словами, как всякий человек должен исполнять свою обязанность, и отпустил их.
В избе, где мы ночевали, был небольшой мальчик, коего черты и выражение лица разительно напоминали мне Нат. Никол. Мордвинову. Набросив лик его карандашом на лоскуте бумаги, я не расставался с сим изображением во все время похода. В 1815 году с помощью сего очерка мне удалось с памяти нарисовать портрет ее в миниатюре…
Предыдущий случай на реке Великой не придал нам, однако, благоразумия. Несколько станций не доезжая города Видзы27, извозчики предложили нам ехать кратчайшею верст на 8 дорогою по льду через Браславское озеро, и мы пустились тоже ночью. Извозчики заблудились на озере, потому что метель совершенно занесла дорогу. Мы кружили по всему озеру, перебираясь через трещины; небо закрылось облаками и не было видно звезд; караван наш вдруг остановился. Коренная лошадь в передовых санях провалилась, мы соскочили, а извозчик бежал. Лошадь его действительно сидела задними ногами и брюхом в проруби, и лед кругом трещал. Долго мы на этом месте бились, лошадей вытащили; но мы еще с час после того шли пешком по озеру, наконец прибыли к какому-то селению на берегу и закаялись ночью по льду более не пускаться. Мы переночевали в селении, куда и беглый извозчик наш явился. Он уверял, что три раза обежал все озеро, и лежал у нас в ногах. Его простили.
К следующей ночи прибыли мы на станцию, расположенную в лесу. Смотритель был какой-то польский
[87]
шляхтич по имени Адамович. Он не хотел нам дать ни лошадей, ни жалобной книги. Мужик он был рослый сильный и грубый. Однако мы собирались с ним расправиться, и ему бы плохо пришлось, если б не догадался уйти до лясу, куда увел с собою всех лошадей и извозчиков, оставив нас на станции одних. Мы поставили свой караул у дверей, чтобы захватить первого, кто явится; показался староста, его схватили и угрозами заставили привести лошадей. Мы отправились далее. Адамович, как я после узнал, вступил во французскую службу, где был гусаром.
Мы поехали весьма медленно, потому что проезжих в армию было очень много, выставлены же были на станциях обывательские изнуренные лошади, отчего часто встречались остановки.
Из города Видзы Александр поехал вперед для приготовления нам в Вильне общей квартиры. Трех станций не доезжая Вильны, есть почтовый двор в лесу, помнится мне, Березово, где смотритель был также шляхтич и большой плут. Он хотел взять с нас двойные прогоны и для достижения своей цели услал почтовых лошадей в лес, за что был нами побит, но без пользы. Дело происходило под вечер. Видя, что нас тут бы долго задержали, мы отправили брата Михайлу с Кузьмой, слугою Колошина, верхом на собственных лошадях смотрителя в сторону, искать какого-либо места или селения, чтобы добыть там каких-нибудь лошадей. К утру брат возвратился в польской бричке, а перед ним Кузьма гнал табун лошадей с крестьянами. Выбрав из них лучших, остальных мы отпустили; почтмейстера же еще побили и отправились в путь.
Вот каким образом брат Михайла разжился лошадьми. Со станции поехал он лесом по стежке, не зная сам куда. Проехав версты 4, он прибыл на фольварок28 и пошел прямо к пану, выдавая себя за полковника, Кузьму же в мундире денщика – за своего адъютанта. Пан потчевал их и представил им своих детей; когда же дело дошло до требования, то пан стал ломаться и брат не иначе, как угрозами, мог вызвать к себе старосту, которому приказал привести лошадей, а сам уснул. Поутру староста привел 4-х лошадей, но брат, не будучи тем доволен, пошел сам с нареченным адъютантом своим по деревне, начав с крайнего двора. Они стали выгонять хозяев из домов, и по мере того, как они оставляли свои избы, Кузьма забирал со двора лошадей, брат
[88]
же расправлялся нагайкою с собравшеюся на улице толпою, не допуская возвращения крестьян к своим дворам. Некоторые из них стали, однако, противиться и, схватив палки, подошли к Михайле с угрозами. Тогда он выхватил пистолет и, приложившись на них, закричал, что убьет первого из них, кто приблизится. Крестьяне испугались и по приказанию брата нарядили извозчиков к согнанным лошадям, с которыми он явился к нам на станцию*.
Подъезжая к станции Боярели, мы увидели в поле учение стоявших тут двух егерских батальонов и на короткое время остановились посмотреть различные построения войска. Мысли наши обращались к предстоявшим военным действиям, коих желали скорее увидеть начало. В Боярелях смотритель был какой-то старый важный пан; он имел двух хорошеньких дочерей, за которыми волочились пришедшие после учения егерские офицеры.
Наконец прибыли мы к вечеру в местечко Неменчино, откуда оставалось только 30 верст до Вильны. Мы остановились ночевать, дабы приехать в Вильну днем.
Мы надеялись на другой день рано приехать в Вильну, но лошади попались такие слабые, что мы дотащились только ночью. Мы нашли у заставы записку от брата Александра, а вскоре и его самого, спящим в квартире свиты его величества капитана Сазонова. Усталые, мы сами тут же подремали, а на другой день получили квартиру у пана Стаховского в Рудницкой улице**. К нам присоединился, чтобы вместе жить, по производстве в офицеры, прежний товарищ мой, а тогда адъютант князя П. М. Волконского, прапорщик Дурново ***.
Мы явились к генерал-квартирмейстеру Мухину. Занятий было мало, и потому он приказал нам только дежурить при нем. Помню, что в мое дежурство приехал в Вильну государь и что я просидел во дворце до 2-го или 3-го часа утра (пополуночи). Мухин был человек пустой
* Рассказ этот указывает на настроение польского шляхетства перед войною, равно и расположение к полякам молодых офицеров. Таковы были и порядки между жителями, с которыми военные по-своему расправлялись. 1866. (Прим. автора.)
** Находясь в 1851 году с гренадерским корпусом в Вильне, я тщетно старался найти дом Стаховского. Дома все перестроились, и Стаховского имени никто не помнит. (Прим. автора.)
*** Н. Дмитр. Дурново убит в турецкую войну 1829 года в звании бригадного командира. (Прим. автора.)
[89]
и, говорят, довольно упрямый, бестолковый; образования он не имел, наружностью же был похож на состарившегося кантониста29. При нем находился сын его, колонновожатый, умненький мальчик; адъютантами при нем состояли свиты его величества поручик Озерской, человек очень простой, и прапорщик Десезар, офицер 4-го, помнится мне, егерского полка.
Колошин явился к своему начальнику капитану Теннеру, обер-квартирмейстеру легкой гвардейской кавалерийской дивизии, коею командовал г<енерал>-ад<ъютант> Уваров.
Скоро начались увеселения в Вильне, балы, театры; но мы не могли в них участвовать по нашему малому достатку. Когда мы купили лошадей, то перестали даже одно время чай пить. Мы жили артелью и кое-как продовольствовались. У нас было несколько книг, мы занимались чтением. Из товарищей мы знались со Щербининым, Лукашем, Глазовым, Колычевым, ходили и к Мих. Фед. Орлову30, который тогда состоял адъютантом при князе П. М. Волконском. Тяжко было таким образом перебиваться пополам с нуждою. Новых знакомых мы не заводили и более дома сидели. Такое существование неминуемо должно иметь влияние и на успехи по службе. Однако же брат Александр с трудом переносил такой род жизни. Он пустился в свет и ухаживал за дочерью полицмейстера Вейса. Она после вышла замуж за г<енерал>-ад<ъютанта> князя Трубецкого. Мы познакомились с братом ее, который служит ныне в л.-гв. уланском полку. Александр волочился еще за панною Удинцовою, пленившею красотою своею всех офицеров главной квартиры. Дурново был в особенности занят этою знаменитостию лучшей публики тогдашней Вильны. При всем этом нужда заставляла и брата Александра умеряться в своем образе жизни. Мы были умерены и в честолюбивых видах своих. Однажды, в разговоре между собою, каждый из нас излагал, какой бы почести желал достичь по окончании войны, и я объявил, что останусь доволен одним Владимирским крестом31 в петлицу.
Надобно было покупать лошадей, по одной вьючной и по одной верховой каждому. Брат Михайла был обманут на первой лошади цыганом, а на другой шталмейстером32 какого-то меклен- или ольденбургского принца. Он ходил о последнем жаловаться самому принцу; но немец объявил ему, что никогда не водится возвра-
[90]
щать по таким причинам лошадей и что у него на то были глаза. Брату был 16-й год, он никогда не покупал лошадей и не воображал себе, чтобы принц и генерал мог обмануть бедного офицера, но делать было нечего. Итак, деньги его почти все пропали на приобретение двух разбитых ногами лошадей, помочь же сему было нечем.
Покупая для себя лошадей, я прежде добыл доброго мерина под вьюк; под верх же нашел на конюшне у какого-то польского пана двух лошадей, которых не продавали врозь. Мы их купили с Колошиным. За свою (гнедой шерсти) заплатил я 650 р., за другую же – серую – Колошин заплатил только 600 р. При сем произошла между нами небольшая размолвка, кончившаяся примирением и тем, что моя лошадь была названа Кастор, а его Поллукс33, в знак неувядаемой между нами дружбы. <…>
Войска были разделены на две армии. Главная из них стояла в Литве и называлась 1-ю Западною; при ней находилась главная квартира императора. Сею армиею командовал генерал от инфантерии Барклай-де-Толли. Она состояла из корпусов: 1-го графа Витгенштейна34, 2-го Багговута35, 3-го (гренадерского) Тучкова36, 4-го Шувалова37, впоследствии графа Остермана-Толстого38, 5-го (гвардейского) великого князя Константина Павловича и 6-го Дохтурова39. Конницы было несколько дивизий армейских драгун, гусар и улан. Гвардейская легкая конница составляла одну дивизию под командою Уварова. Одна дивизия кирасир, состоявшая из пяти полков, принадлежала к гвардейскому корпусу и поэтому была под начальством великого князя; ею командовал генерал Депрерадович; гвардейскою пехотою начальствовал генерал-майор Ермолов, нынешний начальник мой. Начальником главного штаба был Беннигсен, генерал-квартирмейстером – Мухин, а дежурным генералом Кикин40. Хотя главная квартира и содержала довольное число праздных людей, но она тогда не была еще слишком многочисленна.
Полки первой армии были разбросаны по кантонир-квартирам41, на большом пространстве, так что неприятелю было легко, пользуясь внутреннею линиею, перейти через Неман в больших силах, не давая нам времени собраться, отрезать несколько частей армии и разбить их поодиночке. Неприятель так и действовал, и если б он имел дело с австрийцами, а не с русскими, то война кончилась бы в несколько дней. В сей первой Западной
[91]
армии считалось под ружьем около 95 000 регулярного войска, артиллерии много; казаков же при ней было только два полка Бугских.
2-я Западная армия формировалась в Житомире, под командою князя Багратиона, которого главная квартира, при открытии военных действий, находилась в Слониме. Армия его состояла из 7-го корпуса Раевского и 8-го Бороздина42; при ней находились 2-я кирасирская дивизия и несколько легкой конницы; казаков при сей армии было довольное количество. Всего регулярного войска считалось у Багратиона до 45 т<ысяч>.
3-я армия, Тормасова43, стояла близ Бреста-Литовского, где она наблюдала за движениями австрийских войск; армия сия состояла из корпусов 9-го Маркова44и 10-го графа Каменского45.
Была еще четвертая армия, поступившая впоследствии под команду адмирала Чичагова46, которая расположена была в Молдавии47; в то время командовал ею еще Кутузов.
Отдельные корпуса были: Казачий – графа Платова48, который, кажется, стоял на Немане49. Казаков в нем считалось более 15 т. Эртеля50, состоявший из 12 т., который стоял в Мозыре и не принимал прямого участия в военных действиях. Эссена51– в Риге, небольшой корпус, который действовал против пруссаков около Митавы52 и сжег без достаточной причины предместья города Риги. Сим корпусом впоследствии командовал маркиз Паулуччи53. Штенгеля54 – в Финляндии; сей был высажен около Риги и соединился с графом Витгенштейном под Полоцком.
Полки в сих армиях состояли только из 1-х и 3-х батальонов; вторые же числились в резерве, были в большом некомплекте и находились внутри России. Но и батальоны, состоявшие налицо, были также неполны. По сей причине, при большом количестве корпусов и полков, боевые силы наши в действительности были очень умеренные. Были заготовлены большие хлебные запасы, но их много истребили при отступлении.
Французская армия, расположенная на границе, была гораздо сильнее нашей. Войска их были старые и привыкшие к победам. Конницы множество и хорошей, артиллерии также много. <…>
С нашей стороны распоряжался государь; но на войне знание и опытность берут верх над домашними добродетелями. Начальник первой Западной армии, Барк-
[92]
лай-де-Толли, без сомнения, был человек верный и храбрый, но которого по одному имени солдаты не терпели55, единогласно называя его немцем и изменником. Последнего наименования он, конечно не заслуживал, но мысль сия неминуемо придет на ум солдату, когда его без видимой причины постоянно ведут назад форсированными маршами. Все войско наше желало сразиться и с досадою каждый день уступало неприятелю землю, по которой оно двигалось. Что же касается до названия немца, произносимого со злобою на Барклая, то оно более потому случалось, что он окружил себя земляками, которых поддерживал по обыкновению своих соотечественников. Барклай-де-Толли мог быть предан лично государю за получаемые от него милости, но не мог иметь теплой привязанности к неродному для него отечеству нашему. Так разумели его тогда русские, коих доверием он не пользовался, и он скоро получил кличку: болтай да и только.
Армия наша, как выше сказано, была разбросана и неосторожно расположена на границах, по распоряжениям Барклая-де-Толли. Доказательством справедливости сего суждения служит то, что французы, переправившись через Неман, отрезали несколько корпусов, которые не успели даже получить приказания от главнокомандующего к отступлению56. <…>
Старались склонить государя, чтобы он сам начал военные действия, перейдя за Неман, и чтобы в таком случае армия Багратиона действовала в тылу неприятеля. О том действительно была речь, но государь, по-видимому, не хотел быть зачинщиком и надеялся еще сохранить мир. Судя по расположению наших войск и по первоначальным движениям их, скорее казалось бы, что настоящего плана кампании не было никакого. Инерция и нерешимость руководствовали нами, когда Наполеон, 11-го числа июня, неожиданно перешел Неман в Ковне с большими силами. <…>
Мы пошли к Смоленску форсированными маршами, а французы заняли Витебск. <…>
Из Витебска в Смоленск поспели мы в три дня; я находился при кирасирской дивизии, в коей познакомился со многими офицерами, особливо в кавалергардском полку с Луниным57, Давыдовым, Уваровым и другими.
При вступлении в Смоленскую губернию мы увидели, что все помещики выезжали из своих деревень, крестьяне же уходили с семействами и скотом в леса. Во
[93]
время похода нашего к Смоленску все вообще знали, что неприятель хотел нас предупредить в Смоленске, и от того разносились пустые слухи, что несколько неприятельских ядер упали на нашу дорогу; иные говорили даже, что видели неприятельскую армию, тянущуюся к Смоленску. Слухи сии сначала произвели несколько беспокойства, но вскоре оказалась их нелепость. Однако же мы шли с большою неосторожностью. Конница и артиллерия проходили лесами без пехотного прикрытия. Легко могло случиться, что отряд французской пехоты остановил бы нас в лесах. Цель французов была не допустить соединения нашей армии с Багратионовой, что им, однако же, не удалось.
Не доходя одним переходом до Смоленска, мы на пути завтракали у помещика Волка, у которого были две прекрасные дочери лет двадцати. Слышалось впоследствии, что девицы эти увезены были французами и обруганы. Подобными неистовствами, часто повторявшимися, французы озлобили против себя народ.
Придя к Смоленску, мы стали лагерем, в двух верстах не доходя города. Квартира великого князя была на мызе. Так как мне и брату не было никаких занятий, то мы отпросились на несколько времени посетить знакомых. Брат Михайла отправился в Семеновский полк, где его любили, а я – в кавалергардский к Лунину, и мы таким образом провели дня три. Александр находился при генерале Лаврове58, командовавшем тогда гвардейскою пехотою. Служба наша не была видная; но трудовая; ибо не проходило почти ни одной ночи, в которую бы нас куда-нибудь не посылали. Мы обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться. Завелись вши. Лошади наши истощали от беспрерывной езды и от недостатка в корме. Михаила начал слабеть в силах и здоровьи, но удержался до Бородинского сражения, где он, как сам говорил мне, «к счастию был ранен, не будучи более в состоянии выдержать усталости и нужды». У меня снова открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с коими я, однако, отслужил всю кампанию до обратного занятия нами в конце зимы Вильны, где, не будучи почти в силах стоять на ногах, слег.
Я жил в кавалергардском полку у Лунина в шалаше. Хотя он был рад принять меня, но я совестился продовольствоваться на его счет и потому, поехав однажды
[94]
в Смоленск, купил на последние деньги свои несколько бутылок цимлянского вина, которые мигом были выпиты с товарищами, не подозревавшими моего стесненного положения. Положение мое все хуже становилось: слуги у меня не было, лошадь заболела мытом59, а на покупку другой денег не было. Я решился занять у Куруты60125 рубл., которые он мне дал. Долг этот я через год уплатил. Оставив из этих денег 25 р. для своего собственного расхода, остальные я назначил для покупки лошади и пошел отыскивать ее. Найдя в какой-то роще кошмы или вьюки донских казаков, я купил у них молодую лошадь. Я ее назвал Казаком, и она у меня долго и очень хорошо служила, больную же отдал в конногвардейский конный лазарет.
Курута мало беспокоился о нашем положении, а только был ласковым и с приветствиями беспрестанно посылал нас по разным поручениям. Брат Михайла сказывал мне, что, возвратившись однажды очень поздно на ночлег и чувствуя лихорадку, он залез в шалаш, построенный для Куруты, пока тот где-то ужинал. Шел сильный дождь, и брат, продрогший от озноба, уснул. Курута скоро пришел и, разбудив его, стал выговаривать ему, что он забылся и не должен был в его шалаше ложиться. Брат молчал; когда же Дмитрий Дмитриевич перестал говорить, то Михаила лег больной на дожде. Тогда Куруте сделалось совестно; он призвал брата и сказал ему: «Вы дурно сделали, что вошли в мой шалаш, а я еще хуже, что выгнал вас» – и затем лег спокойно, не пригласив к себе брата, который охотнее согласился бы умереть на дожде, чем проситься под крышу к человеку, который счел бы сие за величайшую милость, и потому он, не жалуясь на болезнь, провел ночь на дожде. Брат Михайла обладает необыкновенною твердостью духа, которая являлась у него еще в ребячестве. Константин Павлович, видя нас всегда ночующими на дворе у огня и в полной одежде, т. е. в прожженных толстых шинелях и худых сапогах, называл нас в шутку тептерями61; но мы не переставали исправлять при себе должность слуги и убирать своих лошадей, потому что никого не имели для прислуги. Впрочем, данная нам кличка тептерей не сопрягалась с понятием о неблагонадежных офицерах; напротив того, мы постоянно слышали похвалы от своего начальства, и службу нашу всегда одобряли. <…>
Лунин нам дальний родственник: мать его была се-
[95]
стра Михайлы Никитича Муравьева62. Лунин умен, но нрава сварливого (bretteur). В Петербурге не было поединка, в котором бы он не участвовал, и сам несколько раз стрелялся. Другом его был кавалергардского же полка ротмистр Уваров63, который, однако же, сам имел знаки от поединка с Луниным, а впоследствии женился на его сестре64. Уваров – человек неприятного обхождения, отчего вообще не был любим. К кругу их принадлежал еще Давыдов, которого находили приятным в обществе; но он мне не нравился, как и Уваров. Был еще в кавалергардском полку Петрищев, который мне всех более нравился. Лунин в 1815 году был отставлен от службы за поединок с Белавиным65, в котором он сам был ранен. Он постоянно что-то писал и однажды прочел мне заготовленное им к главнокомандующему письмо, в котором, изъявляя желание принести себя на жертву отечеству, просил, чтобы его послали парламентером к Наполеону с тем, чтобы, подавая бумаги императору французов, всадить ему в бок кинжал. Он даже показал мне кривой кинжал, который у него на этот предмет хранился под изголовьем. Лунин точно бы сделал это, если б его послали, но, думаю, не из любви к отечеству, а с целью приобрести историческую известность. Мы скоро с места тронулись, и намерение его осталось без последствий. <…>
Во всей армии солдаты и офицеры желали генерального сражения, обвиняли Барклая и нещадно бранили его. Сражение в самом деле предполагалось дать, и никто не полагал, чтобы Смоленск уступили без боя.
Получено было известие, что граф Платов соединился с армиею после блистательного дела, которое он имел под Руднею66, где он с казаками опрокинул несколько полков французских кирасир. Ожидали еще соединения с князем Багратионом, и тогда, по сборе всех сил, думали дать отпор французской армии. С великою радостью мы, наконец, оставили лагерь под Смоленском и подвинулись на целый переход вперед к стороне неприятеля, в надежде встретить его, но, к удивлению нашему, никого не нашли. Между тем Наполеон бросился со всеми силами на Багратиона, чтобы отрезать его от нас, и послал в Поречьеб7 небольшой отряд в 6000 человек, чтобы отвлечь наше внимание. Посланные партизаны уведомили, что вся французская армия находится в Поречьи, почему мы поспешно выступили в ночь из своего нового лагеря опять назад. Сперва отошли несколько по
[96]
Смоленской большой дороге, и потом от селения Шаломца поворотили проселком влево, вышли на дорогу, ведущую из Поречья в Смоленск, и расположились лагерем в 10 верстах от Смоленска лицом к Поречью. Переход этот был очень трудный, дорога узкая, во многих местах болотистая и вся лесистая. Шли ночью, проводников достать было очень трудно, потому что почти все жители разбежались. Брату Александру поручено было вести гвардейскую колонну, Михайле – корпус Коновницына68, а мне – собрать проводников. Я атаковал одно селение ночью с двумя кирасирами и, забрав несколько крестьян, сдал их Куруте. Поручение, данное братьям моим, было весьма затруднительное и сопряжено с большою ответственностью. При всеобщей суете начальники оторопели и сваливали все свои промахи, как в таких случаях водится, на офицеров генерального штаба. <…>
Под Смоленском в первый раз начали расстреливать по приговорам уголовного полевого суда; говорили, что расстреляли семерых солдат за грабеж.
Вскоре пришло известие из Поречья, что французы снова показались на дороге, ведущей из Витебска в Смоленск, почему, простояв четыре дня около Покарнова, мы бросились на старую свою дорогу, ведущую в Витебск. Лагерь наш расположен был в 40 верстах от Смоленска, помнится мне, при деревне Гаврикове, где находили, что позиция была очень сильная; но неприятель доказал нам, что позиционная война не представляла ожидаемых от нее выгод, потому что можно всякую позицию обойти. Французы нас не атаковали, мы их тут и не видали, но вдруг услышали гул их артиллерии позади себя под стенами Смоленска.
В бывшем лагере при Гаврикове Толь зачем-то послал Александра Щербинина к Коновницыну. Щербинин, выйдя на крыльцо и не зная, в правую или в левую дверь ему идти, спросил Муромцова, тут случившегося, и получил от Муромцова грубый ответ. Возвратившись к себе, Щербинин послал за мной и просил меня быть секундантом в предстоящем ему поединке. Муромцов мне был родственник, а Щербинин старый приятель. Я не отказался единственно в намерении их примирить. Отыскав Муромцова, я убедил его в неправоте. Он действительно не помнил, что сказал, и согласился просить извинения у Щербинина; я их в тот же вечер свел вместе, и они помирились. Щербинин
[97]
не знал до того времени, что я был в родстве с Муромцовым.
Прохаживаясь в тот же вечер по селению, я увидел Михайлу Колошина, лежащего на улице подле сарая и накрытого буркою. С Дриссы не видал я его. В предположении, что он на траве расположился для отдыха, я в шутках бросил в него свою фуражку; но как удивился, когда услышал стон его и упрек в неосторожности обхождения моего с больным. Я сел подле него; он был в сильном жару и имел начало горячки; между тем капитан Теннер не давал ему покоя и хотел, чтобы он еще в тот же вечер сходил в главное дежурство для списания приказа. Колошин просил меня за него сходить; но скоро приказано нам было выступать, отчего мне не удалось ему услужить. Перемогаясь, он сам сходил ночью за приказанием.
По полученному в то время известию Багратион отступал к Смоленску, удерживая всю французскую армию69. Отступление князя Багратиона – событие довольно известное. Французы могли отрезать его от главной армии; но Багратион был человек решительный, храбрый, имел таких же генералов и вышел из своего тесного положения при нескольких блистательных делах с неприятелем. <…>
Мы выступили обратно к Смоленску до рассвета и с половины пути нашего услышали гул орудий: впереди нас седьмой корпус Раевского (2-й армии) уже вступил в дело для подкрепления Неверовского70. Опасаясь, чтобы Смоленск не взяли до нашего прибытия, кавалерию и артиллерию повели на рысях, посадив орудийную прислугу на лафеты и зарядные ящики. Не сомневаясь более, что вступим в сражение, мы шли очень быстро и с необыкновенным одушевлением, так что почти неприметно принеслись к Смоленску, сделав сорок верст перехода, и непременно приняли бы участие в жарком деле, если б <не> опоздали: ибо французы обложили уже город и искали бродов через Днепр пониже Смоленска, чтобы нас предупредить. Но броды были глубокие, или неприятель не отыскал их и потому не успел переправиться через реку до нашего прибытия на соединение со 2-ю армиею князя Багратиона.
Г<енера>л-квартирмейстер полк<овник> Толь71потребовал к себе наших офицеров для принятия лагерного места; мы поскакали с ним вперед, следуя вверх по реке, по правому ее берегу. Сражение же происходи-
[98]
ло на левом берегу. Приближаясь к Смоленску, мы видели польских уланов неприятельской армии, разъезжавших по левому берегу и отыскивавших бродов. Лагерь наш расположился на высоте против города, на правом берегу Днепра. На левом фланге нашем поставили несколько орудий, которые были направлены через реку на неприятеля. Смоленск был перед нами, а за ним в глазах наших происходило сражение. Зрелище было великолепное.
Мне очень хотелось побывать в сражении, но корпус наш не трогался и мало оставалось к тому надежды. Посему я решился в дело съездить без позволения. Прекратившийся ночью огонь с утра опять начался. Я встал до рассвета, когда у нас все еще спали. Оседлав себе лошадь, я поехал в город. Осмотрев его, я следовал далее к Краснинской заставе. Тут я встретил Лунина, возвращавшегося из дела. Он был одет в своем белом кавалергардском колете72 и в каске; в руках держал он штуцер73; слуга же нес за ним ружье. Поздоровавшись, я спросил его, где он был. «В сражении»,– коротко отвечал он. «Что там делал?» – «Стрелял и двух убил». Он в самом деле был в стрелках и стрелял, как рядовой. Кто знает отчаянную голову Лунина, тот ему поверит. Я выехал за Малаховские ворота, близ которых был построен редан74. На валу лежал генерал Раевский, при коем находился его штаб. Он смотрел в поле на движения войск и посылал адъютантов с приказаниями. По миновании редана я увидел две дороги. Шагах в 200-х от правой стояли наши стрелки; на другой дороге, которая вела прямо, были на расстоянии ¼ версты от городской стены сараи, около коих происходил жаркий бой. Французы несколько раз покушались сараи сии взять на штыки; но наши люди, засевшие в них, отбивали атаку. Ружейная пальба была очень сильная. Я направился к сараям шагом; пули летали через меня спереди и с правой стороны, но я не знал еще, что это пули, а узнал это только тогда, когда увидел, что они, минуя меня, ударялись об досчатый забор, тянувшийся вдоль дороги, от меня в левой руке. Близко подъехав к сараям, я немного остановился, посмотрел и, удовлетворив своему любопытству, поворотил направо к первой дороге и поехал к стрелкам. Видно было, что на этом месте дралась конница, потому что по полю разметаны были поломанные сабельные ножны и клинки, кивера конницы, гусарские шапки и проч. Прежде всего попалась мне на
[99]
глаза шашка; я удивился, что ее никто еще не подобрал, слез с лошади, поднял и стал ее рассматривать; подле лежал и убитый. Пока я в него вглядывался, пуля упала у моих ног. Я поднял ее в намерении сохранить, как памятник первого виденного мною дела с неприятелем, долго держал ее в кармане и наконец потерял. Только стал я садиться на лошадь, как другая пуля пролетела у самой луки моего седла. Я сел верхом, поговорил с нашими стрелками и поехал назад. Скоро затем неприятель открыл по городу огонь из орудий, и через голову мою стали летать ядра; тут пришла мне мысль о возможности быть раненым и оставленным на поле сражения. Заслуги от того никакой бы не было; напротив того, мог я еще получить выговор и, поехав назад рысью, я возвратился в город, где среди множества раненых пробрался в Королевскую крепость: так назывался небольшой старинный земляной форт с бастионами, который служил цитаделью75 и был занят пехотою с батарейною артиллериею. Взошед на вал, я следил за действием орудий и видел, как одно ядро удачно попало вкось фронта (en echarpe *) французской кавалерии, которая неслась в атаку. Часть эта смешалась и понеслась назад в беспорядке. Удовлетворившись виденным, я возвратился в лагерь. Курута сделал мне за отлучку замечание, которым я, впрочем, нисколько не оскорбился.
Вечером получено было приказание к отступлению, и во всем лагере поднялось единогласное роптание. Солдаты, офицеры и генералы вслух называли Барклая изменником. Невзирая на это, мы в ночь отступили, и запылал позади нас Смоленск. Войска шли тихо, в молчании, с растерзанным и озлобленным сердцем. Из собора вынесли образ божией матери, который солдаты несли до самой Москвы при молитве всех проходящих полков.
В Смоленске оставалась только часть Дохтурова корпуса для удержания натиска неприятеля в воротах. Такою мерой хотели дать время увезти раненых и скрыть от неприятеля наше быстрое отступление. Дохтуров защищался в самых воротах против превосходных сил, на него крепко наседавших. Наша пехота смешалась с неприятельскою, и в самых воротах произошла рукопашная свалка, в коей обе стороны дрались на
* с фланга (фр).
[100]
штыках с равным остервенением и храбростью. После продолжительного боя, когда все войска уже вышли из города, наши уступили место и в порядке перешли через Днепр. Французы разграбили и сожгли Смоленск, церкви обратили в конюшни, поругали женщин, терзали оставшихся в городе стариков и слабых, чтобы выведывать у них, где спрятаны мнимые сокровища. Во всю эту войну они показались совершенными вандалами. В поступках их не заметно было искры того образования, которое им приписывают. Генералы, офицеры и солдаты были храбрые и опытные в военном деле, но дисциплина между ними была слабая. Во французской армии было вообще мало образования, так что между офицерами встречались люди, едва знавшие грамоте. Во все время войны французы ознаменовали себя неистовствами, осквернением церквей и сожиганием сел, через что озлобленный на них народ вооружался против них и побил множество мародеров, удалявшихся в стороны для грабежа. <…>
Из-под Смоленска великий князь уехал. Причиною тому были неудовольствия, которые он имел с главнокомандующим за отступление. Так как штаб его упразднился, то брата Александра взяли в главную квартиру, а нам двум Курута приказал явиться к Толю. Толь был сердит, как сподвижник Барклая, на всех штабных Константина Павловича, принял нас сердито и упрекал нас, что мы во все время с Курутою ничего не делали. Незаслуженный выговор нам не понравился. Мы отыскали Куруту и спросили его, имел ли он причину быть нами недовольным и чем мы могли заслужить такой оскорбительный выговор. Курута успокоил нас, уверяя, что кроме добрых о нас отзывов, никто никогда других от него не слыхал.– «Поверьте,– продолжал он,– что я никак не причиною тех неудовольствий, которые вы получили». И не лгал. Толь и самого Куруту пощипал, ибо он тогда же начинал превозноситься своим званием генерал-квартирмейстера. Правда, что в то время у всех в голове кружилось, и он один всеми распоряжался и шумел на всех, будучи только в чине полковника.
Нам нечего было делать, как терпеть. Помню, как мы однажды, собравшись случайным образом на дороге все трое вместе, отъехали в сторону, сели и горевали о всем, что видели, и о себе самих. Как было и не грустить? Неприятель свирепствует в границе России, отечество в опасности, войска отступают, жители разбега-
101
ются, везде слышен плач и стон. К сему присоединились еще собственные наши обстоятельства: об отце давно ничего не слыхали, сами были мы без денег, с плохою одеждою и изнемогали от тяжкой службы. К тому еще перемена начальства и незаслуженный обидный выговор… <…>
В Вязьме пришло в армию известие, что Барклай-де-Толли сменяется, а место его заступает Голенищев-Кутузов. Известие сие всех порадовало не менее выигранного сражения. Радость изображалась на лицах всех и каждого. Генерал от инф<антерии> Михайла Ларионович Голенищев-Кутузов служил в войсках с самых малых чинов. Он постоянно отличался действиями своими и распоряжениями. В особенности же он прославился в войну 1805 года против французов76 при отступлении до Аустерлица, как о том судят люди сведущие в военном искусстве. В начале 1812 г. Кутузов командовал Молдавскою армиею и, разбив турок, заключил с ними выгодный мир77,– обстоятельство в особенности благоприятное, потому что мы тогда нуждались в войсках. Государь, истребовав Кутузова в Петербург, вверил ему начальство над большою действующею армиею. Государь был почти вынужден к тому по общим желаниям всего дворянства, которое требовало его назначения главнокомандующим. На место Кутузова назначили адмирала Чичагова, который должен был привести молдавскую армию на Волынь для усиления г<енерала> Тормасова, едва державшегося против соединенных сил австрийцев и саксонцев.
Кутузов был человек умный, но хитрый; говорили также, что он не принадлежал к числу искуснейших полководцев, но что он умел окружить себя людьми достойными и следовал их советам. Сам я не могу об нем судить, но пишу о способностях его понаслышке от тех, которые его знали. Говорили, что он был упрямого нрава, неприятного и даже грубого; впрочем, что он умел в случае надобности обласкать, вселить к себе доверие и привязанность. Солдаты его действительно любили, ибо он умел обходиться с ними. Кутузов был малого роста, толст, некрасив собою и крив на один глаз. Он лишился глаза в турецкую войну, кажется на приступе Измаила, от пули, ударившей его в один висок и вылетевшей в другой (едва ли не единственный случай, в котором раненый остался живым), но он только окривел на один глаз. Кутузов не щеголял одеждою: обыкновенно носил
[102]
он коротенький сюртук, имея шарф и шпагу через плечо сверх сюртука. От него переняли в армии форму носить шарф через плечо, обычай, продолжавшийся до обратного вступления нашего в Вильну, где государь, по приезде своем в армию, приказал соблюдать установленную форму. <…>
Когда мы из Вязьмы выступили, Барклай еще предводительствовал армиею. Предполагалось дать генеральное сражение при селении Федоровском, лежащем в четырнадцати верстах по дороге от Вязьмы к Москве; но предположение сие отменили, на что вообще все много досадовали.
Отъехав несколько верст от Вязьмы, я увидел в правой стороне в лесу коляску и несколько драгун, которые несли женщину. Она была очень хороша собою, но на лице ее выражалось сильное страдание. У нее были прострелены обе ноги, что случилось в Вязьме нечаянно на кухне генерала Корфа, который стоял в доме отца ее. Повар Корфа мешал горячие уголья найденным на поле сражения ружейным стволом, который был заряжен пулею, и когда прогорела засоренная затравка, то сделался выстрел в то самое время, как молодая хозяйка шла мимо. Пуля попала ей в колено и прострелила обе ноги. Корф посадил ее в свою коляску и приставил к ней в прислугу драгун, приказав полковому лекарю следовать при коляске.
Мы пришли в лагерь под селением Царево-Займище, где в первый раз увидели Кутузова, прибывшего в армию. Старик сидел на стуле, поставленном на улице, и смотрел на проходящие войска. Толь между тем расстанавливал квартирьеров78 армии, и, окончив свое дело, он уехал, приказав мне дожидаться одного из корпусов, дабы показать ему лагерное место. Корпус пришел поздно, я расставил полки и донес о том Толю. Так как и другие корпуса уже заняли свои места, то Толь послал меня к Барклаю-де-Толли с докладом о прибытии всех войск. Барклай в то время еще не передал звания своего Кутузову. Я отыскал его в какой-то избе. Когда я ему донес о прибытии войск, он кивнул головой, ничего не сказал, сел к столу и задумался. Он казался очень грустным, да и не могло иначе быть: Барклай слышал со всех сторон даваемое ему напрасно название изменника; на его место прислан новый главнокомандующий, и мы были уже недалеко от Москвы. Все эти обстоятельства должны были огорчить человека, достойного
[103]
всякого уважения по его добродетелям и прежним заслугам.
Прибытие Кутузова в армию произвело большие перемены. Барклай остался начальником 1-й армии, Багратион– 2-й. К главнокомандующему обеими армиями Кутузову назначен был генерал-квартирмейстером квартирмейстерской части г<енерал>-м<айор;> Вистицкий, человек старый, слабый и пустой; над ним смеялись. В начальники главного штаба к Кутузову поступил генерал Беннигсен, человек храбрый и, говорили, с достоинствами, но более теоретик, нежели практик в военном деле. При Барклае оставался начальником главного штаба Ермолов, а генерал-квартирмейстером полковник Толь.
Брат Александр был командирован к ариергарду, в распоряжение генерала Коновницына, у которого был начальником генерального штаба достойный человек, полковник Гавердовский, храбрый, распорядительный и любимый подчиненными. Я был переведен в новую главную квартиру под команду Вистицкого и очутился в обществе своих петербургских товарищей. Брат Михайла и Щербинин были назначены к Беннигсену.
Мы отступали довольно быстро, но в большом порядке, и пришли к Колоцкому монастырю, лежащему верстах в двадцати не доходя Можайска. Тут опять намеревались дать генеральное сражение, выбрали позицию, но не нашли ее удобною и отступили до села Бородина, лежащего в 11-ти верстах не доходя Можайска. Главная квартира расположилась в селении Татарках, тремя верстами поближе к Можайску, на большой же дороге. Барклай остановился в селении Горки, что на половине дороги между Татарками и Бородиным, а Багратион – влево от дороги, в селении Михайловском.
Не знаю настоящих причин, побудивших Кутузова дать Бородинское сражение, ибо мы были гораздо слабее неприятеля79 и потому не должны были надеяться на победу. Конечно, главнокомандующий мог ожидать отпора неприятелю со стороны войск, которые с нетерпением видели приближающийся день сражения, ибо мы были уже недалеко от Москвы. Казалось несбыточным делом сдать столицу неприятелю без боя и не испытав силы оружия. Французы превозносились тем, что нас преследовали; надобно было по крайней мере вызвать в них уважение к нашему войску. Кутузову нужно было также получить доверие армии, чего предмест-
[104]
ник его не достиг, постоянно уклоняясь от боя. Вероятно, что сии причины побудили главнокомандующего дать сражение, хотя нет сомнения, что он мог иметь только слабую надежду на успех, и победа нам бы дорого обошлась. При равной же с обеих сторон потере неприятель, и при неудаче своей, становился вдвое сильнее нас. Французы имели столь превосходные силы в сравнении с нашими, что они не могли быть наголову разбиты, и потому, в случае неудачи, они, отступив несколько, присоединили бы к себе новые войска и в короткое время могли бы снова атаковать нас с тройными против наших силами, тогда как к нам не успели бы прийти подкрепления. Наша армия также не могла быть разбита наголову; но, потеряв равное с неприятелем число людей, мы становились вдвое слабее и в таком положении нашлись бы вынужденными отступить и сдать Москву, как то и случилось.
По всем сим обстоятельствам полагаю, что сдача Москвы была уже решена в нашем военном совете, ибо и самая победа не могла доставить нам больших выгод. Полагаю, что цель главнокомандующего состояла единственно в том, чтобы подействовать на дух обеих армий и на настроение умов во всей Европе. Кутузов, по-видимому, с сею целию решился с риском дать сражение и, во всяком случае, предвидел значительную потерю людей. Может быть, что он тогда уже рассчитывал на суровость зимнего климата и на народное ополчение более, нежели на свои наличные силы, которых недоставало, чтобы противиться столь превосходному числительностью неприятелю.
Место, избранное для сражения, было довольно удобное. Линии наши занимали высоты по обеим сторонам дороги; перед нами было село Бородино, лежащее на реке Колоче, прикрывавшей фас нашего правого фланга. Правый берег оной, т. е. наш, был гораздо выше левого и крут. Колоча впадала в Москву-реку, прикрывавшую оконечность нашего правого фланга. На том же фланге была довольно обширная роща, которая оканчивалась при большой дороге кустарником. Середина нашего левого фланга выдавалась вперед и расположена была на особенной высоте, получившей название Раевского батареи, на которой происходил самый жаркий бой. От этого места до конца левого фланга были поляны и кустарники. Наконец, левый фланг примыкал к большому лесу, через который пролегала старая большая дорога,
[105]
ведущая к Можайску. Этою дорогою могли бы французы воспользоваться при самом начале дела, дабы предупредить нас в Можайске или принудить нас поспешно оставить позицию; но, может быть, Наполеон, полагаясь на свои силы и зная упорство наше, надеялся истребить нашу армию на занимаемой ею позиции. Местоположение позади обоих наших флангов было почти сплошь покрыто кустарником, который близ селения Татарки становился лесом. От левого фланга нашего спускалось несколько оврагов с малозначащими речками, текущими в р. Колочу.
Правый фланг неприятеля простирался до старой Можайской дороги, где находились главные его силы. Левый фланг его был гораздо слабее правого и почти совсем не действовал, ибо войска с оного были переведены на правый, так как и наш правый фланг оставался во все время сражений без действия, и войска с оного наконец были переведены на левый фланг. Село Бородино, находившееся сначала впереди французских линий, впоследствии осталось среди их.
В обеих армиях наших считалось 7 пехотных корпусов и несколько кавалерийских дивизий, но некоторые из них были весьма слабы от урона, понесенного в сражениях под Витебском, Смоленском и Ватутиной Горой. Под Бородиным пришел к нам г<енерал> Милорадович80 с подкреплением, состоявшим из 8-ми или 10 тысяч пехоты. Еще пришло к нам тысяч до десяти Московского ополчения, но оно было дурно вооружено и во время сражения употреблялось только для уборки раненых. Всего с ополчением было у нас налицо около 110 тысяч человек и 750 орудий; у французов же считалось 160 тысяч и до 1000 орудий, а затем еще разные части, шедшие к ним на подкрепление.
Главная квартира армий расположилась – Кутузова в селе Татарках, Барклая – в Горках, а Багратиона – в Михайловском. Войска наши стали в следующем порядке.
Правый фланг первой армии: 2-й корпус Багговута, 4-й корпус графа Остермана-Толстого. За ними одна кавалерийская дивизия. Один егерский полк 2-го корпуса (помнится мне, 4-й егерский, коего командиром был полковник Федоров) занимал лес при оконечности нашего правого фланга; одна артиллерийская рота, принадлежащая ко 2-му корпусу, присоединилась к сему егерскому полку. В лесу сделаны были просеки и засе-
[106]
ки; в первых расположены были орудия, а за вторыми егеря. Артиллерия 4-го корпуса заняла крутой берег реки Колочи, где орудия маскировались воткнутыми в землю деревьями. 4-й корпус примыкал левым флангом к селению Горки, лежащему на большой дороге. Одну кавалерийскую дивизию поставили за 4-м корпусом в колоннах, а за нею так же в колоннах стояла 1-я кирасирская дивизия, на одной почти высоте с селением Татарки. На левом фланге коннице невозможно было действовать по причине кустарников, но ей можно было перейти через дорогу и поспеть на помощь к нашему левому флангу, где были открытые места, удобные для кавалерийских атак. Итак, войска наши разделялись на правый и левый фланг большою дорогою; правый фланг состоял из двух корпусов 1-й армии. Селение Горки лежало на возвышении по большой дороге; тут сделали небольшой окоп, который вооружили несколькими орудиями 4-го корпуса. При спуске с горы возвели другой окоп, вооруженный орудиями того же корпуса; орудия были направлены на село Бородино, в которое, во время дела, пустили только несколько ядер, когда войска наши отступили из оного.
Село Бородино было сперва защищаемо лейб-гвардии егерским полком, а после 11-м егерским.
Левый фланг первой армии: 6-й корпус Дохтурова примыкал своим правым флангом к большой дороге при селении Горках. За сим корпусом стоял в резерве 5-й гвардейский корпус под командою г<енерала> Лаврова. К левому флангу 6-го корпуса примыкал второй армии 7-й корпус г<енерала> Раевского. Корпус сей защищал батарею, выдавшуюся вперед и получившую название – Раевского батарея. За сим 8-й корпус Бороздина, которым, помнится мне, во время сражения командовал Паскевич; 3-й гренадерский корпус под командою Тучкова стоял отчасти в резерве за левым флангом, а отчасти занимал старую большую дорогу, ведущую в Можайск. В резерве левого фланга находились еще 2-я кирасирская дивизия и несколько кавалерийских дивизий.
Резервная артиллерия под командою генерал-майора Эйлера81 стояла у селения Татарки. Она вся была в деле, но генерал Эйлер сказался больным и не участвовал в сражении.
На старой большой Можайской дороге расположились пять полков Донских казаков под командою полковни-
[107]
ка Сысоева82; остальные же донцы, под командою графа Платова, составляли особенный корпус, который во время сражения переправился через Колочу на нашем правом фланге и должен был действовать в тыл неприятеля. К сему летучему отряду присоединили легкую гвардейскую кавалерийскую дивизию под командою г<енера>ла Уварова; но, от дурных распоряжений и нетрезвого состояния графа Платова, войска сии, которые могли бы принести большую пользу, ничего не сделали. Кутузов отказал Платову в командовании в самое время сражения; способности же Уварова, который после Платова оставался старшим, довольно известны. Он расположил свою конницу подле леса, занятого неприятельской пехотой, и потерял много людей без всякой пользы. Уваров обладал даром выбирать для атаки такие места, где конница не могла действовать, и отряд его, имевший более 10 000 всадников, в день Бородинского сражения ни к чему не послужил.
Часть Московского ополчения расположили на старой Можайской дороге, другую же поставили в резерве за левым флангом для уборки раненых. Ополченцы стояли в колоннах неподвижно, теряя много народа от ядер; когда же их послали за ранеными, то они ходили в самый сильный огонь для спасения своих соотечественников.
Пехотные дивизии выстроились в три линии следующим образом: в первой линии два полка егерских, во второй же и третьей по 2 полка пехотных: но, принимая в расчет части, находившиеся в общем резерве, как и кавалерийские дивизии, оказывалось, что войска левого фланга стояли в шесть и даже в семь линий. Все протяжение наших линий занимало верст пять в длину и в глубину с версту. По сей причине неприятелю было весьма трудно прорвать наш фронт; но мы потеряли много людей от действия неприятельской артиллерии, коей ядра достигали наших задних линий.
Коновницын, начальствовавший ариергардом при отступлении, имел несколько жарких дел с неприятелем, ибо ему велено было как можно долее держаться, дабы дать главным силам время устроиться. Брат Александр, состоявший при ариергарде, говорил мне, что сражение под Гридневым было весьма жаркое. 23-го августа Коновницын присоединился к главным силам, и войска его заняли свое место в общей позиции, после чего брат Александр поступил опять в главную кварти-
[108]
ру, в круг старых своих товарищей и под начальство Вистицкого.
Левый фланг наш был укреплен многими шанцами83, построенными наскоро и оттого слабыми. Перед селением Михайловским поставлено было несколько реданов. Раевского батарея была обнесена низким валом, прикрывавшим до 50 орудий; лес, находившийся при оконечности левого фланга, был перегорожен засеками и занят стрелками.
В таком положении находилась наша армия 24 августа.
Помнится мне, что мы, офицеры генерального штаба, еще 22 августа пришли в селение Татарки, где остановились в сарае. У нас нечего было есть, да и купить было негде, и потому мы посылали одного из товарищей с фуражирами для добывания в деревнях съестных припасов.
23-го августа поручено было полковнику Нейгарту 1-му (Павел Иванович, квартирмейстерской части) укрепить правый фланг нашей позиции; меня же назначили к нему в помощь. Мы устроили на крутом берегу Колочи закрытые батареи, о которых выше сказано, и назначили сделать засеки в лесу, находившемся на оконечности нашего правого фланга. Пока мы разъезжали по линии, главнокомандующий сам приехал осматривать местоположение и застал нас на небольшом возвышении против левого фланга 2-го корпуса Багговута. Кутузов остановился на этом возвышении в сопровождении главной квартиры и советовался с генералами, как заметили орла, поднявшегося из большой рощи, остававшейся у нас в правой стороне. Он поднимался все выше и выше, наконец, величаво поплыл над нами и как бы остановился над главнокомандующим. Багговут, его первый заметивший, снял фуражку и закричал: «Ein Adler, ach, ein Adler!» * Кутузов, увидя его, снял также фуражку свою, воскликнув: «Победа Российскому воинству. Сам бог ее нам предвещает!» Случай этот тотчас сделался известен во всей армии и, конечно, способствовал к вящему ободрению войска. Говорят, что когда привозили в Петербург тело умершего князя Кутузова, то орел сопутствовал церемонии. Я слышал это от очевидцев.
24-го числа поутру во всех полках служили молебны; налои84 заменены были пирамидами, составленными из
* Орел, ах орел! (нем.)
[109]
барабанов, на коих поставили образа. Сто тысяч человек войска, при распущенных знаменах, с коленопреклонением, усердно молились о помощи для истребления врагов отечества. Чувство любви к отечеству было в то время развито во всех званиях.
24-го числа вся неприятельская армия находилась перед нами. Ввечеру Наполеон сделал усиленную рекогносцировку для избрания выгоднейшего пункта атаки и посему направил густые колонны пехоты на Раевского батарею. Солдаты его были пьяны. С нашей батареи отвечали картечью и причинили неприятелю большой урон; но французы повторяли свои атаки, поддерживая их сильной канонадой. Наши батареи продолжали действовать, и в короткое время завязался на нашем левом фланге сильный бой, не уступавший сражению 26 числа, с тою только разницею, что 24-го дело началось ввечеру и потому не могло долго продолжаться.
Наполеон хотел непременно овладеть Раевского батареею и несколько раз посылал на нее огромные массы пехоты, которые мы подпускали близко и рассыпали картечными выстрелами из нескольких десятков орудий. По отражении таким образом одной большой колонны, главнокомандующий послал 2-ю кирасирскую дивизию для преследования рассыпавшегося неприятеля, и наши кирасиры, потоптав множество французских пехотинцев, занеслись в неприятельские линии и выхватили из среды оных, в виду всей французской армии, 7 польских орудий с их прислугою и лошадьми. Орудия сии провезли по всему нашему лагерю и отправили через Можайск в Москву. Пушки эти были взяты Малороссийским кирасирским полком.
Между тем неприятель стал занимать лес, находившийся на оконечности нашего левого фланга, где завязалось сильное стрелковое дело, но мы удержали за собою лес.
Во время сражения 24-го числа главнокомандующий находился на левом фланге в сильном огне. С ним была вся главная квартира, в том числе и я при Вистицком, но не был никуда посылаем с поручениями. Неприятельские ядра, большею частию перелетая у нас через головы, ложились в задних линиях.
Когда смерклось, огонь стал ослабевать. Французы зажгли селения, находившиеся среди их линий, где запылали лагерные костры. Зрелище было величественное. Неприятельский лагерь означался почти непрерыв-
[110]
ною линиею пламени на протяжении нескольких верст.
Георгий Мейндорф, прозывавшийся у нас Черным <…>, был ранен в деле 24 августа. Его послали в лес, находившийся на оконечности нашего левого фланга, чтобы расставить цепь стрелков; он подался неосторожно один вперед, его обступили три француза, из коих один приставил ему к боку штык, закричав: «Rendezvous!»* Мейндорф отбил ружье его саблею, но другой ткнул его штыком в ляжку. Мейндорф от сего удара свалился с лошади, и его бы убили, если б на крик не прискакали два кирасира Малороссийского полка, которые, по овладении польскими орудиями, отбились от своего полка и, услышав голос русского, поспешили ему на помощь в лес, изрубили трех французов и спасли Мейндорфа. Один из избавителей его был унтер-офицер. Мейндорф доставил ему знак Георгиевского креста85 и дал обоим денежное награждение.
Потеря наша в деле 24-го августа была довольно значительная, но со стороны неприятеля она, без сомнения, была гораздо более. Густые французские колонны храбро наступали с барабанным боем, но когда их осыпали градом картечей, то они не могли держаться, рассыпались и уклонялись, оставляя за собою след убитых и раненых. Помилования конница наша никому не давала, и пленных было взято только несколько человек.
Ночью огонь совершенно прекратился. Победа была на нашей стороне, но мы увидели преимущество сил неприятеля.
По прекращении дела войска наши, составив ружья в козлы, развели огни и стали варить кашу. Мы возвратились в свое селение Татарки, где нашли, что сарай наш был занят ранеными, почему мы перебрались на ночь в крестьянский овин, стоявший подле самой большой дороги. Тут ночевали Щербинин, я, брат Михайла, Глазов и еще кое-кто из людей мне известных. Пролезали мы в этот овин через маленькое окно в стене, довольно высоко вырубленное, лежали же почти один на другом.
Едва забрались мы в овин, как заснули. Я лежал с края и как бы во сне почувствовал, что кто-то ходит по моим ногам, которые тогда болели цинготой и были в язвах; мне в полусне мерещилось, что лежу на дороге и
* Здесь: Сдавайся! (фр.)
[111]
что 33-й егерский полк, идучи мимо, наступает мне на больные ноги. На спрос: «Кто тут?» – мне отвечали: «Наши». «Ну если наши, так проходите, братцы»,– думалось мне в полусне. Однако же всю ночь кто-то у меня на ногах шевелился, а мне все егеря мерещились. Проснувшись на рассвете, я увидел крестьянина, лежащего на мне.– «Что тебе надобно?» – вскричал я. Мужик проснулся и в перепуге хотел выскочить в окно. Он вынес уже одну ногу за окно, но я его за другую схватил и крепко держал. Товарищи мои проснулись на шум, как и люди наши, спавшие на дворе. Они схватили несчастного за вывешенную ногу и тащили его к себе. В таком положении держали его и били с двух сторон, принимая его за злоумышленного человека. Но это был только ратник Московского ополчения, который, отстав от своей дружины, не нашел себе на ночь другого убежища.
25-го августа дело рано возобновилось, но было очень слабое: во весь день выпустили только несколько пушечных выстрелов; перестреливались по временам в цепи на левом нашем фланге, но и там огонь ружейный был весьма слабый. Между тем французы подкреплялись подходившими к ним новыми силами, а к нам пришло Московское ополчение.
Давно не имели мы никаких известий об отце, а слышали только, что он вступил на службу в ополчение; почему, полагая, что это могло быть в Московское, я вышел на большую дорогу в надежде встретить отца, но тщетно. Я остановил несколько офицеров и расспрашивал их о моем отце; но никто мне ничего о нем сказать не мог. Офицеры сии, набранные из числа университетских студентов, приказных и из дворян, рады были случаю поговорить с бывалым в походе; они обступили меня и расспрашивали о сражении 24-го числа, о силах неприятельских и о расположении наших войск. В ратниках был отличный народ. Они оставляли свои места, окружали нас и, слушая со вниманием, делали свои заключения, потом нагоняли свои дружины, ушедшие между тем вперед.
25-го числа погода была пасмурная, изредка шел маленький дождь. Раненых было в этот день очень мало; но готовились к бою: ибо со всех окрестных деревень пригоняли в Можайск множество подвод для отвоза раненых.
[112]
26-го числа к рассвету все наше войско стало под ружьем. Главнокомандующий поехал в селение Горки на батарею, где остановился и слез с лошади; при нем находилась вся главная квартира. Солнце величественно поднималось, исчезали длинные тени, светлая роса блистала еще на лугах и полях, которые через несколько часов обагрились кровью. Давно уже заря была пробита в нашем стане, где войска в тишине ожидали начала ужаснейшего побоища. Каждый горел нетерпением сразиться и с озлоблением смотрел на неприятеля, не помышляя об опасности и смерти, ему предстоявшей. Погода была прекраснейшая, что еще более возбуждало в каждом рвение к бою.
Прежде всего увидели мы эскадрон неприятельских конных егерей, который, отделившись от своего войска, прискакал на поле, противолежащее нашему правому флангу. Люди слезли с коней и начали перестрелку с нашими егерями, переправившимися за Колочу. Граф Остерман-Толстой приказал пустить несколько ядер в коноводов. После непродолжительной перестрелки французские егеря отступили; но между тем неприятель атаковал гвардейский егерский полк, который защищал село Бородино. К нему послали на подкрепление 1-й егерский полк, но войска сии не могли устоять против превосходных сил. После долгого сопротивления они, наконец, уступили мост через Колочу и отступили. В лейб-гвардии егерском полку, после нескольких часов перестрелки, убыло 700 рядовых и 27 офицеров. Полк этот дрался с необыкновенною храбростью. Тут был убит знакомый мне подпоручик князь Грузинский. Труп его, накрытый окровавленною шинелью, пронесли мимо нас. Князь Грузинский был очень высокого роста и худощавого телосложения; его перекинули через два ружья, так что он совершенно вдвое сложился; с обеих сторон висели его руки и ноги, едва не волочась по земле. Грузинского любили в полку, где его знали за хорошего офицера и доброго товарища. Зрелище сие меня на первый раз несколько поразило; но впоследствии я свыкся с подобными сценами и с большим хладнокровием смотрел на убитых и раненых.
Во время перестрелки в селе Бородине один молодой егерь пришел в селение Горки к главнокомандующему и привел французского офицера, которого представил Кутузову, отдавая отобранную у пленного шпагу. Полное счастие изображалось на лице егеря. Фран-
[113]
цузский офицер этот объявил, что, когда они брали мост, то егерь этот, бросившись вперед, ухватился за его шпагу, которую отнял, и потащил его за ворот; что он при сем не обижал его и не требовал даже кошелька. Кутузов тут же надел на молодого солдата Георгиевский крест, и новый кавалер бегом пустился опять в бой.
Бородино еще было в наших руках, когда французы открыли огонь ядрами по селению Горки. Наши орудия им отвечали. Пальба сначала недолго продолжалась, но во время сражения она несколько раз возобновлялась. Гвардейские егеря, по утрате села Бородина, присоединились опять к своему 5-му корпусу. Французы учредили перевязочный пункт для раненых в селе Бородине и не атаковали пехотою батарей наших, построенных при селе Горки. Овладение французами села Бородина и действия около Горок происходили независимо от общего хода генерального сражения, исключительно объявшего наш левый фланг, но служили ему как бы вступлением. Впрочем, дело завязалось на левом фланге, когда Бородино было еще в наших руках.
В начале сражения Наполеон находился при правом фланге своей армии, на возвышении, с которого оба стана были видны. Любуясь величественно восходящим солнцем и началом прекрасного дня, он воскликнул среди окружавших его: «Voilà le lever du soleil d'Austerlitz!» * Слова сии в миг сделались известными во всей его армии и еще более возбудили легкие французские головы, способные воспламеняться от одного красного слова, кстати сказанного. Он умел управлять пылким народом своим. Наполеон отдал по войску приказ, в котором напоминал прежние победы и указывал на близкую Москву, где армии предстояло насладиться всевозможными удовольствиями грабежа и отдыхом от трудов и беспокойств, понесенных в столь продолжительном походе. Речь сия подействовала, и французы дрались отчаянно. Воззвание это начиналось словами: «Rois, généraux et soldats!» **, и он правильно выразился, потому что в армии его находилось несколько королей в должности корпусных командиров. Достоинство королевского звания было до такой степени уронено, что солдаты и офицеры видели в оном не более, как высший
* «Вот восходит солнце Аустерлица!»86 (фр.)
** «Короли, генералы и солдаты!» (фр.)
[114]
чин военной иерархии и называли их по старой привычке, вместо le général Murat – le roi Murat *, и проч. Мюрат был человек храбрый и преданный Наполеону, но без образования. Он командовал авангардом. Ему-то Наполеон приказал начать атаку на наш левый фланг. Дело началось сильною канонадою, обнявшей все пространство, заключавшееся между большою дорогою и оконечностью левого нашего фланга. В это время пехота перестреливалась только в лесу. Наполеон намеревался прежде всего привести нашу артиллерию в бездействие, и он мог надеяться на успех, потому что у него было в полтора раза более орудий, чем у нас. Затем предстояло ему занять Раевского батарею пехотою, и тогда ключ позиции остался бы в его руках; но чтобы удержать за собою эту батарею, ему надобно было оттеснить нашу пехоту, защищавшую лес, находившийся на оконечности нашего левого фланга, и потому он послал для занятия сего леса сильные колонны. Мы также стали подкреплять сей фланг, и в лесу завязался ожесточенный бой. Между тем продолжался по всей линии частый артиллерийский огонь; зарядные ящики взлетали на воздух, и орудия подбивались, но подобные орудия немедленно заменялись свежими из резервной артиллерии. Во многих артиллерийских ротах были перебиты почти все офицеры и прислуга, почему для действия при орудиях назначали людей из пехоты. Войска наши, стоявшие во все время под ружьем, много потерпели от артиллерийского огня. Наполеон, находя, что уже настала пора начать атаку, послал огромные массы, чтобы взять на штыках Раевского батарею. Французская пехота несколько раз была на батарее, но ее отбивали с большой потерей. В довершение натиска он пустил всю свою конницу в атаку, чтобы прорвать наши линии, в которые она действительно вскакала и смяла почти весь 6-й корпус. Конница сия заняла с тыла Раевского батарею, на которую вслед за тем пришла неприятельская пехота. Французские кирасиры собирались уже атаковать наш 5-й гвардейский корпус, коего полки построились в каре, как выдвинулись наши две кирасирские дивизии, которые ударили на неприятельскую конницу, опрокинули ее и погнали; но новые силы поспешили к французам на подкрепление, и некоторые из наших кавалерийских полков уступили место. Тогда конница наша, снова построив-
* генерал Мюрат – король Мюрат (фр.).
[115]
шись, опять опрокинула неприятеля в овраг и гналась за ним до самых французских линий. Между тем собиралась наша рассыпавшаяся пехота. В эту минуту неприятель мог бы опрокинуть все наше войско; но главнокомандующий, видя, что правый фланг наш не будет атакован, приказал 2-му и 4-му корпусам двинуться на усиление левого фланга. При переводе колонн через большую дорогу Кутузов ободрял солдат, которые спешили на выручку товарищей, отвечая на приветствия главнокомандующего неумолкаемыми криками «ура!». Беннигсен лично повел главную колонну, и все понеслось рысью. Батарейные роты поскакали, рассадив людей по ящикам, лафетам и на лошадей, и новые тучи пехоты с громкими восклицаниями явились в жесточайший огонь, где заменили расстроенные полки. Но Раевского батарея была уже в наших руках.
Алексей Петрович Ермолов был тогда начальником главного штаба у Барклая. Он собрал разбитую пехоту нашу в беспорядливую толпу, состоявшую из людей разных полков; случившемуся тут барабанщику приказал бить на штыки, и сам с обнаженною саблею в руках повел сию сборную команду на батарею. Усилившиеся на ней французы хотели уже увезти наши оставшиеся орудия, когда отчаянная толпа, взбежав на высоту, под предводительством храброго Ермолова, переколола всех французов на батарее (потому что Ермолов запретил брать в плен), и орудия наши были возвращены. Сборное войско Ермолова, увлекшись, пустилось к неприятельским линиям; но ему велено было остановиться, что весьма огорчило Алексея Петровича: потому что в то самое время Платов показался с 10 т<ысячами> легкой конницы на левом фланге неприятеля, который обратил против этого неожиданного появления войск часть своей пехоты, и все его батареи на время умолкли. Но Платов был в тот день пьян и ничего не сделал, как и принявший после него команду Уваров ничего не предпринял. Внезапный удар этот мог бы решить участь сражения в нашу пользу.
Сим подвигом Ермолов спас всю армию87. Сам он был ранен пулею в шею; рана его была не тяжелая, но он не мог долее в сражении оставаться и уехал. С ним находился артиллерии г<енерал>-м<айор> Кутайсов, которого убило ядром. Тела его не нашли; ядро, вероятно, ударило его в голову, потому что лошадь, которую после поймали, была облита кровью, а передняя лу-
[116]
ка седла обрызгана мозгом. 27-го числа раненый офицер доставил в дежурство Георгиевский крест, который, по словам его, был снят с убитого генерала. Крест сей признали за принадлежавший Кутайсову. Кутайсов был приятель Ермолову – молодой человек с большими дарованиями, от которых можно было много ожидать в будущем. Накануне сражения (мне это недавно рассказал сам Алексей Петрович) они вместе читали «Фингала», как Кутайсова вдруг поразила мысль о предстоявшей ему скорой смерти; он сообщил беспокойство свое Ермолову, который ничем не мог отвратить дум, внезапно озаботивших его приятеля.
Французы постоянно усиливались в лесу; посему послали туда на подкрепление сводную гренадерскую дивизию, л<ейб>-г<вардии> Измайловский и Литовский полки и, кажется, л<ейб>-г<вардии> егерский. Полки сии храбро вступили в бой и лес был удержан, причем, стрелки сих полков потеряли много людей. Генерал Храповицкий, командовавший Измайловским полком, был ранен. Начальник 2-й армии, князь Багратион, был ранен картечью в ногу и умер через несколько дней от сей раны, хотя она и не была смертельная; говорили, что он не хотел дать себе ногу отрезать, отчего и лишился жизни. Дохтуров, по званию старшего за ним, принял начальство над его армиею, 6-й же корпус его совсем почти исчез.
По отражении неприятельской конницы и по овладении Ермоловым батареею сражение восстановилось прежним порядком. Полки, пришедшие с правого фланга, заступили место расстроенных частей, гвардейскую артиллерию выдвинули в батарею, где она потерпела значительный урон. Рукопашный бой между массами смешавшихся наших и французских латников представлял необыкновенное зрелище, в своем роде великолепное, и напоминал битвы древних рыцарей или римлян, как мы привыкли их себе воображать. Всадники поражали друг друга холодным оружием среди груд убитых и раненых. От атаки неприятельской конницы остались следы в наших линиях, где лежало много французских кирасир; из числа их раненые или спешенные были переколоты нашими рекрутами, которые, выбегая из рядов своих, без труда нагоняли тяжелых латников и добивали сих рослых всадников, едва двигавшихся пешком под своею грузною бронею.
[117]
Многими личными подвигами сопровождалось сие страшное побоище. Конногвардейский ротмистр Шарльмон (Charlemont), эмигрант, у коего убили лошадь, был легко ранен и захвачен французами, но он не бросал палаша своего; его тащили за лядунку с требовательным: «Rendez-vous!» * и уже довольно далеко увели, когда товарищи прискакали и отбили его. Если б он остался в плену, то был бы непременно расстрелян как эмигрант.
Под Бородиным было четыре брата Орловых, все молодцы собой и силачи. Из них Алексей88 служил тогда ротмистром в конной гвардии. Под ним была убита лошадь, и он остался пеший среди неприятельской конницы. Обступившие его четыре польских улана дали ему несколько ран пиками; но он храбро стоял и отбивал удары палашом; изнемогая от ран, он скоро бы упал, если б не освободили его товарищи, князья Голицыны, того же полка. Брат его Федор Орлов, служивший в одном из гусарских полков, подскакав к французской коннице, убил из пистолета неприятельского офицера перед самым фронтом. Вскоре после того он лишился ноги от неприятельского ядра. Так, по крайней мере, рассказывали о сих подвигах, коих я не был очевидцем. Третий брат Орловых, Григорий, числившийся в кавалергардском полку и находившийся при одном из генералов адъютантом, также лишился ноги от ядра. Я видел, когда его везли. Он сидел на лошади, поддерживаемый под мышки казаками, оторванная нога его ниже колена болталась; но нисколько не изменившееся лицо его не выражало даже страдания. Четвертый брат Орловых Михайла, состоявший тогда за адъютанта при Толе, также отличился бесстрашием своим, но не был ранен. Кавалергардского полка поручик Корсаков, исполинского роста и силы, врубился один в неприятельский эскадрон и более не возвращался: тела его не нашли.
После отражения атаки неприятельской конницы пронесся слух, что король Неаполитанский89 взят в плен; но ошибка сия скоро разъяснилась: захвачен был генерал Бонами, командовавший кирасирами; под ним была убита лошадь, и его самого ранили несколькими ударами в голову. Когда опрокинули неприятельскую конницу, он оставался на Раевского батарее пеший и был окружен нашими пехотинцами, которые добивали его прикладами. Он упал от ударов на колени и, закрыв
* Сдавайся! (фр.)
[118]
себе глаза левой рукою, защищался палашом в правой руке. Бонами неминуемо лишился бы жизни, если бы адъютант (говорят, Ермолова) не спас его. Его положили на носилки, и четыре московские ратника принесли его к главнокомандующему. Я его видел; лицо его было так изрублено и окровавлено, что нельзя было различить ни одной черты. Он лежал на спине без движения и едва мог произнести несколько слов.
Главная перевязка наших раненых производилась при большой дороге на половине расстояния от с. Горки к с. Татаркам. Из собранных лекарей и священников первые резали члены, другие же с крестом и Евангелием увещевали к смерти тех, которые не подавали более надежды к жизни.
Перед самою атакой кавалерии я находился с братом Александром в селении Горках, как прискакал с левого фланга с каким-то известием к главнокомандующему от Семеновского полка князь Голицын Рыжий, состоявший адъютантом при Беннигсене. Бурка его была в крови; обратившись к нам, он сказал, что это кровь брата нашего Михайлы, которого сбило с лошади ядром. Голицын не знал только, жив ли брат остался, или нет. Не выражу того чувства, которое поразило нас при сем ужасном зрелище и вести. Мы поскакали с Александром на левый фланг по разным дорогам, и я скоро потерял его из виду. Встревоженный участью брата, который представлялся мне стонающим среди убитых, я мало обращал внимания на ядра, которые летали, как пули; осматривал груды мертвых и раненых, спрашивал всех, но не нашел брата и ничего не мог о нем узнать. Вдруг показалась впереди пыль и французская конница, которая неслась в атаку. За собою я увидел кирасирскую дивизию, спешившую в бой; но едва полки успели на всем скаку выстроиться, как люди и лошади у нас стали валиться, поражаемые неприятельскими ядрами. Столкнулись конницы, и завязалось кавалерийское дело, про которое я выше писал.
Участь брата Михайлы тревожила меня. Если его не успели вынести с поля сражения до сей схватки, то, наверное, не мог он уже быть в числе живых; если же успели, то его надобно было искать в Татарках. Следуя за ранеными, я спустился в лощину, по коей тянулись они вереницею и куда попадали только неприятельские гранаты, добивавшие их осколками своих взрывов. По всей лощине стояли лужи крови, среди коих многие из ра-
[119]
неных умирали в судорожных страданиях. В таком же положении находилось множество лошадей, боровшихся со смертью. Картина ужасная! Стон и вопль смешивались со свистом перелетавших ядер и лопавшихся гранат. Истребление человеческого рода на сем месте изображалось во всей полноте, ибо ни одного целого человека и необезображенной лошади тут не было видно. Можно себе составить понятие о понесенном некоторыми полками уроне из следующего примера. Я ехал до атаки по полю сражения мимо небольшого отряда Иркутских драгун. Всего их было не более 50 человек на коне, но они неподвижно стояли во фрунте с обнаженными палашами под сильнейшим огнем, имея впереди себя только одного обер-офицера. Я спросил у офицера, какая это команда? «Иркутский драгунский полк,– отвечал он,– а я поручик такой-то, начальник полка, потому что все офицеры перебиты, и кроме меня никого не осталось». После сего драгуны сии участвовали еще в общей атаке и выстояли все сражение под ядрами. Можно судить, сколько их под вечер осталось.
Выехав на большую дорогу, я поворотил вправо к Татаркам, но никто о брате ничего не знал; люди наши, однако, говорили, что видели как будто его сидевшим саженях в 30 от большой дороги. Александр возвратился с левого фланга и также не нашел брата; он далее меня ездил, ибо я поравнялся только с Раевского батареею, он же доезжал до конца левого фланга.
Солнце уже садилось, но огонь не прекращался; однако же к ночи мы, после жаркого боя, уступили место, лишившись нескольких орудий. Остатки Дохтурова 6-го корпуса, примыкавшие правым флангом своим к большой дороге, еще кое-как удержались; но оконечность нашего левого фланга была совершенно отброшена назад, так что старая Можайская дорога оставалась почти совсем открытою. Все с нетерпением ожидали наступления темноты, которая, с прекращением кровопролития, спасала нас от совершенной гибели, которой бы не миновать, если б день еще два часа продлился. Конечно, не побежали бы войска наши, но все легли бы на месте, ибо неприятель был слишком превосходен в силах. Французская старая гвардия еще в дело не вступала, тогда как часть нашей гвардии потеряла уже довольно большое количество людей, и Преображенский и Семеновский полки, не сделав ни одного ружейного выстрела, понесли от одних ядер до 400 человек урона в каж-
[120]
дом. В Семеновском полку служили два сына Алексея Николаевича Оленина90. Подняв во время сражения неприятельское ядро, они перекатывали его друг к другу; к забаве этой присоединился товарищ их, Матвей Муравьев, как вдруг прилетело другое ядро и разорвало пополам старшего Оленина, у второго же пролетело ядро между плечом и головой и дало ему такую сильную контузию, что его сперва полагали убитым. Он опомнился, но долго страдал помешательством, отчего он хотя и выздоровел, но остался с слабою памятью и с признаками как бы ослабевших умственных способностей.
Когда совершенно смерклось, сражение прекратилось и неприятель, который сам был очень расстроен, опасаясь ночной атаки, отступил на первую свою позицию, оставя Раевского батарею, лес и все то место, которое мы поутру занимали. Войска наши, однако, не подвинулись вперед и провели ночь в таком положении, как ввечеру остановились. Обе армии считали себя победоносными и обе разбитыми. Потеря с обеих сторон была равная, не менее того гораздо ощутительнее для нас, потому что, вступая в бой, у нас было гораздо менее войск, чем у французов.
Таким образом кончилось славное Бородинское побоище, в котором русские приобрели бессмертную славу. Подобной битвы, может быть, нет другого примера в летописях всего света. Одних пушечных выстрелов было выпущено французами 70 000, так что их приходилось почти на каждого нашего раненого или убитого, не считая миллионов выстреленных ими ружейных патронов и поражения холодным оружием. Во всей России отслужили благодарственные молебствия; но как должны были удивиться, когда через несколько дней услышали, что французы уже в Москве!
Государь приказал выдать каждому рядовому и унтер-офицеру по пяти рублей в награждение, и добродушные солдаты наши приняли с благоговением сию монаршую милость *.
Во всю ночь с 26-го на 27-е число слышался по нашему войску неумолкаемый крик. Иные полки почти совсем исчезли, и солдаты собирались с разных сторон. Во многих полках оставалось едва 100 или 150 человек, ко-
* Теперь гораздо более сего расходуется на смотрах и маневpax. (Прим. автора.)
[121]
торыми начальствовал прапорщик. Вся Можайская дорога была покрыта ранеными и умершими от ран, но при каждом из них было ружье *. Безногие и безрукие тащились, не утрачивая своей амуниции. Ночи были холодные. Те из раненых, которые разбрелись по селениям, зарывались от стужи в солому и там умирали. В моих глазах коляска генерала Васильчикова91 проехала около дороги по большой соломенной куче, под которой укрывались раненые, и некоторых из них передавила. В памяти моей осталось впечатление виденного мною в канаве солдата, у коего лежавшая на краю дороги голова была раздавлена с размазанным по дороге мозгом. Мертвым ли он уже был, или еще живым, когда по черепу его переехало колесо батарейного орудия, того я не был свидетелем. Лекарей недоставало. Были между ними и такие, которые уезжали в Можайск, чтобы отдохнуть от переносимых ими трудов, отчего случилось, что большое число раненых оставалось без пособия. Хотя было много заготовлено подвод, но их и на десятую долю раненых недостало. Часть их кое-как добрела до Москвы, но многие сгорели в общих пожарах, обнявших весь околодок.
Перед выездом моим в 1816 году в Грузию виделся я в Петербурге с возвратившимся из плена л<ейб>-г<вардии> Финляндского полка полковн<иком> Фон-Менгденом, который был захвачен больным в Москве, и я слышал от него следующие подробности о поле Бородинской битвы. Когда его с прочими пленными гнали к Смоленску через Бородинское поле, он увидел в селении Горках трех раненых русских солдат, которые сидели рядом, прислонившись к избе. Двое из них были уже мертвые, третий еще жил. Фон-Менгден проходил в сем месте 18 дней после сражения; ни одно тело не было еще убрано. Смрад был нестерпимый. Оставшиеся после столь долгого времени в живых раненые питались сухарями, добываемыми из ранцев убитых, среди волков, питавшихся сотлевавшими трупами людей и лошадей. Тела на поле сражения оставались не похоронены до того времени, как по изгнании французов, земская полиция вступила в свое управление. Тогда пригнали крестьян, и
* Воинская доблесть, коею не могут хвалиться солдаты нынешнего времени, бросающие ружье свое при легких ранах и даже выкидывающие, в стрелках, из своих сумок боевые патроны. 1866. (Прим. автора.)
[122]
трупы складывали в костры, которые сжигали. Не менее того зараза распространилась во всех окрестных селениях, отчего померло много жителей. В 1816 году я посетил Бородинское поле сражения и нашел на нем еще много костей, обломки от ружейных лож и остатки киверов. Батареи наши еще не были срыты. Стоило только несколько взрыть землю на Раевского батарее, чтобы найти человеческие остовы. Я поднял одну голову со вдавленным в одной стороне (вероятно, картечью) черепом и послал ее в Петербург к брату Михайле. Окрест лежащие селения были разорены, и в колокольне Бородинской церкви видны еще были наши ядра.
Когда в 1812 году войска наши располагались на позиции при Бородине, хлеб в поле везде стоял великолепный и подавал надежду на обильный урожай; но все поля эти были потоптаны.
В том же 1816 году, проезжая через город Старую Русу, я познакомился с городничим Толстым, которому принадлежала мыза Татарки. Он уверял меня, что в 1813 году некому было засевать Бородинское поле, что ни одно зерно не было брошено в землю, но что земля, столь удобренная кровью и животным гниением, дала без всякой работы отличный урожай хлеба. Никакой памятник не сооружен в честь храбрых русских, погибших в сем сражении за отечество*. Окрестные селения в нищете и живут мирскими подаяниями, тогда как государь выдал 2 000 000 русских денег в Нидерландах жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, бывшего на том месте в 1815 году!
Потеря наша убитыми и ранеными в сем сражении состояла из 26 генералов, 1200 штаб- и обер-офицеров и 40 000 нижних чинов. Французы не менее нашего потеряли. Лошадей похоронено на поле сражения 19 000**. От гула 1500 орудий земля стонала за 90 верст. Говорят, что даже в Москве был слышен гул от пальбы. Пленных взято очень мало, не более 1000 человек. Французам же достались в плен с поля сражения люди большей частью
* На Бородинском поле сражения стоит ныне монастырь, сооруженный трудами и иждивением вдовы убитого там генерала Тучкова. Поставлен и чугунный монумент на поле битвы. 1866 г. (Прим. автора.)
** По официальным сведениям, которые мне недавно случилось видеть, урон наш показан в меньшем размере; но показанный здесь, может быть, вернее. 1866 г. (Прим. автора.)
[123]
раненые, и из них которые не были в состоянии следовать, были добиты поднявшими их. Под Бородиным убит начальник штаба в ариергарде у Коновницына, квартирмейстерской части полковник Гавердовский, под начальством коего служил несколько времени брат Александр. Гавердовский был человек с достоинствами и один из лучших офицеров генерального штаба как по своему уму, так и по знаниям, опытности и храбрости. Он был уважаем начальниками и любим своими подчиненными.
Передавая виденное мною под Бородиным и слышанное о сем сражении, помещаю здесь частный эпизод сего сражения, рассказанный мне пионерным капитаном Шевичем, с которым я познакомился в Динабурге в 1815 году.
В 1812 году Шевич командовал пионерной ротой. Желая участвовать в Бородинском сражении, он лично просил главнокомандующего вверить ему несколько орудий, при коих он со своими пионерами предлагал исполнять должность артиллеристов. Кутузов исполнил желание просителя и велел поставить его за Раевского батарею. Шевич имел двух братьев, служивших в каком-то полку, с которыми он 8 лет не видался. Полк их, стоявший до войны в Финляндии, присоединился к большой армии, о чем он, Шевич, не знал. Для прикрытия его орудий случайно назначили батальон того полка, в коем братья его служили. Желая познакомиться с офицерами, он накануне сражения подошел ввечеру к огню, около которого они сидели. Осведомившись о названии полка, он спросил батальонного командира, не знает ли он брата его Шевича, который в этом полку служит. Но как они оба удивились, узнав друг друга! Братья обнялись. Шевич нашел и другого брата своего, который служил обер-офицером в том же батальоне. Братья провели ночь у огня, приготовляя себя к предстоявшей битве. Они выразили взаимную дружбу свою завещанием не выдавать друг друга. Когда французы взяли батарею, пионерный Шевич, схватив ружье, отбивался около своих орудий; брат его, майор, бросился к нему с батальоном на помощь и отстоял орудия, но убит подле вырученного им брата, который сам, раненный пулею в руку и штыком в грудь, не оставляет своего места. Третий брат жестоко ранен; его берут четыре солдата и хотят вынести из огня, но прилетевшая граната попадает прямо на раненого, взрывом своим разносит его члены в разные стороны и убивает четырех солдат, его несших. Это случилось в ви-
[124]
ду пионерного капитана, который в отмщение не дает помилования неприятелю. Французов всех перекололи и освободили орудия. Замечательный случай этот не имеет, конечно, ничего необыкновенного, но подробности рассказа могли бы подвергнуться сомнению, если б Шевич не был действительно известен в армии за человека отчаянной храбрости. Впрочем, говорили также, что поведение его было далеко не отличное и что он большой буян. Кажется, что он теперь выключен из службы за дурное поведение.
Ночь с 26-го на 27-е августа все провели без сна. Разнесся слух, что с рассветом сражение возобновится. Об этом действительно судили в созванном Кутузовым военном совете, но не верю, чтобы сам главнокомандующий о том помышлял, потому что армия наша была слишком расстроена: неизбежно последовала бы гибель нашего войска, если б дело на следующий день возобновилось. Скорее полагаю, что слух этот распустили с тем намерением, чтобы поддержать дух в войсках и не дать им заметить горестного нашего положения. Во все время сражения главнокомандующий сохранял невозмутимое хладнокровие. В самые опасные минуты он не терялся и рассылал приказания свои со спокойным видом, что немало служило к поддержанию духа в войсках.
27-го августа брат Александр до рассвета снова отправился на поле сражения отыскивать тело Михайлы. Он проехал за нашу цепь, объездил все поле и не нашел брата. К удивлению своему, увидел он, что неприятель, оставив новую позицию, которою овладел после битвы накануне ввечеру, провел ночь на занимавшемся им с утра до боя бивуаке. Александр первый довел о том до сведения главнокомандующего.
Очень рано поутру войска наши, оставив поле сражения, начали отступать к Можайску. Пройдя город, остановились на высотах. Уменьшение сил наших было на глаз заметно, ибо на походе дивизии скорее прежнего сменяли одна другую. Не менее того отступление совершилось в таком порядке, что судя по оному, нельзя бы назвать нас разбитыми. Пострадали, как выше сказано, раненые; некоторых из них передавили на большой дороге; те же из них, которые добрели до Можайска, сгорели в домах при общем пожаре города. Французы сами были очень расстроены и не решались нас преследовать, но, заняв ввечеру Можайск, они вступили с нашим ариергар-
[125]
дом в перестрелку, которая поздно прекратилась. Затем мы провели ночь без тревоги.
Мы полагали брата Михаилу убитым; но, в надежде еще найти его, Александр на всякий случай выпросил у Вистицкого позволение ехать в Москву, чтобы искать брата по дороге между множеством раненых, которых везли на подводах. Так как мы во всем терпели недостаток, то мы положили с Александром, чтоб мне отпроситься в деревню князя Урусова, село Осташево, чтобы взять оттуда несколько лошадей и продовольствия и, если бы оказалось возможным, то и денег. Село сие лежит в 35-ти верстах от Бородина и 41 от Можайска. Вистицкий отпустил меня 27-го числа ввечеру. Я отправился один верхом рысью, но, отъехав верст 8, встретил казачий пост, который меня не пустил далее, говоря, что он имеет строгое приказание никого не пропускать по этой дороге, потому что неприятель ее уже занял, что было справедливо; ибо тут же приведены были пленные французы разъездом казаков, от которых я узнал, что они взяли пленных в селе Бражникове, отстоящем от нашей деревни (бывшей князя Урусова) на одну версту. Итак, я возвратился ночью назад.
В наше село Осташево (или Александровское) заходило человек 60 французских мародеров, которые побили стекла в доме, сорвали с биллиарда сукно и поколотили управителя, но более ничего не могли сделать, потому что крестьяне, собравшись, часть их выгнали, а другую, по истязании, убили.
28-го рано поутру мы снова отправились отыскивать брата Михайлу; ехали медленно, среди множества раненых и всех расспрашивали, описывая им приметы брата, но ничего не узнали. Наконец подпоручик Хомутов, который мимо ехал, сказал нам, что он 27-го числа видел брата Михайлу жестоко раненным на телеге, которую вез московский ратник, и что брат поручил ему известить нас о себе. Равнодушие товарища Хомутова, не известившего нас о том накануне, заслуживало всякого порицания, и он не миновал упреков наших. Мы продолжали путь свой и разыскания. Проезжая через селения, один из нас заходил во все избы по правой стороне улицы, а другой по левой; но в этот день мы его не нашли. Я остался ночевать в главной квартире, Александр же поехал далее.
29-го числа я отправился в Москву. В горестном положении увидел я столицу. Повсюду плач и крик, по
[126]
улицам лежали мертвые и раненые солдаты. Жители выбирались из города, в коем проявлялись уже беспорядки; везде толпился народ. Я прискакал в дом князя Урусова, полагая найти там отца и братьев. Старый кучер подъехал ко мне испуганный и, не узнав меня, принял лошадь. Я вбежал с шумом, но Александр, встретив меня, остановил: «Тише, тише,– сказал он,– Михайла умирает; у него антонов огонь показался, и теперь ему операцию делают». Осторожно вошедши в батюшкин кабинет, я увидел брата Михайлу лежащего на спине. Доктор Лёмер (Lemaire) вырезывал ему снова рану и пускал из нее кровь. Михаила узнал меня, кивнул головой, и во все время мучительной операции лицо его не изменилось. Приятель его Петр Александрович Пустрослев тут же находился. Дом был уже почти совсем пуст. Князь Урусов выехал с батюшкой в Нижний Новгород, куда все московское дворянство укрылось. В доме оставалось только несколько слуг наших и те вещи, которые не могли вывезти вскорости. Я вышел из комнаты раненого. Лёмер, окончив операцию, подал некоторую надежду на выздоровление брата, впрочем, очень малую. Ввечеру Александр рассказал мне случившееся с Михайлой, по его собственным словам. Во время Бородинского сражения Михайла находился при начальнике главного штаба Беннигсене на Раевского батарее, в самом сильном огне. Неприятельское ядро ударило лошадь его в грудь и, пронзив ее насквозь, задело брата по левой ляжке, так что сорвало все мясо с повреждением мышц и оголило кость; судя по обширности раны, ядро, казалось, было 12-фунтовое. Брату был тогда 16-й год от роду. Михайлу отнесли сажени на две в сторону, где он, неизвестно сколько времени, пролежал в беспамятстве. Он не помнил, как его ядром ударило, но, пришедши в память, увидел себя лежащим среди убитых. Не подозревая себя раненым, он сначала не мог сообразить, что случилось с ним и с его лошадью, лежавшею в нескольких шагах от него. Михаила хотел встать, но едва он приподнялся, как упал и, почувствовав тогда сильную боль, увидел свою рану, кровь и разлетевшуюся вдребезги шпагу свою. Хотя он очень ослаб, но имел еще довольно силы, чтобы приподняться и просить стоявшего подле него Беннигсена, чтобы его вынесли с поля сражения. Беннигсен приказал вынести раненого, что было исполнено четырьмя рядовыми, положившими его на свои шинели; когда же они вынесли его из огня, то положили
[127]
на землю. Брат дал им червонец и просил их не оставлять его, но трое из них ушли, оставя ружья, а четвертый, отыскав подводу без лошади, взвалил его на телегу, сам взявшись за оглобли, вывез его на большую дорогу и ушел, оставя ружье свое на телеге. Михайла просил мимо ехавшего лекаря, чтобы он его перевязал, но лекарь сначала не обращал на него внимания; когда же брат сказал, что он адъютант Беннигсена, то лекарь взял тряпку и завязал ему ногу просто узлом. Тут пришел к брату какой-то раненый гренадерский поручик, хмельной, и, сев ему на ногу, стал рассказывать о подвигах своего полка. Михаила просил его отслониться, но поручик ничего слышать не хотел, уверяя, что он такое же право имеет на телегу, при сем заставил его выпить водки за здоровье своего полка, отчего брат опьянел. Такое положение на большой дороге было очень неприятно. Мимо брата провезли другую телегу с ранеными солдатами; кто-то из сострадания привязал оглобли братниной телеги к первой, и она потащилась потихоньку в Можайск. Брат был так слаб и пьян, что его провезли мимо людей наших, и он не имел силы сказать слова, чтобы остановили его телегу. Таким образом привезли его в Можайск, где сняли с телеги, положили на улице и бросили одного среди умирающих. Сколько раз ожидал он быть задавленным артиллериею или повозками. Ввечеру московский ратник перенес его в избу и, подложив ему пук соломы в изголовье, также ушел. Тут уверился Михайла, что смерть его неизбежна. Он не мог двигаться и пролежал таким образом всю ночь один. В избу его заглядывали многие, но, видя раненого, уходили и запирали дверь, дабы не слышать просьбы о помощи. Участь многих раненых! Нечаянным образом зашел в эту избу л<ейб>-г<вардии> казачьего полка урядник Андрианов, который служил при штабе великого князя. Он узнал брата и принес несколько яиц всмятку, которые Михаила съел. Андрианов, уходя, написал мелом по просьбе брата на воротах: Муравьев 5-й. Ночь была холодная; платье же на нем изорвано от ядра. 27-го поутру войска наши уже отступали через Можайск, и надежды к спасению, казалось, никакой более не оставалось, как неожиданный случай вывел брата из сего положения. Когда до Бородинского сражения Александр состоял в ариергарде при Коновницыне, товарищем с ним находился квартирмейстерской части подпоручик Юнг, который пред сражением заболел и уехал в Мо-
[128]
жайск. Увидя подпись на воротах, он вошел в избу и нашел Михайлу, которого он прежде не знал; не менее того, долг сослуживца вызвал его на помощь. Юнг отыскал подводу с проводником и, положив брата на телегу, отправил ее в Москву. К счастию случилось, что проводник был из деревни Лукина, князя Урусова. Крестьянин приложил все старание свое, чтобы облегчить положение знакомого ему барина, и довез его до 30-й версты, не доезжая Москвы. Михаила просил везде надписывать его имя на избах, в которых он останавливался, дабы мы могли его найти. Александр его и нашел по этой надписи. Он тотчас поехал в Москву, достал там коляску, которую привез к Михайле, и, уложив его, продолжал путь. Приехав в Москву, он послал известить Пустрослева, который достал известного оператора Лёмера; но когда сняли с него повязку, то увидели, что антонов огонь уже показался. Я приехал в Москву в то самое время, как рану снова растравляли.
Спустя несколько лет после сего Михайла приезжал в отпуск к отцу в деревню и отыскивал лукинского крестьянина, чтобы его наградить, но его не было в деревне: он с того времени не возвращался и никакого слуха о нем не было; вероятно, что он погиб во время войны в числе многих ратников, не возвратившихся в дома свои. Я слышал от Михайлы, что в минуту, когда он, лежа на поле сражения, опомнился среди мертвых, он утешался мыслию о приобретенном праве оставить армию, размышляя, что если ему суждено умереть от раны, то смерть сия предпочтительна тому, что он мог ожидать от усталости и изнеможения, ибо он давно уже перемогался. Труды его и переносимые нужды становились свыше сил. Если же ему предстояло выздоровление, то он все-таки предпочитал страдания от раны тем, которые он должен был через силы переносить по службе. По сему можно судить о тогдашнем положении нашем! Мы с Александром были постарее Михайлы и оттого могли лучше его переносить усталость и труды, но истощалось и наше терпение.
Приехав в Москву, я разделся, чего давно уже не удавалось мне сделать, и нашел себя в плохом положении. В Смоленске еще открылись у меня на ногах цинготные язвы. Хотя я их несколько раз сам перевязывал, но в Москве с трудом можно было отодрать присохшие бинты. Платье и белье были на мне совсем изорваны и покрыты насекомыми. Я переоделся и от того одного уже почув-
[129]
ствовал облегчение. Однако денег у нас не было ни гроша, а надобно было отправить раненого брата в Нижний Новгород к отцу; надобно было ему достать в дорогу лекаря и снабдить кое-каким продовольствием. Я поехал к бывшему тогда в Москве полицмейстеру Александру Александровичу Волкову92, двоюродному брату отца. У него во всех комнатах лежали знакомые ему раненые гвардейские офицеры, за которыми он ухаживал. На просьбу взаймы денег он вынул бумажник и дал мне счесть, сколько их у него оставалось. Я нашел 120 рубл., и он мне отдал половину. С 60 рублями я возвратился домой. Александр, с своей стороны, также достал несколько денег, и мы отдали их Михайле.
Заложив оставшуюся в сарае коляску парой, мы отправили на ней раненого. За ним же ехала телега с поклажей, а за телегой шли оставшиеся дворовые люди: старики, бабы и ребятишки. Пустрослев также отправлялся в Нижний Новгород; он поехал вместе с братом, и с ними известный врач того времени Мудров, который полюбил брата, лечил и спас его во второй раз от смерти. Александр проводил обоз сей верст 20 за Москву и там простился с Михайлою, не надеясь когда-либо с ним опять свидеться; потому что когда сняли перевязку, то нашли, что антонов огонь вновь открылся. С тех пор я более ничего о нем не слышал до времени обратного занятия нами Вильны.
Дом князя Урусова оставался почти пустой. Мы пошли с Александром обыскивать его, дабы взять то, что возможно было с собою увезти. Старый лакей Колонтаев показал нам два запечатанные погреба, о коих мы еще в детстве слыхали по рассказам, что князь Урусов, лет 40 тому назад, запасал в них хорошие вина, которые никогда не подавались к столу. Печати были сломаны, замок отбит, и мы водворились с фонарем и рюмкой для пробы вин, разрыли песок и нашли зарытые бутылки с старым венгерским и другими отличными винами и ликёрами. Много увезти нельзя было за недостатком места для укладки, и потому, выбрав бутылок двадцать, мы уложили их в ящик, чтобы с собой взять. Остальным вином угощали мы приезжавших к нам товарищей; но за всем тем, в два дня пребывания нашего в Москве, мы не извели и четвертой доли всего запаса. Затем один из погребов заложили камнем, а другие просто заперли. Французы расхитили один из них, другого же не нашли. Спустя несколько лет после войны, когда батюшка всту-
[130]
пил во владение наследства, оставшегося от князя Урусова, он забыл о сем погребе. Когда же я к нему в отпуск приехал, то просил у него позволения заглянуть в знакомый мне погреб. Он мне подарил его, говоря, что в нем не могло ничего хорошего остаться. Много вин в нем оказалось попорченными, но оставалось еще до 50 бутылок хорошего вина, коим я долго угощал отца в его доме.
Во время пребывания нашего в Москве прибежал управитель суконной фабрики князя Урусова Василий Новиков. Он жил в селе Охлебихине, в 40 верстах от Москвы, и не ожидал французов, как вдруг пришел к нему неприятельский отряд и разграбил селение; Новикова же поколотили и разули. Он явился к нам босой и с перепугу рассказывал чудные вещи о французах. Переняв у них бранные речи, он как бы с ума рехнулся и не переставал объяснять разные подробности о французах, уверяя, что народ этот не умеет говорить, а только лепечет. От Новикова слышали мы также, что английское войско идет на выручку Москвы и что он даже сам видел английскую конницу. Посмеявшись рассказам его, мы, однако, рассудили, что главнокомандующий мог не знать о появлении неприятеля в той стороне, и потому я поспешил к Вистицкому с сим известием и нашел главную квартиру в Филях, что в 6-ти верстах от Москвы.
Начальник мой, генерал Вистицкий, приказал мне лично о том объяснить главнокомандующему. Я пошел к Кутузову, который сидел в креслах среди комнаты, окруженный корпусными командирами. Полагаю, что у них тогда был военный совет, на коем судили о сдаче Москвы. Все говорили, один только Кутузов молчал. Когда я ему доложил, он мне отвечал только: «хорошо»,– и я возвратился. Видно, что ему уже известны были направления, по которым пошел отряд французов. Непростительно, однако же, Вистицкому, что он того не знал; но слабого и бестолкового старика сего ни до чего не допускали: он боялся даже сам подойти к главнокомандующему с докладом.
Я возвратился в Москву. Слух носился, что город будут защищать; приступили даже к деланию окопов для укрепленного лагеря. Главнокомандующим в Москве был тогда граф Ростопчин, который ежедневно издавал жителям прокламации в простых народных выражениях. Листы сии быстро распространялись по городу и всеми
[131]
читались. Сими воззваниями Ростопчин сзывал народ, дабы, соединив толпы, идти против неприятеля. Он приказал отпереть арсенал и позволил всем входить в него, чтобы вооружаться. Город наполнялся вооруженными пьяными крестьянами и дворовыми людьми, которые более помышляли о грабеже, чем о защите столицы, стали разбивать кабаки и зажигать дома. Ростопчин старался поддержать сей беспорядок и без суда обвинил напрасно в измене купеческого сына Верещагина, которого приказал полицейским драгунам при себе изрубить палашами93 в виду всего народа, с шумом обступившего его дом. Говорили после, что Ростопчин пожертвовал этим молодым человеком для своего личного спасения. По обвинении во всеуслышание Верещагина в измене и по нанесении ему первых ударов палашами, разъяренная толпа, схватив несчастного, изорвала его на части, тело же его оставили на улице непохороненным. Верещагин был молодой человек с некоторым образованием. Он знал иностранные языки, и вся вина его состояла в том, что он, из французских ведомостей переведя одну реляцию о деле на русский язык, дал прочитать перевод свой приятелю. Ростопчину в общем мнении не простят сего поступка. Слышно также было, что он чувствует угрызение совести и что тень невинно умерщвленного часто представляется ему с упреками. Кроме небольшой части простого народа, никого в городе не оставалось. Дворянство все почти выехало. По каретам, в то время показывавшимся на улице, народ бросал каменьями. Цель Ростопчина была сжечь столицу, дабы неприятелю не достались запасы продовольствия, находившиеся в домах. Для вернейшего достижения сего выпустили арестантов из острогов и вывезли из Москвы пожарные трубы.
2-го сентября войска наши обошли город через Воробьевы горы. В ариергарде оставался Милорадович, которому приказано было заключить с неприятелем перемирие на 24 часа, дабы успеть вывезти раненых из столицы. Перемирие состоялось, но в госпиталях было до 25 000 больных и раненых, из коих часть сгорела в общем пожаре города. В Москве также оставалось еще много офицеров, которые заехали в свои дома. Некоторые из них, не ожидая столь скорого появления неприятеля, были захвачены в плен. В плен попался квартирмейстерской части подпоручик Василий Перовский 2-й. Он в то время выбирал из отцовского арсенала графа Разумовского
[132]
ружья и кидал их в колодезь. Французы внезапно схватили его при сем занятии и отослали с другими пленными во Францию *.
В этой партии пленных находился Михайла Александрович фон-Менгден, о котором я выше упоминал. Он лежал в Москве больной горячкою, в доме тетки своей Колошиной. Услышав об оставлении нами города, он велел себя вывезти, но едва доехал до Арбатских ворот, как неприятельский отряд настиг его и взял в плен. Фон-Менгден впоследствии мне рассказывал, как французы с ними дурно обходились. Они убивали тех из пленных, которые от ран или болезни не могли далее идти, а с других снимали обувь и одежду, оставляя их босыми и почти нагими.
Я также попался бы в плен, если б не прискакал к нам в дом товарищ наш Лукаш с известием, что неприятель уже у Дорогомиловской заставы. Я поспешил с ним к заставе, чтобы о том увериться, и, услышав французские барабаны, поскакал домой, велел заложить телегу и отправился из города, взяв из дома князя Урусова старого, толстого и пьяного повара Евсея Никитича, который во весь поход до Вильны оставался при мне. Я поехал к заставе, в которую ариергард наш прошел, и прибыл к армии; то была, кажется, Владимирская застава. Дорогою я увидел лавку, в которую забрались человек десять солдат и грабили ее. Купец, подбежав ко мне, просил защитить его. Я слез с лошади и разогнал солдат; за одним из них, который унес какую-то добычу, я погнался и ударил его обнаженною саблею по плечу, так что он упал на землю. После я сожалел, что, вступившись в дело, помешал солдатам попользоваться у купца товаром, который достался же французам.
Мы никак не могли свыкнуться с мыслью, что оставляем Москву неприятелю, который будет обладать и распоряжаться в нашей древней святыне. С армиею выехало из Москвы множество карет с семействами обывателей; бесконечный обоз этот остановился на первую ночь по большей части с главной квартирой и в окрестных селениях верст на пятнадцать от города; на следующий же день укрывавшиеся от неприятеля семейства продолжали путь свой далее к востоку.
* Бывший Оренбургский генерал-губернатор. Передаю слышанное об обстоятельствах, сопровождавших полонение Перовского. Обстоятельства сии иначе изложены в записках его, в журнале «Русский архив» 1865. Примечание 1866 г. (Прим. автора.)
[133]
В Москве оставалось много наших мародеров. Во всех действующих войсках наших, по выступлении из столицы, состояло только 55 тыс. человек под ружьем. В том числе считался и небольшой отряд с Белорусским гусарским полком, посланный по Петербургской дороге под командою генерала Винценгероде94 к городу Клину, где ему назначалось, соединившись с Тверским ополчением, прикрывать г. Тверь. Французы недалеко подвинулись по сей дороге, и Винценгероде оставался в Клину во все время пребывания неприятеля в Москве.
Наполеон думал, что сдача русской столицы совершится таким же порядком, как сдача Вены95. Он ожидал у заставы депутацию с ключами города, но крайне удивился, когда увидел, что город уже в нескольких местах горит. Войска его вступили парадом по запустелым улицам Москвы и, подошедши к Кремлю, были встречены ружейными выстрелами из арсенала, куда забралась толпа пьяных, впрочем, скоро сдавшихся после нескольких пушечных выстрелов со стороны французов.
Скоро сделался взрыв пороховых погребов, и древняя столица наша под вечер вся запылала. Наполеон приказал тушить пожар и ловить зажигателей. Их до 200 человек повесили или расстреляли; но пожар от того не прекратился, и французские солдаты разбрелись по городу, грабили, разбивали винные погреба, перепились и, наконец, сами стали зажигать дома. Некоторые из жителей, в то время в городе оставшихся, уверяли меня ныне, что среди неприятельских войск происходил ужасный беспорядок: ни начальники их, ни солдаты не находили своих полков; все было пьяно и перемешано. Несколько из оставшихся обывателей города были убиты французами, женщины изнасилованы, церкви осквернены, образа поруганы. Французы вели себя при взятии Москвы как народ дикий и необразованный. В сущности, из таких людей и было большею частью составлено их многочисленное войско. Из всех добродетелей, знаменующих доблестного воина, они сохранили только храбрость. Наполеон остановился в Кремлевском дворце. Сильные караулы были поставлены у всех ворот, и русским был воспрещен вход в Кремль. Впоследствии и император французов, вытесненный из города пожаром, поместился в Петровском дворце, что в трех верстах от Москвы по Петербургской дороге.
Многие находят, что Кутузов должен был снова вступить со всеми силами в Москву, 2-го же сентября ночью,
[134]
в том предположении, что он непременно истребил бы опьяненное войско неприятеля; но мне кажется, что такая мера была бы неосторожна, потому что войска наши неминуемо разбрелись бы, как и неприятель, для грабежа и пьянства, и армия наша вся бы исчезла, тогда как у неприятеля оставалось еще за городом по Смоленской дороге несколько корпусов, расположенных лагерем и в порядке.
Я выехал из Москвы после полудня и застал главную квартиру в большом селении, лежащем в 15-ти верстах от заставы. Оно было наполнено народом всякого рода, отчего происходила большая суматоха. Так как я приехал поздно и не знал, куда явиться, то, сыскав товарищей, остановился у них. Потом я пошел к полковнику Эйхену 2-му (Федору Яковлевичу), чтобы осведомиться о происходившем, и узнал, что Вистицкий сменен, а наместо его исправляет должность генерал-квартирмейстера полковник Толь, к которому мне поэтому надобно явиться. Эйхен был приятный человек и хороший офицер, но он еще лучше мне показался, когда подпил немного моим старым венгерским вином, которого я ему две бутылки подарил. <…>
В то время, как я приехал в селение, где находился г. Раевский, сделался в Москве взрыв порохового магазина. Треск был ужасный, и город, который уже в нескольких местах горел, почти весь запылал. Зрелище было грустное и вместе страшное. Мы никак не хотели верить, чтобы пламя пожирало Москву, и полагали, что горит какое-нибудь большое селение, лежащее между нами и столицею. Свет от сего пожара был такой яркий, что в 12-ти верстах от города, где мы находились, я ночью читал какой-то газетный лист, который на дороге нашел.
3-го сентября поутру мы увидели перед собою французский авангард. Так как мы терпели недостаток в съестных припасах, то я отправился с одним из наших слуг и казаком, чтобы запастись в большой барской усадьбе, видневшейся верстах в двух в стороне от дороги. Впоследствии узнал я, что дом этот принадлежит какому-то князю Голицыну. Дом еще не был разграблен, стены украшались великолепными картинами и роскошная мебель во всех комнатах оставалась неприкосновенною; но во всем доме и дворе не было живой души, и я ничего не мог приобресть для продовольствия нашей артели. Вскоре после меня приехали на мызу башкиры
[135]
и казаки, от которых я узнал, что войска наши отступают и что неприятель идет вперед по большой дороге. Поспешно сев на лошадь, я выехал за сад и увидел перед собою передовую цепь французов; пехоты же нашей уже не было. На большую дорогу можно было попасть, подавшись еще несколько вперед, чтобы объехать небольшое болото, и я поскакал по этому направлению, между тем как французские войска приближались. Но, достигнув оконечности болота, я круто поворотил налево, уже в близком от неприятеля расстоянии и достиг ариергарда нашего на большой дороге. Французы не поехали на меня, вероятно, потому, что я сначала сам в их сторону скакал, отчего они могли принять меня за одного из своих.
На военном совете, собранном главнокомандующим, определено было обойти Москву фланговым маршем, дабы занять Калужскую дорогу и прикрыть южные губернии, откуда мы могли получать подкрепление и продовольствие. Между тем наши партизаны должны были занять все дороги, в особенности Можайскую, не допуская до Москвы неприятельских транспортов, шедших от Смоленска. Мы не были в силах выдержать сражения, и потому нам надобно было прибегать к иным средствам для изгнания неприятеля из столицы. Избегая генерального сражения, продолжая между тем военные действия и заняв Калужскую дорогу, мы могли собрать к зиме новую армию, изготовленную к зимнему походу, тогда как французам, ниоткуда не получавшим помощи, предстояли всякого рода нужды в сгоревшей столице и разграбленных окрестностях ее. Наступающие холода должны были способствовать к истреблению изнеможенного от недостатков неприятельского войска. Для приведения сего плана в действие требовалась большая тайна, особенно со стороны офицеров квартирмейстерской части, которым предстояло вести колонны проселками, и потому Толь, собрав наших офицеров, объяснил, по каким дорогам должно вести войска, и запретил нам объясняться по сему предмету с генералами, которых вели проселками и по дурным дорогам в неизвестном для них направлении.
Отступивши верст 30 от Москвы, армия наша своротила вправо, оставив на большой дороге незначительный отряд легкой конницы, дабы обмануть французов. В первый день мы отошли верст 30 в сторону. Непонятно, каким образом неприятель потерял нас из виду и нас на
[136]
сем пути не беспокоил. Он мог бы нас на походе атаковать и нанести нам большой вред. Французские отряды, расположенные около Москвы по всем дорогам, иногда видели нас; бывали даже небольшие кавалерийские стычки, почему мы и опасались, что будем на походе атакованы всею неприятельскою армиею. Сего, однако же, не случилось, и французов увидели мы в силах только тогда, когда Калужская дорога была занята нами, и мы стояли уже на позиции под с. Тарутиным. Фланговый марш96 наш продолжался четыре дня по дуге круга, коего центром была Москва, а радиус имел около 30 верст.
Дым от пылавшей Москвы обратился в густое черное облако, которое носилось над нашими головами во все четыре похода. Казалось, как будто тень древней Москвы не оставляла нас и требовала мщения. Когда же мы заняли позицию, то тень сия исчезла: ветр разнес черное облако.
Раевский командовал ариергардом и имел стычку с неприятелем, помнится мне, под селением Панки, где с обеих сторон было сделано несколько пушечных выстрелов, перестрелку же поддерживали одни казаки. В этой стычке находился л<ейб>-г<вардии> драгунский полк, и тут встретился я с приятелем Николаем Петровичем Черкасовым, который определился в сей полк штандарт-юнкером.
Мы переправились через Москву-реку по понтонному мосту, послав во все стороны сильные разъезды, но неприятель нигде не показывался.
Перед переправою ариергард расположился ночью при селении, в котором остановился Раевский со своим штабом и где мы, офицеры квартирмейстерской части, заняв одну избу, также расположились на ночлег и уснули. Ночью селение это загорелось, о чем мы узнали через вбежавшего офицера, который нас разбудил. Увидя пламя, я вскочил впросонках и, думая, что все уже из избы выбрались, поспешил в конюшню, где взял свою верховую лошадь в повод и выехал второпях без верхнего платья, оставшегося в изголовье. Таким образом прошел я версты две за селение, где остановился. Шел дождь, и было холодно; войска, поднявшиеся с бивуака, проходили мимо меня, но по темноте ночи нельзя было никого различить. На зов мой подъехал офицер Ахтырского гусарского полка, граф Сиверс, которого я вовсе не знал и который, расспросив меня, дал мне свою
[137]
шинель. Вскоре затем нагнали меня товарищи, которые благополучно выбрались из своей квартиры.
Мы пришли к городу Подольску, лежащему по Тульской дороге в 30 верстах от Москвы. Главная квартира остановилась в селении Кутузове. На другой день армия переправилась через реку Пахру и продолжала движение свое проселочными путями. Ариергард же, переправясь через реку, остановился версты три за рекой при селении, где простоял три дня. Несколько казачьих полков оставались с Харьковским и Казанским драгунскими полками за рекою перед Подольском. Между тем армия вышла на большую Калужскую дорогу и, отступив по оной еще верст 50, остановилась на позиции за селением Тарутиным.
За переправою через реку Пахру находилось село Дубровицы с усадьбою графа Мамонова, коего управитель Алексей, крепостной человек Катерины Федоровны Муравьевой97, охотно угощал проезжих офицеров завтраками. Так как тогда не встретилось занятий, то нам позволено было на время отлучиться, и мы вполне воспользовались предложенным гостеприимством в Дубровицах, где порядочно отдохнули, т. е. спали покойно, хорошо обедали и ходили в баню, отчего больным ногам моим сделалось полегче.
Накануне выступления ариергарда в поход приехал в Дубровицы командир Харьковского драгунского полка полковник Дмитрий Михайлович Юзефович, с которым я тут познакомился и в течение войны несколько раз встречался, причем он оказывал мне некоторые услуги в нуждах, многими претерпеваемых в тогдашнее трудное время. Юзефович был человек умный и образованный; но говорили, что он любил пограбить. Он действительно составил себе на походе библиотеку, выбирая книги из библиотек, находимых на мызах и в усадьбах, оставленных по случаю войны владельцами. Французы различали два способа стяжания для военных, называя один способ voler *, что они признавали непозволительным, другой же faire suivre **, который они допускали.
Харьковский и Казанский драгунские полки, переправясь на нашу сторону реки, развели мост. Харьковский пошел далее, а Казанский, коим командовал какой-
* красть (фр).
** заимствовать (фр.).
[138]
то майор, расположился в саду на бивуаках для наблюдения за неприятелем. Под вечер показались за рекою французские стрелки, с коими спешившиеся Казанские драгуны завели через реку перестрелку и у нас было человек 12 раненых.
Так как ариергарду назначено было на другой день выступить, чтобы присоединиться к армии, то я перешел на ночь в селение, где находился Раевский. На следующий день меня назначили состоять при г<енерале> Илларионе Васильевиче Васильчикове, который командовал всей конницей ариергарда. Переход был до села Поливанова, где находился большой каменный дом и где мы остановились на ночлег. Сюда же приехал к нам с семьей знакомый Дубровицкий управитель, коего казаки после нас совершенно ограбили. Генерал Васильчиков пользовался общим уважением. Он был известен храбростью своею и сохранял хладнокровие в деле с неприятелем. Обращение его с офицерами было всегда приветливое. Я тогда познакомился с его адъютантами, коих теперь забыл имена, кроме одного Баррюеля, поручика Ахтырского гусарского полка, 13-ти или 14-летнего бойкого мальчика.
В селе Поливанове мы узнали, что за Бородинское сражение пожалованы Александр и я кавалерами ордена св. Анны 3-й степени на шпагу98; в тот же день Юнг случайно нашел на дороге ленточку Станислава польского ордена99; мы ее разрезали и, поделившись, вдели в петлицы к шинелям, в которых ходили.
На другой день пришло известие, что неприятель показался. Полки, в ожидании его, выстроились; но никто не приходил, и мы пошли далее. Ночлег наш был при селении в 5-ти только верстах от Калужской большой дороги.
Васильчиков послал меня с двумя казаками верст за 15, чтобы разведать о неприятеле, но я встретил только наш разъезд и, приехав после полуночи к генералу, донес ему о виденном. Отправляясь в сию командировку, я отыскивал проводника, чтобы разведать от него об окрестных селениях и, увидев крестьянина, хотел взять его для расспроса, но крайне удивился, когда один из адъютантов подъехал к нему и стал с ним вежливо говорить. Крестьянин этот был известный партизан Фигнер <…> Фигнер служил в армейской артиллерии штабс-капитаном. Когда войска наши выступали из Москвы, Ермолов ехал мимо роты Фигнера, который, не
[139]
будучи с ним знаком, остановил его и просил позволения ехать переодетым в Москву, чтобы убить Наполеона. По глазам Фигнера Ермолову казалось, что он похож на сумасшедшего (говорят, что Фигнер в самом деле был несколько помешан); но как он не отставал, то Ермолов приказал ему ехать с ним в главную квартиру и просил Кутузова позволить этому отчаянному человеку ехать в Москву, на что главнокомандующий согласился. Фигнер, переодевшись крестьянином, отправился в Москву поджигать город и доставил главнокомандующему занимательные известия о неприятеле; в доказательство же, что он действительно был в Москве, показал паспорт, выданный ему французским начальством для свободного пропуска через заставу. В сем паспорте он был назван cultivateur (земледельцем). Главнокомандующий, заметив деятельность и отважность Фигнера, поручил ему отряд, состоящий из 100 или 200 гусар и казаков. Фигнер, узнав, что из Москвы выступало шесть неприятельских орудий, скрыл отряд свой в лесах, где оставил его два или три дня; сам же, возвратившись в Москву, втерся проводником к полковнику, шедшему с орудиями, при коих было еще несколько фур и экипажей под небольшим прикрытием. Фигнер повел их мимо леса, в котором была засада и, подав условный знак, поскакал к своим на французской лошади, данной ему полковником. Наша конница внезапно ударила на неприятельский обоз и все захватила в плен. Полковник сидел в то время в коляске и крайне удивился, увидев проводника своего предводителем отряда и объяснявшимся с ним на французском языке. Ермолов, к коему доставили захваченных пленных и пушки с обозом, говорил мне, что полковник этот был умный и любезный человек, родом из Мекленбурга и старинный приятель земляка своего Беннигсена, с которым он в молодых летах вместе учился и которого он уже 30 лет не видал. Старые друзья обнялись, и пленный утешился. Случай сей доставил Фигнеру первую известность в армии. С тех пор он постоянно начальствовал отдельными отрядами и прославился в Европе своим партизанством.
В конце 1812 года появилось уже много партизанов, но из них всех более отличался предприимчивостью своею и храбростью Фигнер. Он несколько раз бывал в неприятельском лагере, переодетый во французском мундире, и разведывал о положении неприятеля, о силах его и об отправляющихся отрядах, на которые он по но-
[140]
чам нападал, чем причинял частые тревоги и большое беспокойство французам. Фигнер был до такой степени страшен неприятелю, что имя его служило пугалищем для их солдат, и голова его была оценена французами. Фигнер при всех достоинствах своих был жестокосерд. Впоследствии времени он не отсылал более пленных в главную квартиру; говорили, что он, поставив пленных рядом, собственноручно расстреливал их из пистолета, начиная с одного фланга по очереди и не внимая просьбам тех из них, которые, будучи свидетелями смерти своих товарищей, умоляли его, чтобы он их прежде умертвил. Совершенно ли справедливо такое сказание, не знаю. Фигнера сколько-нибудь может в сем случае оправдывать то, что отряд его был малочислен, и потому ему нельзя было отделять от себя людей для провожания пленных и тем ослаблять себя. Во всяком случае, умерщвляя пленных, ему надобно было избегать жестокости. Поводом к ней, конечно, служило чувство мести за неистовства100, чинимые французами в наших селениях и городах. Фигнер погиб в Германии, переправившись за Эльбу с небольшим отрядом, где он был атакован многочисленною неприятельскою конницею. Он долго держался, но, потеряв много людей, ему не оставалось другого спасения, как броситься в реку, чтоб переплыть ее; лошадь уже вывозила его на правый берег, когда один из его гусар, выбившись в воде из сил, схватил Фигнерову лошадь за хвост, сам утонул и утопил своего начальника. <…>
Обширное село Тарутино лежит при реке Наре и принадлежит князю Голицыну. В этом селе расположилась сперва главная квартира; когда же ариергард наш к оному подошел, то Кутузов перевел свою квартиру в деревню Леташевку, лежащую верстах в двух или трех подалее на большой же Калужской дороге; но как селение сие было недостаточно для помещения главной квартиры, то заняли еще другое селение, тоже Леташевку, лежащее на версту в стороне от большой дороги. Там была большая мыза, на которой стояли генерал Ермолов и многие другие. Позади Тарутина были высоты, на которых армия наша расположилась в несколько линий. Впоследствии времени тяжелую конницу поставили на тесных квартирах по окрестным селениям. Хотя позиция наша была выгодная, но мы не могли бы удержать ее против всех французских сил, потому что полки наши были очень слабы…
[141]
Французский генерал, приезжавший для переговоров о перемирии101, выставлял Кутузову выгоды, которые могли произойти для России от заключения мира. Кутузов прикинулся слабым, дряхлым стариком. Говорят, что он даже плакал. «Видите,– сказал он посланному,– мои слезы; донесите о том императору вашему. Скажите ему, что мое желание согласно с желанием всей России. Всего ожидаю от милости Наполеона и надеюсь ему быть обязанным спокойствием несчастного моего отечества»102…
Предложения о мирных условиях были посланы в Петербург с курьером, но курьеру приказано было попасться в руки неприятелю, и Наполеон уверился в мирных расположениях Кутузова. Между тем через Ярославль был послан другой курьер к государю с просьбой не соглашаться ни на какие условия.
Французы стояли перед нами в бездействии и ожидали ежедневно ответа о мире103. Между тем Кутузов мало показывался, много спал и ничем не занимался. Никто не знал причины нашего бездействия; носились слухи о мире, и в армии был всеобщий ропот против главнокомандующего.
Во время сего бездействия, продолжавшегося целый месяц, французы потеряли значительное количество людей на фуражировках. Партизаны наши присылали много пленных; других ловили крестьяне, которые вооружились и толпами нападали на неприятельских фуражиров. Не проходило дня, чтобы их сотнями не приводили в главную квартиру. Поселяне не просили себе другой награды, как ружей и пороху, что им и выдавали из числа взятого ими неприятельского оружия. В иных селениях крестьяне составляли сами ополчение и подчинялись раненым солдатам, которых подымали с поля сражения. Они устроили между собой и конницу, выставляли аванпосты, посылали разъезды, учреждали условленные знаки для тревоги. После таких мер в неприятельской армии оказалась большая нужда в продовольствии. Французы стали употреблять в пищу своих лошадей; те же, которые оставались, были так слабы, что когда казаки подъезжали к их передовой цепи, то неприятельские всадники, занимавшие форпосты, спрыгивали с седла и бежали назад, оставляя лошадей на месте неподвижными. От недостатков проявились у них между людьми заразительные болезни. Французские мародеры приходили даже в Тверскую губернию и там были побиваемы
[142]
крестьянами, которые, как тогда рассказывали, остервенились до такой степени, что прикалывали своих собственных слабых и раненых товарищей, дабы не затруднять себя ими или чтоб они не попались живыми в руки неприятелю. Некоторым из крестьян выдавались Георгиевские кресты. Всего более отличались поселяне Ельнинского и Юхновского уездов Смоленской губернии, которые под начальством капитана-исправника причинили много вреда неприятелю.
В числе партизанов были, кроме Фигнера, Дорохов104 и Михайла Орлов. Первый из них с лейб-драгунским полком разбил наголову французских гвардейских драгун и на большой Можайской дороге захватил неприятельские обозы, шедшие в Москву. Михаила Орлов был послан с маленьким отрядом к Верее, которую он взял приступом, за что получил Георгиевский крест и был произведен из поручиков прямо в ротмистры.
Пока неприятель таким образом изнемогал, наша армия поправлялась. Продовольствие у нас было хорошее. Розданы были людям полушубки, пожертвованные для нижних чинов из разных внутренних губерний, так что мы не опасались зимней кампании. Конница наша была исправна. Каждый день приходило из Калуги для пополнения убыли в полках по 500, по 1000 и даже по 2000 человек, большей частью рекрут. Войска наши отдохнули и несколько укомплектовались, так что при выступлении из Тарутинского лагеря у нас было под ружьем 90 000 регулярного войска. Числительностью, однако же, мы были еще гораздо слабее французов, и нам нельзя было рисковать генеральным сражением, но можно было надеяться на успехи зимней кампании в холода и морозы, которых неприятель не мог выдержать.
Тарутинский лагерь наш похож был на обширное местечко. Шалаши выстроены были хорошие, и многие из них обратились в землянки. У иных офицеров стояли даже избы в лагере; но от сего пострадало село Тарутино, которое все почти разобрали на постройки и топливо. На реке завелись бани, по лагерю ходили сбитеньщики, приехавшие из Калуги, а на большой дороге был базар, где постоянно собиралось до тысячи человек нижних чинов, которые продавали сапоги и разные вещи своего изделия. Лагерь был очень оживлен. По вечерам во всех концах слышна была музыка и песенники, которые умолкали только с пробитием зори. Ночью обширный стан наш освещался множеством бивуачных огней,
[143]
как бы звезд, отражающихся в пространном озере. <…>
Главнокомандующий, находя, что уже настало время действовать, решился атаковать врасплох стоявший перед нами французский авангард под командою неаполитанского короля. Предварительно посланы были офицеры квартирмейстерской части лесами и проселочными дорогами для обозрения местоположения в тылу неприятеля, что исполнили сам Толь с поручиком Трескиным и прапорщиком Глазовым. Обстоятельно ознакомившись с путями, они повели ночью две колонны, под командою Багговута и Беннигсена лесами. Нападение сие хранилось в большой тайне, и потому запрещено было во время движения говорить, курить трубку, стучать ружьями. К рассвету колонны должны были стянуться у опушки леса, к которому примыкал неприятельский левый фланг. По оплошности французов, не занимавших опушки леса, наши войска остановились в близком от них расстоянии. Милорадовичу приказано было выстроить авангард впереди Тарутина, не атакуя неприятеля, а с тем единственно, чтобы отвлечь внимание его. Гвардия, выступив из своего лагеря, стала в резерве. На рассвете Беннигсен дал пушечным выстрелом сигнал атаковать левый фланг пребывавшего еще во сне неприятеля. Французы были раздеты. Пока они одевались, Беннигсен и Багговут открыли сильную канонаду по неприятелю и, выступив с пехотой из леса, захватили 20 орудий, которые стояли на позиции. Французы, несколько оправившись, отступили своим левым флангом и устроили сильную батарею против корпуса Багговута, но она была скоро сбита, причем Багговут убит ядром. Между тем правый фланг неприятеля тронулся, чтобы атаковать Милорадовича, но был отражен несколькими картечными выстрелами. Пока сие происходило, мы увидели в тылу французов Орлова-Денисова105, атакующего их казаками. Атака была блистательная: казаки опрокинули неприятельских кирасир и причинили значительный урон им. Французы стали отступать бегом; мы их сильно преследовали верст десять, и, наконец, они исчезли, потеряв большое число орудий и много людей убитыми, в числе последних и генерала Ферье.
Войска наши возвратились в Тарутинский лагерь с песнями и музыкою. Аванпосты наши остались на том месте, где неприятель скрылся. Милорадович снова занял свою квартиру в селении Тарутино. Сражение сие
144 |
получило название по речке Чернышке106, на которой оно происходило; называют его также Тарутинским.
После этого дела наши гвардейские офицеры пустили на счет Наполеона красное словцо, будто он, выступая из Москвы, сказал о Кутузове: «Та routine m'a déroute» *. <…>
В сражении под Тарутиным Псковский драгунский полк, опрокинув французских латников, надел неприятельские кирасы, в коих и продолжал бой. В уважение подвигов Псковских драгун государь назвал их кирасирами, и они сохранили также во всю войну приобретенные ими французские желтые и белые латы.
Во время дела встретил я одного драгуна, который гнал пред собою русского, сильно порубленного. Раненый кричал и просил пощады от драгуна, но тот не переставал толкать его лошадью и подгонять палашом. Пленный этот был родной брат драгуна, ходил по воле в Москву и вступил в услужение к одному французскому офицеру, за что и не щадил его родной брат, который, после строгого обхождения с ним, отдал его в число военнопленных, собираемых в главную квартиру. Подобие римских нравов! <…>
В предположении, что в лесу, через который отступала французская пехота, могли остаться какие-нибудь заблудившиеся стрелки, Милорадович послал эскадрон драгун для отыскания их. Нашли одного польского егеря, которого драгун хотел вести в Тарутино; но повстречавшиеся с ним адъютант Милорадовича или офицер из числа состоявших при нем ординарцев приказал ему убить поляка, чтоб скорее возвратиться к своему полку. Драгун отвел поляка в сторону и, приставя ему палаш к горлу, собирался заколоть его, но не мог решиться и, отведя палаш, стал смотреть пристально на поляка, который, не произнося ни слова, как бы с равнодушием ожидал неизбежной смерти.– «Экой проклятый,– говорил драгун,– не сдается». Опять приставил палаш к горлу и опять принял его назад, говоря: «Нет, мне, видно, не убить его». Драгун крикнул проезжавшего мимо казака: «Господин казак,– сказал он ему,– убейте поляка; мне велено, да рука не подымается». Казак хотел показать себя молодцом. «Кого? – спросил он,– эту собаку заколоть? Сейчас». Отъехав шагов на 15, он приложился на поляка дротиком и поскакал на
* Меня одолела твоя ловкость (фр).
[145]
него. Поляк не двигался; казак же, подскакав к своей жертве, поднял пику и, сознавшись, что ему не убить осужденного на смерть, поскакал далее. Затем драгун, разругав пленного, погнал его в Тарутино. <…>
Битва под Малоярославцем107 продолжалась во всю ночь. Город четырнадцать раз переходил из наших рук в руки неприятеля. Потеря была с обеих сторон очень велика; но французы, видя, что вся наша армия была в готовности вступить в бой, бросились вправо, ближе к Можайской дороге на Медынь, где авангард их был разбит с потерею 30-ти орудий. Цель Кутузова состояла в том, чтобы заставить неприятеля отступить по большой Смоленской дороге, где все было выжжено, разорено и где не было никаких средств к продовольствию. Авангард под начальством Милорадовича должен был идти проселком, в значительном расстоянии от большой дороги, и, равняясь с неприятелями, не вступать в общее сражение, а стараться отрезывать неприятельские корпуса, замыкающие их шествие. Главная армия наша должна была идти также проселком в большом расстоянии от Смоленской дороги и в случае нужды поддерживать авангард. Вследствие таких распоряжений неприятель неминуемо должен был прийти в окончательное расстройство и бессилие от недостатка в продовольствии и в квартирах, тогда как наши войска, следуя стороною помимо большой дороги, не подвергались сим недостаткам.
Для умножения бедствия французов главнокомандующий приказал Платову следовать за ними со всеми казаками по большой дороге и не давать им отдыха на ночлегах. Отряды казаков часто заезжали вперед неприятеля, уничтожая переправы и мостики, дабы затруднить его шествие. Множество казаков, рассыпавшихся по всем селениям, в стороне лежащим, вместе с вооруженными крестьянами истребляли усталых французов и тех, которые удалялись от большой дороги для отыскания жизненных припасов. Таким образом проводили французскую армию до города Красного108. В сем отступлении неприятель потерял несметное множество народа.
Не помню, которого числа октября месяца французы выступили из Москвы109. Они оставили в древней столице нашей памятники своего варварства. Кремль во многих местах был взорван генерал-инженером Шаслу (Chasseloup) по приказанию Наполеона. Император
[146]
французов хотел также подорвать колокольню Ивана Великого110; но взрыв не удался, а разрушил подле стоявшую церковь, башня же Ивана Великого дала только в нескольких местах трещины. Церкви в Москве были осквернены обращением их в конюшни, магазины и госпитали, и среди их валялись конские и человеческие трупы. Большая часть домов были сожжены или разграблены. Говорили, что из 30 тысяч домов, находившихся в Москве до пожара, осталось после оного только 900. Все Замоскворечье и Арбат сгорели дотла. Когда я посетил Москву в 1813 г., то часто случалось мне ехать среди города через пустыри, заваленные кирпичом и камнями, из груд коих торчали одни трубы. По выступлении неприятеля из Москвы полиция наша немедленно заняла город и стала приводить его в порядок, зарывая мертвые тела, оставшиеся на улицах и в домах, и водворяя возвращавшихся обывателей в свои дома. Через два или три месяца после французов народу в городе было уже много, а на другой год строились уже дома и весь гостиный двор заново. <…>
Армия наша заняла уже г. Красный, когда последние французские корпуса стали выступать из Смоленска. Корпус маршала Нея111 всех более пострадал, наткнувшись на всю нашу армию на большой дороге. Невзирая на сие, он храбро наступал, потому что ему для спасения оставалось только пробиваться сквозь наши силы. Французы отчаянно лезли на наши батареи, но были разбиты, рассыпаны и преследуемы нашей конницей, которую они, однако же, еще несколько удерживали. Сам Ней спасся, бросившись в сторону, и с ним ушло тысяч до двух людей из всего его корпуса. Другие неприятельские корпуса имели такую же участь, но меньше потеряли, впрочем, оставили в наших руках все свои обозы и артиллерию. Казна Наполеона была также отбита, и из нее многие поживились. Говорили, что в иных полках делили золото фуражками, и солдаты продавали горсти серебра и золота за красные ассигнации. Красненские дела продолжались три дня. Отряды наши, находившиеся ближе к Смоленску, извещали главнокомандующего о прибытии неприятеля, и тогда войска наши становились под ружье, орудия заряжались картечью и бой начинался с уверенностью в победе. Из Смоленска тянулось также несчетное множество отсталых, раненых и больных французов, на которых не обращали внимания, а только раздевали их догола, и они умирали от
[147]
холода или голода перед нашими линиями. Под Бородиным лежало множество трупов, но на небольшом протяжении под Красным их было не менее; однако они занимали большое пространство.
Из сел. Уварова, где мы находились, Черкасов приказал мне ехать в г. Красный с бумагой и с каким-то изустным поручением к принцу Евгению Вюртембергскому112. Лошадь моя была так изнурена, что с места не двигалась; к тому же была без подков. Отговариваться не следовало, и я отправился пешком в темную и холодную ночь через бывшее поле сражения. Везде горели огни, при иных стояли наши войска, у других ночевали вооруженные французы, отставшие от своих полков. Я долго блуждал, однако пришел в г. Красный пешком, переправляясь через неглубокую речку вброд и проваливаясь сквозь слабый лед оной. Отыскав квартиру принца Евгения, которого застал за ужином, я передал ему поручение свое. Он приглашал меня отужинать, но я не остался, потому что должен был спешить обратно с ответом. Назад шел я по тому же полю сражения, без дороги, натыкаясь и падая в темноте на трупы. Однако я добрался до селения Уварово и доложил генералу об исполнении поручения.
В ту же ночь я отпросился навестить брата Александра, который был болен и которого я давно не видал. Лошадь моя отдохнула, и я отправился верхом, взяв с собою слугу брата Михайлы, Петра, оставшегося с нами, когда мы из Москвы отправили раненого Михайлу. Проехав верст пять между убитыми, я прибыл в большое селение, где стоял г<енерал>-м<айор> Юрковский113. Все было тихо, потому что все спали. Долго и безуспешно отыскивал я брата; во всех избах, куда я входил, храпели; просыпавшиеся же встречали меня бранью, повторяя: «Запри дверь, – холодно». Не допытавшись ни от кого о брате, я подошел к огню, горевшему среди улицы, собираясь тут дожидаться рассвета. Около огня лежало несколько мертвых французов; один только стоял и грелся; он был высокого роста, в кирасирской каске и почти совсем нагой; на лице его выражались страдание и болезнь. Он просил у меня хлеба, и я променял ему кусок хлеба, который был со мною в запасе, на каску, дав ему в придачу свой карманный платок, которым он повязал себе голову. Мне хотелось сохранить эту каску для украшения оною по окончании войны стены своего будущего, еще неведомого жилища.
[148]
Француз с жадностью бросился на хлеб и вмиг пожрал его. Тут на беду его вышел из соседственной избы Мариупольского гусарского полка майор Лисаневич, который не мог уснуть в избе и от бессонницы пришел погреться у огня. Кирасир, приметивший его, как видно было, еще днем, просил у него позволения войти в избу. Лисаневич приказал ему молчать и, как тот не переставал просить, то Лисаневич, крикнув вестового, приказал ему отделаться от француза. Вестовой толкнул его; обессиленный кирасир повалился и, ударившись затылком о камень, захрапел и более не вставал. Лисаневич указал мне избу, в которой брат находился; я пошел туда и, отворив дверь, нашел ее полною спящим народом. Смрад был нестерпимый. Влево у дверей под скамьей умирал в судорогах от горячки русский драгун. Хозяйка в доме еще оставалась; она держала на руках грудного ребенка, которого крики, смешанные со стоном и храпением страждущих и спящих, наводили уныние. Лучина томно догорала, иногда вспыхивая и освещая грустную картину сию.
Войдя в избу, я громким голосом спросил: «Муравьев, ты здесь?» Из угла отозвался мне братнин голос: «Что тебе надобно?» – «Я брат твой Николай, приехал тебя навестить, услышав, что ты болен».– «Спасибо, брат,– отвечал Александр,– а я в дурном положении».
Пробираясь к нему, я наступил на ногу одному французу, который закричал: «Ah Jésus, Marie!»* Я отскочил и наступил на другого, который также закричал. «Что за горе! – закричал я брату,– к тебе подойти нельзя».– «Нельзя, Николай, тесно; первый, на которого ты наступил,– французский капитан, которому вчера пятку оторвало ядром, и ты, верно, ему на больное место наступил; второй – тоже раненый француз, и как они добрые ребята, то я их пригласил ночевать в эту избу. Мне самому нельзя вытянуть ног за теснотою; все раненые и больные, а подле меня лежат писаря Юрковского, которые ужасно воняют. К тому же крик ребенка, который мне спать не дает».
Драгун вскоре умер, и его вытащили на улицу; другие потеснились. Я лег, закурил трубку и стал с братом разговаривать.
Свыклись мы в 1812 году с подобными зрелищами. Александр сказал мне, что он участвовал во всех крас-
* «Ах Иисус, Мария!» (фр.)
[149]
нинских делах с отрядом г<енерала> Юрковского, но что он перемогал себя, потому что был очень болен, а теперь так слаб, что принужден проситься в отпуск в Москву для излечения болезни. Ноги его, как и у меня, были в ужасном положении и покрыты цинготными язвами. Во все сие время он был без слуги, потому что человек его оставался со мною. Я дал брату свою кирасирскую каску, чтобы он ее домой довез, но он ее дорогой потерял. На рассвете я простился с братом, и надолго. Мне нечем было ему помочь, ибо мы оба были без денег. Он мне дал кусок сукна, из которого я с помощью казака сшил себе шаровары и башлык. Я оставил у брата приехавшего со мною мальчика Петра. Пожелав друг другу счастья, мы расстались. <…>
Французы уходили так быстро, что Милорадович с авангардом более не нагнал их и даже не поспел на Березину к Борисову, где адмирал Чичагов должен был встретить неприятеля. Намерение главнокомандующего было припереть неприятеля к реке Березине до ее замерзания. Чичагов, выступивший из Молдавии по заключении мира с турками, имел до 40 000 войск. Соединившись с Тормасовым около Волковиска, он принудил генерала Ренье114, начальствующего австрийцами и саксонцами, отступить, после чего Чичагов подвинулся форсированными маршами к Березине и занял Борисов, дабы преградить французам переправу; но авангард его, переправившийся через Березину, был внезапно атакован бегущим неприятелем и принужден обратно перейти за реку. Пока отряд французский отвлекал Чичагова, вся неприятельская армия, построив мост в другом месте, переправилась, встретив сопротивление только от небольшой части наших войск, которую Чичагов не успел подкрепить.
Между тем Витгенштейн, оставшийся перед Полоцком с 1-м корпусом, усиленный Петербургскими дружинами, занял город и; преследуя неприятеля, разбил его и придвинулся к Борисову115. Он должен был соединиться с Чичаговым и совокупно с ним действовать против главной французской армии; но не сделал сего, как слух носился, потому что не хотел подчиниться Чичагову *.
Общенародно обвиняют адмирала в пропуске Наполеона116; но многие полагают, что Витгенштейн был то-
* Слух неосновательный и поступок несовместный с благородным характером Витгенштейна. 1866. (Прим. автора.)
[150]
му причиной. Однако он взял в плен целую французскую дивизию, которая сдалась в числе 8000 человек. Французы сами сознаются, что при переправе их через Березину потеря их была несметная117: они лишились в этом месте почти всей своей артиллерии и обозов; последняя конница, которая у них оставалась, совершенно спешилась; множество людей потонуло в реке, померзло или попалось в плен. Некоторые корпуса их совершенно исчезли, так как французская армия не была более в состоянии выставить какого-либо отряда в порядке для удержания нас в преследовании. Мы подвигались до самой Вильны, так сказать, среди французской армии, коей изнеможенные солдаты, окружая нас, просили хлеба. Наполеон уехал118 в сопровождении нескольких генералов, оставя войско свое на произвол судьбы. В сражении под Борисовом захвачен был у нас в плен квартирмейстерской части подпоручик Рененкампф, которого, однако, вскоре отбили казаки. Отбили также захваченного в Москве генерала Винценгероде. <…>
Полагая, что брат Александр уже уехал из армии, я крайне удивился, когда он ночью разбудил меня. Брат, перемогаясь от болезни, проехал ночью десять верст, чтобы еще раз увидеть меня до отъезда; ибо в Копыси, где он получил вид на выезд из армии, он меня более не застал. Ему удалось занять, кажется, у дяди Саблукова119, 100 или 200 р. ассигнациями. Зная, что я нуждался в деньгах, он приехал, чтобы ими со мною поделиться, и дал мне половину своих денег. Я же ничем не мог помочь больному брату и, поблагодарив его, простился во второй раз, не зная, надолго ли. Он в ту же ночь поехал обратно в Копысь, откуда отправился через Калугу в Москву. <…>
Авангард наш должен был переправиться через Березину, чтобы идти к Вильне; но старый мост был сожжен120, надлежало новый построить за ночь, чтобы к рассвету войска могли перейти через реку. Черкасов поручил это дело мне, для чего и была назначена пионерная рота Геча; но как несчастная рота сия потеряла много людей от трудов и нужды, ею переносимых, то она не была в состоянии выставить более 50-ти изнуренных работников. Черкасов послал меня к принцу Евгению Вюртембергскому, дабы потребовать от него людей. Все это происходило ночью. Принца разбудили, велено было дать мне из какого-то пехотного полка одну роту с офицером. Я пошел снегом прямо к бивуаку полка и,
[151]
так как в назначенной к работе роте состояло только 15 оборванных и истощенных рядовых, то я пошел по городу и собрал жидов, которые вскоре все разбежались. Наконец, около полуночи в темную ночь народ мой собрался на берегу реки. Надобно было изобресть, каким образом построить мост; ибо старого, стоявшего на сваях, оставались одни концы, и, если бы приняться за поправку его, работу эту не кончили бы в три дня. Река была широкая и имела несколько островов; по ней шел накануне лед, который только что остановился, но все был еще в состоянии поднять человека. Трудно было придумать прочную переправу, и мы с Гечем решились переложить по льду с острова на остров бревна, связать их веревками и по бревнам сделать настилку, устроив как бы плавучий мост на льду. Такой мост тем был опасен, что многие бревна не были связаны за недостатком веревок, и, если б река тронулась, то его снесло бы неминуемо, и всю вину на меня бы сложили. Но нам иначе делать было нечего и, решившись на сие предприятие, мы немедленно принялись за дело. Пехотинцев я послал набирать дрова, чтобы развести огни на берегах и островах, а пионеры стали таскать бревна для построения моста. Мы разбирали на лес и на дрова стоявшую на правом берегу реки большую корчму, наполненную французами. Число их беспрестанно увеличивалось новыми жертвами, ибо вновь приходившие садились на мертвых товарищей своих и в бессознательном положении ставили пораженные ноги свои прямо в огонь, среди кружков их горевший. Сими пришельцами умножилось и количество трупов, устилавших земляной пол корчмы. В диком взгляде этих несчастных, иногда на нас обращавшемся, не выражалось ни просьбы, ни отчаяния, и они умирали, не показывая даже страдания: столь притуплены уже были мысли и чувства сих движущихся, полузамерзших и почти нагих привидений. О помощи им нельзя было и помышлять, когда мы сами едва были в силах себя выручать. Конечно, лучшая участь пала на тех из французов, которых признавали пленными; но кому было заботиться о призрении того множества бродящих мертвецов, среди коих двигалось вперед наше ослабленное от трудов и холода победоносное войско? Желая ободрить уставших пионеров, я сам принялся за работу и таскал с ними бревна; между тем лед все становился крепче, и мы начали, хотя с опасностью, переходить по льду, причем мне доводилось быть по коле-
[152]
но в воде, невзирая на свои больные ноги и покрывавшие их язвы. Геч с офицерами своими продрогли от холода, и они, оставаясь на берегу, грелись у огня. Я усердно трудился, как вдруг услышал голос Черкасова, который меня с берега звал. Я пришел на голос его с бревном на плечах. Он заметил мне, что, пускаясь в работу с нижними чинами, я ронял достоинство своего офицерского звания, на что получил в ответ, что я в том никакого стыда не вижу и что, напротив того, пример мой нужен для ободрения людей. «Вы не исполняете своей обязанности,– сказал Черкасов.– Вам следует только распорядиться, а от того, что вы сами работаете, вышло то, что еще ничего не сделано; вы уже 3 или 4 часа здесь, а моста и начала еще не видно».– «Вы можете видеть,– отвечал я,– что лес уже заготовлен и постройка моста сейчас начнется».– «У вас огни еще не разведены».– «Я послал людей за дровами, им ходить далеко. Огни скоро покажутся».– «Как, вы хотите еще оправдываться, не сделав ничего? Посмотрите, как у меня дело пойдет. Эй вы,– закричал он на людей с присоединением народного бранного выражения.– Ступайте за дровами, разводите огни!» Казалось, что Черкасов был пьян. Случилось, что в то самое время посланные мною люди принесли дрова и начали раскладывать огни. «Видите,– продолжал Черкасов,– как только я пришел, так дело в ход пошло».– «Если б меня здесь не было,– отвечал я,– то вы прождали бы еще несколько часов, пока заготовили бы материал и развели бы огни; неужели вы в самом деле думаете, Павел Петрович, что вашим присутствием осветилась река?» – «Как, вы еще забываетесь предо мною? Вот увидите: войска должны до рассвета переправляться, и если мост к тому времени не поспеет, то вы будете отвечать». Затем Черкасов уехал, оставив меня с Гечем. Разведенные огни показали нам ужасную картину: по льду и по островам валялись трупы лошадей и людей, которые, вероятно, были принесены еще днем течением и вмерзли в лед.
Часа за два до рассвета мост был готов, и я поставил для караула пехотную роту с офицером с приказанием, чтоб без моего позволения не пропускать ни одной повозки через реку; сам же собрался идти к Черкасову с известием о готовности моста. Но едва отошел я от берега, как встретил графа Ожаровского121 с партизанским отрядом, при коем находился и наш Дмитрий Дмитриевич Курута, исчезавший во все время, как вели-
[153]
кий князь отсутствовал из армии. Я обрадовался, увидя своего старого начальника, и возвратился к мосту, чтобы переправить отряд графа Ожаровского. Тут Черкасов опять явился. Ожаровский приказал сперва переходить обозам. Несколько повозок переехало в порядке, но как это долго продолжалось, то фурлейты и кучера стали напирать и совершенно сбили караул, мною поставленный. Опасаясь, чтобы мост не провалился от множества повозок на нем теснившихся, и видя, что никто о том не заботился, я сам начал останавливать их на берегу, но всякий старался скорее прорваться, и в общем натиске увлекли меня на самый мост, где я принужден был сторониться, чтобы не быть задавленным. Ночь была темная, беспорядок полный, лед трещал, все кричали, и я попался в самый омут, где прорывались повозки и ящики, между коими теснились всадники. Мост легко мог провалиться. Однако отряд Ожаровского прошел благополучно, и я возвратился на квартиру, где лег отдохнуть, но не долго отдыхал, потому что с рассветом авангард Милорадовича начал переправляться. Мы выступили из Борисова и прошли в тот день 30 верст.
После нескольких переходов мы пришли в местечко Радушкевичи. Мороз был градусов в 30. В Радушкевичи приехал главнокомандующий. Так как уже не с кем было воевать122, то он сдал командование армиею Тормасову, сам же собирался ехать в Вильну в сопровождении Толя и под прикрытием небольшого отряда.
Я изнемогал. Не будучи более в силах бороться с болезнию при служебных трудах, но видя, что военные действия уже кончились, я подал Черкасову рапорт, в коем объяснял, что не в состоянии более продолжать службу, а потому просился в главную квартиру. Черкасову это было неприятно, но делать ему было нечего, как донести о том Толю, причем он на меня нажаловался *. Не менее того, меня перевели по желанию; Черкасов же, призвав к себе товарища моего, Перовского123, старался сблизиться с ним, обещая представить его к награде; обо мне же отозвался ему с дурной стороны. Подобными средствами Черкасов искал примирения со своими офицерами, которые его не любили. Но Перовский отвечал полковнику, что он напрасно меня обвиняет и что если
* Отзыв обо мне Черкасова не имел однако же влияния на расположение ко мне Толя, который до последних годов своей жизни отличал меня на службе и постоянно показывал мне особое доверие. 1866. (Прим. автора.)
[154]
он, Перовский, заслужил награждение, то и я то же самое заслужил. Черкасов удивился такому отзыву, но еще более изумился, когда Перовский стал также проситься за болезнию в главную квартиру. Черкасов не мог уговорить его остаться и принужден был его уволить. Вскоре за тем заболели и другие офицеры, так что Черкасов остался совершенно один в авангарде; к нему прикомандировали подпоручика Бергенштраля, которого он также не удержал.
Однако Перовский получил два награждения за авангардную службу, я же – ничего. Все товарищи мои получили тоже награды. Гораздо позже слышал я, что и меня представляли к Владимирскому кресту 4-й степени, но что я лишился сей награды оттого, что в общем представлении брата Александра и меня назвали не по номерам, а Муравьевыми старшим и младшим, потому что нас тогда только двое в армии оставалось (о Михайле же, давно раненном, не было и слуха, жив ли он, или умер). Когда представление пошло далее, то выставили к именам нашим номера, старший был Александр, номер его 1-й, младший был Михайла, номер его 5-й, и таким образом Михаила получил мой Владимирский крест, который ему сочли после за Бородинское сражение; я же оставался без награды за всю авангардную службу. Так ли оно точно случилось, того утвердительно сказать не могу, но я не завидовал брату, а радовался, что он остался жив и утешался своим крестом, который заслужил кровью. Без сего случая участь его была бы та же, как и многих раненых, находившихся в отсутствии, или о существовании коих не имели сведений: его бы забыли. <…>
Простояв десять дней в Ольшанах, главная квартира получила приказание идти на Вильну. Я с Перовским отправился днем ранее; после нескольких дней путешествия разоренными местами и между мертвыми и умирающими, мы приехали через местечко Ошмяны в Вильну.
Прежде чем приступить к рассказу о моем кратковременном пребывании в Вильне, упомяну опять о бедственном положении, в котором находилось французское войско. Начиная от Вязьмы, преимущественно же от Смоленска до Вильны, дорога была усеяна неприятельскими трупами. Из любопытства счел я однажды, сколько их на одной версте лежало, и нашел от одного столба до другого 101 труп, но верста сия в сравнении с дру-
[155]
гими еще не изобиловала телами: на иных верстах валялось их, может быть, и до трехсот. Кроме того, места, где французы ночевали, обозначались грудами замерзших людей и лошадей. <…>
Число трупов, устилавших дорогу, увеличивалось множеством французских офицеров и солдат, более похожих на тени, чем на живых людей, которые брели в сильнейшие морозы, голые и босые, среди отошедших товарищей своих, и к ним по пути валились. На редком из них были мундиры, большею же частью накрывались они чем попало. У многих были на головах ранцы вместо шапок, у иных оставались на головах кирасирские каски с длинными конскими хвостами; сами же кирасиры были голые и накрывались рогожей или обвивались соломой. Я видел одного из таких, который, опираясь на палку, вел под руку женщину; несчастная чета едва на ногах держалась и просила хлеба у прохожих. «Клиеба, клиеба!» Иные скрывались в соломе по селениям, лежащим в стороне от большой дороги. Однажды случилось мне ночевать в уцелевшей деревне; слуга мой пошел на крестьянское гумно, дабы достать корма для лошадей, и, когда он стал набирать солому, то из оной выскочили два голые француза, которые так быстро убежали в лес, что их не могли остановить. <…> Многие французы почти требовали, чтобы мы их в плен брали, и говорили, что мы обязаны были призреть обезоруженных людей, но они не имели права ссылаться на существующие между воюющими обычаи, когда сами столь явно нарушали их жестокостями, разорением и грабежом, которые они в нашем отечестве производили. Наполеон расстрелял многих наших солдат пленных, когда не имел чем кормить их; отставшим же от его армии солдатам насилия мы не делали, они сами погибали оттого, что нечем было их содержать. <…>
Вскоре государь и великий князь Константин Павлович приехали в Вильну. Кутузов был пожалован званием светлейшего князя Смоленского и орденом св. Георгия первой степени; чином фельдмаршала был он награжден еще за Бородинское сражение. Государь, невзирая на заслуги, оказанные войсками, ознаменовал прибытие свое в Вильну арестованием нескольких офицеров гвардейских за несоблюдение формы в одежде. Константин Павлович, по добродушию своему, много заботился об облегчении участи французов, погибавших ежедневно сотнями на улицах Вильны. Наш генерал
[156]
граф Сен-При124 был назначен для призрения пленных, которые называли его своим благодетелем. <…>
1812 года 31 декабря ввечеру приехал я в Петербург прямо к дяде Николаю Михайловичу Мордвинову, у которого воспитывалась с дочерьми его сестра моя Софья. Я вошел в комнаты в дорожной своей одежде, бурке и башлыке. Меня не узнали и, как тогда были святки, то приняли сначала за кого-нибудь из переодевшихся дворовых людей. Меня долго осматривали и узнали только тогда, когда я скинул башлык. Все бросились меня обнимать, и я был истинно счастлив видеть себя снова в кругу близких и любящих меня родных, после целого почти года, проведенного вдали от своих, в трудах, нуждах всякого рода и без известий о своих домашних и близких людях. Дело, разумеется, началось с чая; посадили меня, и все расположились около меня, стали расспрашивать. Одна только тетка Катерина Сергеевна уговаривала меня отдохнуть, предоставляя себе удовольствие беседы до другого дня. Но прежде всего хотелось мне расспросить об адмирале Мордвинове и дочери его Наталье Николаевне, и я узнал, что во время вступления неприятеля в Москву он уехал с семейством в новое свое Пензенское имение. О батюшке имелись неполные сведения, ибо он редко писал. Я узнал, однако же, что он вступил в службу по кавалерии полковником и формировал ополчение в Нижнем Новгороде. Полагали, что брат Александр тоже в Нижнем Новгороде. Там же находился и брат Михайла, который выздоравливал от полученной им под Бородином раны. <…>
Когда я несколько поправился в здоровье, то в намерении отыскать братьев отпросился в отпуск в Москву. С чувством благоговения и горести увидел я развалины нашей старой Москвы. Я проезжал пустырями в тех местах, где прежде возвышались здания, и на сих пустырях торчали трубы сгоревших строений. К тому времени собралось уже много обывателей, но они жили тесно, помещаясь в лачугах, кое-как ими построенных на зиму. Замоскворечья более не существовало; Кремль был как бы выворочен наизнанку: древние стены его во многих местах обрушены, церкви разорены. Мы, русские, могли гордиться развалинами нашей древней столицы, принесенной в жертву для спасения отечества. <…>
ФЕДОР ИВАНОВИЧ КОРБЕЛЕЦКИЙ
(1775 или 1776–21.Х.1837)
Лермонтов
Федор Иванович Корбелецкий никогда не был писателем и с литературными кругами своего времени, по-видимому, общения не имел. Во всяком случае, свидетельств об этом не сохранилось. Хотя в ранней молодости, вдохновленный воцарением Павла и победами Суворова, написал и даже напечатал две торжественные оды: «На прибытие из Москвы в Санкт-Петербург императора Павла I» (СПб., 1797) и «На победы в Италии» (СПб., 1799). Потом, через несколько лет, перевел с немецкого языка книгу И. П. Фридериха «Опыты пчеловодства…» (М. 1807). Вероятно, на том и кончилась бы литературная деятельность Корбелецкого, ибо был он скромным чиновником Министерства финансов и, судя по всему, о писательской славе не помышлял.
До Отечественной войны жизнь его складывалась спокойно и весьма обыкновенно. В 1794 г. он закончил духовную семинарию, через два года – учительскую. Потом служил учителем, помощником землемера, через некоторое время перешел почему-то в ведомство Министерства финансов, где до 1805 г. был помощником столоначальника.
Исторические события, всколыхнувшие всю Россию, неожиданно вовлекли Федора Ивановича в свой круговорот и поставили его в такие обстоятельства, которые не снились ни одному бедному чиновнику даже в самых фантастических сновидениях. Волею судеб Корбелецкий оказался на краю гибели и, чудом уцелев, простодушно и честно рассказал о том, что с ним было и чему он был свидетелем. Его «Записки о пребывании французов в Москве…» стали его единственным литературным творением и сберегли память об этом скромном человеке.
[158]
Эти строки, написанные им под свежим впечатлением от пережитого, Корбелецкий сделал эпиграфом к своим запискам.
19 августа 1812 г., за несколько дней до Бородинского сражения, Министерство финансов послало чиновника Корбелецкого из Петербурга в Москву и Калугу для устранения замешательств в управлении финансами, которые легко могли произойти в это бурное и смутное время.
Утром 25 августа Федор Иванович прибыл в Москву и, выполнив в тот же день возложенные на него поручения, отправился на постоялый двор, чтобы нанять лошадей до Калуги. Лошадей, однако, не было, и Корбелецкий смог покинуть Москву лишь на следующую ночь.
28 августа он заночевал в селе Богородицком, в семи километрах от Вереи. Здесь он чувствовал себя в относительной безопасности, так как неподалеку от Богородицкого, в поле, остановился на ночлег большой отряд донских казаков. Каковы же были изумление и ужас Корбелецкого, когда наутро он увидел вошедших в село французов! Донские казаки, как после выяснилось, ушли ночью, и теперь французы свободно бесчинствовали в русском селении.
В поисках спасения Корбелецкий бежал в лес и, проведя там весь день и всю ночь, принял решение разыскать русские войска и присоединиться к ним. 30 августа он пустился в путь и к вечеру вышел на столбовую Верейскую дорогу. Путешествие по этой дороге продолжалось недолго. Первый же французский пикет остановил его. Федора Ивановича отвели в ближайшую деревню, отдали под стражу, а наутро отправили в главную квартиру Наполеона, где он «удержан <был> при наполеоновской свите под крепчайшим караулом»1.
С этого момента жизнь Корбелецкого словно раздваивается: он внимательно наблюдает за тем, что происходит в лагере противника, пытаясь добыть сведения, полезные для русской армии. И, конечно, он стремится
1 Корбелецкий Ф. И. Краткое повествование о вторжении французов в Москву и о пребывании их в оной, описанное с 31 августа по 27 сентября 1812 г.– СПб., 1813. Далее страницы приведены в тексте очерка в скобках.
[159]
физически уцелеть, что в его положении не так-то просто. Со своей стороны, французы, не осведомленные об его истинной скромной должности в Министерстве финансов, видят в нем секретаря министерства, значительное лицо, располагающее, по их представлениям, ценной информацией. Они рассчитывают узнать от него о количестве ополчения, о расположении, действиях и планах русских войск. Французы, пишет Корбелецкий, «…берегли меня, как, кажется, в той смеха достойной надежде, что они от меня, точно как от действительного секретаря Министерства, воспользуются нужными им, достаточными сведениями в отношении внутренней отечества нашего политики» (с. 17).
Из села Вяземы, где Наполеон со свитой остановился на ночлег 1 сентября, Федор Иванович пытался бежать, но был задержан.
Экстремальная ситуация, в которой оказался Корбелецкий, не подавила его воли, но словно укрепила и обострила в нем свойства характера и ума, доселе не находившие применения. В эти трудные дни в Корбелецком проявились исключительная находчивость, сметливость и редкая наблюдательность: он точно фиксирует не только факты и события, но и мелкие детали, так часто ускользающие даже от внимательного взгляда. Читатель, без сомнения, обратит внимание на описание поведения Наполеона в тот момент, когда полководец узнал, что Москва покинута жителями. Замечательна психологическая правдивость жестов, раскрывающая состояние души лицедея и честолюбца, обескураженного внезапной переменой судьбы и, может быть, впервые растерявшегося (см. с. 165).
В другом месте своих записок Корбелецкий дает более подробный портрет Наполеона, тоже не лишенный психологической тонкости. Это портрет человека, написанный крупным планом: ведь Корбелецкий не раз видел Наполеона вблизи и точно запомнил черты и выражение его лица, мимику, манеру говорить. «Наполеон, при среднем росте, имеет лицо большое, грозное; короткошей, плечист и корпусом ровен. Цвет лица оливковый, волосы на голове черные, лоб наклонный или навислой, глаза малые, но быстрые, щеки плоские, нос длинный и прямой, с малою, едва приметною горбиною, губы маленькие, прижатые; борода1, выдавшаяся вперед и до-
1Здесь: подбородок.
[160]
вольно кверху поднятая.– Он имеет вид важный, говорит тихо и мало, и всегда, как приметно было, погружен в размышления. С маршалами и генералами своими обращается равнодушно, и не токмо шляпы ни пред одним из них не снимает, но даже и никаким знаком почести раболепию их не ответствует. Во все мое трехнедельное при нем пребывание не заметил я, чтоб он смеялся или, по крайней мере, улыбнулся, и никогда не видел его с открытою головою.– Исключая случай при входе в Москву, Наполеона поразивший, он всегда сохранял постоянное хладнокровие и величавость» (с. 73).
Заметим, что все это отмечает и фиксирует в памяти человек, находящийся в душевном смятении, не уверенный в том, что он уцелеет. Сугубо штатский по положению и характеру, он оказался среди хаоса, разрушения, насилий на зыбкой, колеблющейся почве, готовой вот-вот уйти у него из-под ног.
Другой русский пленный, В. А. Перовский, нарисовал апокалипсическую картину, так же четко врезавшуюся ему в память. Вот уже день, как французы заняли Москву: «Погода была довольно хорошая; но странный ветер, усиленный, а может быть, и произведенный свирепствующим пожаром, едва позволял стоять на ногах. Внутри Кремля не было еще пожара, но с площадки, за реку, видно было одно только пламя и ужасные клубы дыма; изредка кой-где можно было различить кровли не загоревшихся еще строений и колокольни; а вправо, за Грановитой палатой, за Кремлевской стеной, подымалось до небес черное, густое, дымное облако, и слышен был треск от обрушающихся кровлей и стен»1.
О пожарах в Москве, о грабежах и мародерстве французов написано много. Корбелецкий, очевидец всего этого, говорит с иронией, что видел «все неистовства, какие токмо изобрести могут одни просвещенные французы…» (с. 34).
Наблюдательный Федор Иванович довольно скоро заметил, что французы попали в безвыходное положение: к концу сентября они оказались на грани голода. Когда кончились грабежи и пожары, Наполеон, чтобы сохранить внутренний порядок в Москве, учредил Городское правление под названием Коммуни-Комитет. Тогда
1 Из записок В. А. Перовского.– «Русский архив», 1865, № 3, с. 264.
[161]
же по его приказу начали издавать прокламации, обращенные к городским и сельским жителям. Их убеждали вернуться в Москву, обратиться к своим ремеслам, а главное – привозить в город для продажи продукты питания. Эти прокламации Корбелецкий спрятал в свои дырявые сапоги, чтобы при первой возможности передать их русскому командованию.
23 сентября Федора Ивановича освободили из-под стражи, и он получил пропуск, в коем значилось, что он был проводником при Наполеоне и его отпускают за неимением в нем надобности. Корбелецкий и русский лекарь, отпущенный вместе с ним, получили даже награду – сторублевую ассигнацию, которую они с отвращением публично сожгли в присутствии уцелевших московских жителей.
Из Москвы следовало немедленно бежать, но Федор Иванович решил «побыть в оной, дабы все положение неприятеля обстоятельнее узнать, а чрез то доставить правительству нашему подробнейшее о нем сведение» (с. 51).
27 сентября Корбелецкий ушел из Москвы и, преодолев множество трудностей, добрался 2 октября до С. К. Вязмитинова. «Здесь, наконец, донес я словесно и письменно обо всем виденном, слышанном и замеченном мною, как в бытность мою в плену неприятельском, так и в путешествии от Москвы до Санкт-Петербурга; за что его высокопревосходительство изъявил мне личную признательность…» (с. 71).
В своей книге, написанной под свежим впечатлением только что минувших событий (уже 17 марта 1813 г. цензор разрешил печатать записки), Корбелецкий рассказал о себе очень мало. Читатель узнает о нем лишь самое необходимое: кто он такой и при каких обстоятельствах попал в плен. Мы и сейчас не знаем биографии Корбелецкого. Известно только, что, вернувшись в Петербург, он был заключен в Шлиссельбургскую крепость по подозрению в измене отечеству. Именно там и написал он свою единственную книгу, которая вышла в свет, когда Федор Иванович был еще в крепости. В августе 1814 г. Корбелецкий был выпущен за отсутствием состава преступления. Он вернулся к прежней своей деятельности. В 1816 г. служил бухгалтером в Петербурге, тогда же был произведен в надворные советники. Потом переехал в Пермь, где определился в межевую контору. Там, в Перми, он прослужил три года, а в 1833 г. был уволен
[162]
«за противозаконные действия и беспорядки» и предан суду Пермской уголовной палаты. Что произошло с Корбелецким, так и осталось тайной, но доподлинно известно, что свои дни он окончил в Пермской тюрьме.
В своих записках Корбелецкий умолчал о себе не потому, что в этой книге рассказ о собственной жизни как-то не шел к делу. С того момента, как он оказался в плену, и даже раньше – с тех пор, как началась Отечественная война,– его биография тесно переплелась с народной судьбой. Его прошлое почти утратило смысл перед лицом страшных и могущественных событий, пробудивших в нем тот истинный патриотизм, при котором личное, индивидуальное растворяется в общем. А общая беда, ставшая бедой личной, заставила забыть о своих страданиях, страхе, голоде, жажде и устремить помыслы к благу отечества. Недаром Корбелецкий как бы между прочим, в петитом набранных подстрочных примечаниях сообщает о физических лишениях русских пленных, но посвящает так много страниц бедствиям древней столицы и оставшихся в ней людей.
О книге Корбелецкого А. Данилевский писал как об уникальном и единственном в своем роде источнике по истории Отечественной войны1.
Каждый выполнял свой долг в сожженной, опустошенной, оскверненной врагом Москве, и каждый свято и неуклонно верил в избавление. В роковой 1812 год Москва стала символом отечества. Это понимал каждый русский. Понимал это и Наполеон. Как известно, Москва стала началом его конца.
Адольф де Бальмен писал о разговорах с Наполеоном на острове Святой Елены: «Бонапарт говорит редко о походе в Россию. Один раз он сказал адмиралу Конбурну: „Мне следовало бы умереть в Москве, чтобы спасти свою славу. Тогда в несчастиях Франции обвинили бы моих генералов“»2.
1 Отечественные записки, 1820, № 5, 6, с. 246, 247.
2 Из бумаг графа де Бальмена.– Русский архив. 1868, № 1–6, с. 705.
[163]
По прибытии Наполеона в 2 часа пополудни к Поклонной горе1, отстоящей от Москвы в трех верстах, авангард, перед оною горою, по распоряжению короля Неаполитанского, был уже построен в боевой порядок. Наполеон с планом в руках, поданным ему тут же неизвестным чиновником, и некоторые из сопровождавших его генералов сходят с лошадей, и в ту же минуту начинается движение, показывающее приготовление к сражению. При самом начале сего движения внезапно показывается из-за леса, с правой стороны на Воробьевых горах, сильная конница, которую, увидев первоначально, шассеры (стрелки), составлявшие императорский конвой, закричали в один голос: «Казаки! казаки!..» – и весь генералитет с приметным беспокойством устремляет глаза свои в ту сторону. Наполеон тотчас приказывает подать себе зрительную трубу, которую всегда особый паж за ним возил, смотрит и, узнав, что то были его драгуны, успокаивается и, опять обратясь к авангарду, продолжает делать свои распоряжения; но, прождав тут с полчаса и не видя со стороны Москвы никакого вызова, приказывает сделать сигнал выстрелом из пушки, после чего, спустя минут пять, садятся все на лошадей и скачут во весь опор к Москве.
В то же мгновение вместе с ними двинулся как авангард, так и часть стоявшей позади оного центральной армии с невероятным стремлением; конница и артиллерия равномерно скакали во весь опор, а пехота бежала бегом. Топот лошадей, скрип колес, треск оружий, смешавшийся вместе с шумом бегущих солдат, составляли дикий и ужасный гул. Свет померк от поднявшейся густым столбом пыли. Казалось, что вся земля в сие мгновение восколебалась и застонала от такого страшного движения, и не более как через 12 минут все очутилось у Дорогомиловской заставы.
Здесь гордый повелитель французов, упоенный надеждой своего успеха, останавливается и при охриплых восклицаниях покрытых пылью и проголодавшихся солдат: «Vive Napoleon» *, сошед с лошади, занимает позицию на левой стороне заставы у самого Камер-коллежского вала и начинает расхаживать взад и вперед в спокойном расположении духа, точно так, как бы ожидал из
* Да здравствует Наполеон (фр.).
[164]
Москвы депутации или выноса городских ключей; между тем пехота и артиллерия, при игрании музыки, открыли шествие свое в город.
Но спустя десять минут подошел к Наполеону с левой стороны у городского вала какой-то молодой человек в синей шинели и в круглой шляпе и, говоря с ним с минуту, пошел в заставу. Думать надобно, что сей молодец уведомил Наполеона о том, что из Москвы, как Российская армия, так и жители все выехали и оставили оную в пустоте, что подтверждается следующим обстоятельством.
Едва кончил оный молодой человек свою с французским императором аудиенцию, подбегает к русским арестантам, стоявшим от Наполеона поодаль, саженях в шести, адъютант Вельсович, тот самый, который вчера со свойственною поляку надменностью предсказывал сегодняшние насчет Москвы и всей России события, и спрашивает у меня голосом, неудовольствия преисполненным: «Г. секретарь! Что это значит, что в Москве ни армии вашей, ни жителей нет?» На сие я ответствовал ему: «Не знаю». Слух сей распространился между французскими солдатами, и первые шассеры, ближе к императору своему стоявшие, поглядывая один на другого исполненными недоумения глазами, спрашивали друг друга весьма значительным тоном: что это такое, что за дьявольщина.– И с сей минуты гордый дух французов начал во всем войске постепенно упадать; а напротив того, оказалось в нем приметное уныние и огорчение, которое впоследствии, возрастая мало-помалу, обратилось в явный ропот, ослушание и своевольство.
Такая нечаянная весть, казалось, поразила и самого Наполеона, как громовым ударом. Он приведен был ею в чрезвычайное изумление, мгновенно произведшее в нем некоторый род исступления или забвения самого себя. Ровные и спокойные шаги его в ту же минуту переменяются в скорые и беспорядочные. Он оглядывается в разные стороны, оправляется, останавливается, трясется, цепенеет, щиплет себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает, выдергивает из кармана платок, мнет его в руках и как бы ошибкою кладет в другой карман; потом снова вынимает и снова кладет; далее, сдернув опять с руки перчатку, надевает оную торопливо и повторяет то же несколько раз, короче сказать: он представлял человека беснующегося или мучимого жестокими конвульсиями, что продолжалось битый час: и во все
[165]
то время окружавшие его генералы стояли пред ним неподвижно, как бездушные истуканы, и ни один из них не смел пошевелиться.
В продолжение такого явления открылось в армии новое движение. Авангард безостановочно шел в город, а подходящие из-за горы центральные войска, разделяясь в некотором расстоянии от заставы на две части, начали уклоняться вправо и влево и, поворотя около Камер-коллежского вала, потянулись в обход города, в который вступали уже другими заставами. Потом Наполеон, пришедши несколько в себя, садится на лошадь и въезжает в Москву, в которую последовала за ним и конница, стоявшая до того вне заставы; но, проехав Дорогомиловскую Ямскую слободу и приближаясь к берегу Москвы-реки, останавливается паки у оной в правой стороне улицы на береговом косогоре, сходит с лошади и опять расхаживает взад и вперед, но токмо уже покойнее. Тогда авангард продолжает следовать далее за Москву-реку; пехота и артиллерия тянулись по мосту, а конница шла через реку вброд и все вообще, разделяясь по ту сторону реки на несколько малых отрядов, занимали постепенно караулы по берегу, по главным улицам и по переулкам.
ПОЛОЖЕНИЕ КРЕМЛЯ
Перед выходом нашим на волю Кремль находился в следующем положении: Никольские, Троицкие и Тайницкие ворота были отперты и охраняемы каждые сначала четырьмя, потом двумя человеками, внутри и вне оных стоявшими, а прочие были заперты. Также стояли часовые инде по одному, а инде по два, на Кремлевской стене у башен, у дворцовых подъездов внизу и вверху дворца, у Архангельского, Благовещенского и Успенского соборов, кои были тогда заперты и, по-видимому, вовсе неприкосновенны. Караул держали пешая и конная французская гвардия и польские уланы, коих сперва наряжалось по батальону, а конных каждого по эскадрону, и переменялись через три часа, как днем, так и ночью; но после убавлено тех и других наполовину, из армейских же полков не токмо солдаты, но даже и офицеры ни под каким видом не могли входить в Кремль инако, как с письменными пропусками от обер-коменданта2 либо от главнокомандующего тогда в Москве.
[166]
Несчастен государь, который боится собственных своих подданных.
Всякое утро был в Кремле развод, и приезжали в дворец: принц Невшательский, вице-король Итальянский и многие неизвестные маршалы и генералы. Нередко приходили и иностранцы, жившие до нашествия французов в Москве, и члены муниципального суда или Коммуни-Комитета. На косогоре близ церкви Николы Гостунского стояло до 10 полевых орудий. Впрочем, подкопов и никаких других работ внутри Кремля тогда не примечено. В Кремле, так же как и везде в Москве, валялось в то время довольное уже число издохших лошадей и несколько палых коров.
ВЪЕЗД БОНАПАРТА В МОСКВУ
И НАЧАЛЬНОЕ В НЕЙ ПРЕБЫВАНИЕ
Наполеон, тщетно ожидавший за городом депутатов с ключами московскими, решился, наконец, ехать сам их взять. Он въехал в город во вторник, 3 числа, в половине одиннадцатого часа утра в Дорогомиловскую заставу. Арбат был совершенно пуст. Первые и единственные лица, которые видел на большой сей улице Наполеон, были у окна арбатской аптеки содержатель оной со своею семьею и раненый французский генерал, накануне к ним поставленный постоем. Подъехав ближе, Наполеон посмотрел на них вверх весьма злобно, окинув быстро глазами весь дом, и, взглянув опять на бывших у окна, продолжал путь. Он сидел на маленькой арабской лошади, в сером сюртуке, в простой треугольной шляпе, без всякого знака отличия. В расстоянии ста сажен ехали перед ним два эскадрона конной гвардии. Свита маршала и других чиновников, окружавших Наполеона, была весьма многочисленна. Пестрота мундиров, богатство оных, орденские ленты различных цветов – все сие делало картину прекрасною, а простоту Наполеонова убранства еще разительнейшею. Таким образом победитель Москвы доехал до Боровицких ворот, не увидя ни единого почти жителя. Негодование написано было на всех чертах Наполеонова лица. Он не брал даже на себя труда скрывать то, что происходило в душе его; однако же, сходя с лошади и посмотря на Кремлевские стены, он сказал с насмешкою: «Voilа de fieres murailles!» (Какие страшные стены!) Удивительно, что он прене-
[167]
брег обыкновенною своею комедиею и что не приказал поднести себе московских ключей, кем бы то ни было, для провозглашения потом пышной церемонии сей в «Мониторе»; но он так же торжественно и великолепно встречен был, как и Мюрат и Себастиани3.
Ожесточенный до крайности, видя ненависть и пренебрежение, оказываемые ему правительством и народом российским, решившимся лучше уступить древнюю свою столицу его ненасытному честолюбию и алчности его орд, нежели преклонить перед ним выю4, Наполеон повелевает, чтобы во всех полках, по очереди к грабежу назначенных, употреблять отборных солдат, вместе с офицерами, для доставления в Кремль съестных припасов всякого рода, и чтобы русских обоего пола, не разбирая ни состояния, ни лет, употреблять для сего вместо лошадей. В церквах, более изобилующих богатством, приставить велено было для караула жандармов, которые долженствовали впускать одних только членов святотатственной комиссии, установленной по повелению его, под ведением генерал-интенданта и других членов.
Наполеон, окруженный своими сообщниками в Кремле, взирает равнодушно на огонь, истребляющий мгновенно многие части города. Везде французы кричат: «Это Ростопчин жжет Москву, а не мы»5. Везде изрыгались на него тьмы ругательств.
Почтенный Иван Акинфиевич Тутолмин6, начальством оставленный в Москве и беспримерной своею ревностью, деятельностью и неустрашимостью спасший многим жизнь и сохранивший обширное здание Воспитательного дома со всем его богоугодным заведением, призван был к Наполеону, который не только имел бесстыдство уверять его, что Москва жжется по приказанию графа Ростопчина, а отнюдь не французами, но и препоручил ему донести о том своему начальству, желая таким образом честного человека мгновенно преобразить в клеветника. Он притворно прибавил потом: «Я желал бы все здания здешней столицы видеть в такой же сохранности, как ваш Воспитательный дом».
Казалось, что со въездом Наполеона в Москву самый огонь паче ожесточился и, соединясь с сильным ветром (неразлучным своим спутником), истреблял вдруг то, что веками сооружаемо было. Пламя и ужасный ветер усугубляли свои силы (особенно 4 числа, в среду) для поглощения всего того, что только могло служить пищею или добычей неистовым врагам.
ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ КОМАРОВСКИЙ
(18.XI.1769 – 18.X.1843)
Если попытаться определить одним словом основную черту Е. Ф. Комаровского, то более всего подойдет к нему слово «царедворец». По традиции и в силу привычки, оно притягивает к себе эпитет «лукавый», но этот трезвый, расчетливый и прагматический человек лукавством как раз не отличался. Не обладая обширным умом, Евграф Федотович был наделен тонким чутьем и вел сложную придворную игру, не лукавя и не подличая, но всегда соблюдая свои интересы. Комаровский словно родился в рубашке, и фортуна с редким постоянством осыпала его дарами, хотя, быть может, и не слишком щедрыми.
Даже ранняя смерть родителей не оставила обычного горестного отпечатка на его судьбе. Комаровскому было 10 месяцев, когда умерла его мать, Юлиана Ивановна (урожденная Зиновьева); в семь лет он лишился отца, Федота Афанасьевича, служившего прежде в дворцовой канцелярии, но к моменту рождения сына вышедшего в отставку.
Муж одной из старших сестер Комаровского вызвался опекать мальчика и делал это отечески ласково и твердо. Он определил Комаровского в один из лучших петербургских пансионов и записал его, по тогдашнему обычаю, сержантом в Преображенский полк, а потом перевел в Измайловский.
Евграф Федотович был человеком способным, общительным и живым, но при этом всегда и во всем соблюдал умеренность, необходимую для спокойного и беспрепятственного устройства карьеры. Из пансиона вынес он обязательный по тем временам запас знаний и нужные знакомства с людьми, вставшими через несколько лет у государственного кормила. Одним из них был однокашник Комаровского по пансиону В. П. Кочубей,
[169]
будущий член Негласного комитета при Александре I, то есть одно из первых лиц в государстве.
В 1787 г., по выходе из пансиона, Евграф Федотович был определен стараниями родных к всесильному тогда графу А. А. Безбородко для курьерских поручений. Безбородко в эту пору фактически руководил российской внешней политикой.
Евграфа Федотовича употребляют «для посылок в чужие края», и он подолгу живет за границей, лишь изредка появляясь в Петербурге. Едва приступив к службе, он едет в Париж, чтобы вручить роскошные подарки российской императрицы министрам французского двора. Как все молодые люди, наделенные умом, воображением и любознательностью, Комаровский жадно впитывает новые впечатления, стремясь не упустить ни одного из возможных удовольствий, знакомясь со всеми достопримечательностями Парижа – от короля Людовика XVI до только что поставленной на сцене комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Когда представляли эту комедию, вспоминал позднее Комаровский, «зрители доходили почти до исступления, и всякий раз, как занавес опускался, весь партер кричал: «A demain!»1
Среди увеселений, развлечений, новых знакомств три месяца в Париже промчались как мгновение. Потом Евграф Федотович был отозван в Петербург, а в октябре того же, 1787 г., послан курьером в Лондон.
Ему всего 18 лет и его увлекает не цель поездки, а само путешествие, чувство свободы, впечатления, сменяющие одно другое. Объехав прежде Германию и Францию, он уже имеет опыт для сравнения, его кругозор значительно шире, чем у его сверстников, живущих в России. Комаровский смотрит на все с любопытством и многое запоминает точно и надолго. У него цепкая память, и потом, в работе над записками, ему не придется мучительно ворошить прошлое; каждое впечатление он помнит так живо, как если бы оно только что прошло перед его глазами. В факте, событии, эпизоде Комаровский более всего ценит внешнюю сторону, осязаемую поверхность, и эта черта позволяет ему передать в записках всю яркость, полноту и многообразие чувственного мира, а вместе с тем сообщает этим запискам особый историко-бытовой колорит.
1 До завтра! (фр.)
[170]
Но пока юный курьер только наблюдает и сравнивает: «Проезжая Голландию, я не мог довольно налюбоваться той чистотой и опрятностью, которая видна не только в домах, но и на улицах, и теми каналами, помощью которых доставляются все припасы из одного места в другое…»1 Или: «Нигде так хорошо не устроены дороги, как в Англии: одна половина укатывается катками к насыпается хрящом, а по другой ездят, и содержатся они точно так же, как дорожки в английских садах» (с. 13).
Живя в Лондоне, Евграф Федотович не теряет времени даром: он изучает английский язык, заводит полезные и одновременно приятные знакомства с Ф. В. Ростопчиным и другими русскими аристократами, путешествующими за границей. Кстати сказать, это один из главных даров его фортуны: Евграф Федотович всегда умеет сделать полезное приятным, и наоборот.
Между тем странствия его продолжаются. В начале 1790 г. он едет курьером в Вену, в 1792 г.– во Франкфурт-на-Майне. К этому времени приятные знакомства начинают приносить ощутимую пользу. Благодаря покровительству П. А. Зубова Комаровский пожалован в 1792 г. прапорщиком Измайловского полка, а через два года произведен в полковые адъютанты. Все складывается на редкость удачно: «Я вел жизнь чрезвычайно приятную и был принят в лучшем петербургском обществе» (с. 41). Несколько раз удостоен был Комаровский особой чести – «целовать ручку государыне».
Воцарение Павла I поставило под угрозу карьеру даже такого удачливого человека, как Комаровский. «Образ нашей жизни офицерской совсем переменился; при императрице мы помышляли только, чтобы ездить в общества, театры, ходить во фраках, а теперь с утра до вечера на полковом дворе, и учили нас всех, как рекрут» (с. 53). Новый царь явно не по душе Комаровскому; тень антипатии к императору ложится на многие эпизоды его записок. В 1799 г. Евграф Федотович был свидетелем свидания Павла I с Суворовым, возвращенным из ссылки. В его передаче этот эпизод подчеркнуто театрализован: «Во втором свидании император, как уже гроссмейстер <Мальтийского ордена.– И. П.>, надел на графа Суворова крест великого бальи ордена св. Иоан-
1 Записки Е. Ф. Комаровского.– СПб., 1914, с. 12. Далее страницы указанного издания будут приведены в скобках в тексте.
[171]
на Иерусалимского. Фельдмаршал поклонился об руку государю и сказал:
– Спаси, господи, царя.
Император Павел, подняв его, обнял и отвечал:
– Тебе царей спасать» (с. 75).
Впрочем, в судьбе самого Комаровского в первые годы правления Павла ничего не меняется: все идет вполне благополучно. В 1796 г. он назначен адъютантом к великому князю Константину Павловичу с чином капитан-поручика. С этого времени начинается его сближение с великими князьями: Комаровский усерден, исполнителен, деловит и распорядителен; он «предан без лести» и на него можно положиться. Эти качества ценят в равной мере Константин и Александр Павловичи.
И все-таки Комаровский не избежал опалы. В мае 1800 г. его удаляют из Петербурга, назначив комендантом Каменец-Подольской крепости. В сравнении с другими, лишенными чинов, наград и поместий, эта опала – почетная. Однако генерал Комаровский сидит в Каменец-Подольской крепости как на иголках, всякую минуту ожидая неприятностей из столицы.
Однажды вечером он получил депешу. «Я ее беру, и в первую минуту не поверил своим глазам. <…> Подорожная начиналась: «По указу его императорского величества императора Александра Павловича» и проч. Я, прочитавши несколько раз, наконец вскрикнул:
– Боже мой, какое счастие!» (с. 108).
В 1801 г. начинается настоящий взлет Комаровского: он становится генерал-адъютантом и доверенным лицом Александра I. Помимо личных достоинств и заслуг Комаровского, молодой император ценит в нем то, что в заговоре против Павла он замешан не был. Потому-то, удалив цареубийц из столицы, Александр поспешно вызывает Евграфа Федотовича в Петербург и приближает его к себе.
Подъем духа, переживаемый в ту пору Комаровским, отразился в ярком и праздничном описании коронации Александра 15 сентября 1801 г.: «Перед императором ехало одно только московское дворянство по два в ряд, на отличнейших лошадях, на коих были богатейшие уборы; после церемонии все эти лошади подведены были государю. Стечение народа было неимоверное; радостные клики сопровождали императора от самого Петровского дворца до Кремлевского; дома украшены были разными дорогими тканями; дамы во всех окнах
[172]
приветствовали вожделенного гостя, махая белыми платками своими, развевающимися по воздуху; погода была прекрасная, как посреди лета» (с. 118).
Дальнейшая судьба Комаровского не представляет собою ничего исключительного. В 1802 г. он женился на Елизавете Егоровне Цуриковой, стал примерным отцом большого семейства, много раз и подолгу жил за границей. Александр I по-прежнему ценил его добродетели и доверял ему дела важные, но не большого масштаба.
В 1803 г. австрийский эрцгерцог Иосиф, гостивший при петербургском дворе, был так пленен учтивостью и исполнительностью Комаровского, что исходатайствовал для него у австрийского императора графское Священной Римской империи достоинство.
«Настал для России роковой 1812 год,– пишет Комаровский.– Государь в марте месяце отправиться изволил в Вильно, куда приказал и мне ехать» (с. 186). Однако Александр не оставил Евграфа Федотовича при своей особе; его место занял Аракчеев. Комаровскому же было поручено отправиться в юго-западные губернии России, чтобы собрать рекрутов и лошадей. Занятие это затянулось почти на три года: только в декабре 1814 г. Комаровский вернулся с женою в Петербург.
Потекли спокойные и почти безмятежные дни. С 1819 г., писал Комаровский, «жизнь моя была единообразна. Каждое почти лето я осматривал несколько батальонов и делал по нескольку тысяч верст. Всякий раз я отдавал лично государю отчет о всем, что я видел…» (с. 221). Дни Александра между тем клонились к закату.
14 декабря 1825 г. Комаровский вывел на Сенатскую площадь для усмирения бунта батальон Финляндского полка, который, однако, отказался стрелять «по своим». Из уважения к заслугам и чинам Комаровского Николай I назначил его членом следственной Комиссии по делу декабристов. Через два года он стал сенатором. Но отношения с новым императором не сложились. В апреле 1829 г. Комаровский вышел в отставку, поселился с имении своей жены Городище (Орловской губернии), где и прожил до самой смерти.
Евгений Ляцкий, автор предисловия к запискам Комаровского, писал, что Евграф Федотович, «обходительный и гуманный человек, и сам чувствовал, что он не вполне подходит к требованиям нового режима; свиде-
[173]
тель «дней Александровых прекрасного начала», он едва ли мог и сочувствовать этому режиму» (с. VII).
Типическая фигура Комаровского стоит как бы на стыке двух эпох, по сути дела, не принадлежа ни к одной из них. В нем нет ничего ни от знаменитых вельмож екатерининских времен, ни от преобразователей царствования Александра I. Комаровский – царедворец по характеру, призванию и судьбе. Поэтому так ровен его жизненный путь в бурное, сотрясаемое историческими катаклизмами время. Счастливое сочетание наблюдательности, внутренней гибкости и исполнительности всегда обеспечивали ему относительно устойчивую позицию. Как всякий царедворец, он глубоко затаивал в себе личные пристрастия и тщательно избегал рискованных ситуаций. Комаровского можно представить себе участником интриги, но нельзя вообразить его замешанным в заговоре. Он человек не крупного масштаба.
Записки Евграфа Федотовича значительнее его личности, хотя его рассказ об исторических событиях всегда дробится на мозаику мелких эпизодов, которые, в представлении царедворца, и составляют в конечном счете единую, неразрывную цепь «большой политики». Евгений Ляцкий точно и изящно определил значение записок Комаровского: «В историческом смысле они богаты фактическими данными, устанавливающими различные моменты внутренних отношений в среде лиц, делавших официальную историю России в конце XVIII и первой четверти XIX столетия». Комаровский «менее всего претендует в них писать какую бы то ни было историю. Он настолько легко касается событий и лиц, что кажется иногда, будто он скользит по зеркальному паркету, где отражаются вместе с его тенью и мишурная позолота дворца и тусклый отблеск петербургского неба. <…> Здесь эпоха говорит с нами языком дипломатической учтивости, дворцовых шорохов, закулисных интриг…» (с. V, VII, VIII).
ЛИТЕРАТУРА
Ляцкий Е. А. Предисловие к кн.: Записки Е. Ф. Комаровского.– СПб., 1914.
<…> Настал для России роковой 1812-й год. Государь в марте месяце отправиться изволил в Вильно, куда приказал и мне ехать. За несколько времени перед отъездом у императора был обеденный стол, на котором, в числе многих военных чиновников, и я находился. После обеда государь подошел к нам и сказать изволил:
– Мы участвовали в двух войнах против французов как союзники и, кажется, свой долг исполнили, как должно; теперь пришло время защищать свои собственные права, а не посторонние, а потому надеюсь и уповаю на бога, что всякий из нас исполнит свою обязанность, и что мы не помрачим военную славу, нами приобретенную. <…>
По принятому тогда плану кампании, когда известно сделалось, что Наполеон перешел через реку Неман с многочисленною своею армиею, составленною из войск всех почти европейских наций, приказано было нашим корпусам, расположенным по прусской границе, отступать к Дриссе1. Часть главной квартиры, находившейся в Вильно, отправлена уже была по тому же направлению. Государь рассудил послать с ответом к Наполеону и избрать для сего изволил А. Д. Балашова2. Поздно ввечеру, накануне нашего оттуда выезда, приказывает ему явиться к себе; отдавая письмо, повелевает ему тотчас отправиться к Наполеону. Балашов доносит императору, что он уже свой обоз с прочими отправил и что у него нет ни генеральского мундира, ни ленты. Государь приказывает ему у кого-нибудь достать для себя мундир и все, что ему нужно, и чтобы он непременно через час выехал, назначив находиться при Балашове полковника М. Ф. Орлова, который был тогда причислен к князю П. М. Волконскому. Я жил тогда вместе с Александром Дмитриевичем. Он приходит домой в отчаянии, рассказывает мне все, что с ним случилось, говоря, что Александровскою лентою его ссудил граф П. А. Толстой3. К счастию, мой обоз еще не уехал, и я ему предложил мой генеральский мундир. Надобно было оный примерять; насилу мундир мой влез на Балашова, но нечего было делать; он решился его взять и обещался во все время есть насколько можно менее, чтобы похудеть. На другой день государь и вся его величества свита оставили Вильно.
[175]
Известно, что наш арьергард, состоящий из одних гвардейских казаков, под командою генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова, был атакован французами в виленских улицах. Сей генерал так славно защищался, что не только отретировался в совершенном порядке, но даже ранил и взял в плен начальника неприятельского отряда, графа Сегюра4, а полковник Ефремов сам своею пикою нанес почти смертельный удар принцу Гогенлоэ, бывшему после при дворе министром короля Вюртембергского. Главная квартира императора пришла в местечко Видзы, сделавши 6 переходов, а о Балашове еще слуху не было, и начинали уже насчет его беспокоиться, не оставил ли его Наполеон военнопленным. Наконец, перед выходом уже из сего местечка, посланный от государя возвратился и привез собственноручное письмо к его величеству от Наполеона. Все обступили и начали расспрашивать Александра Дмитриевича, что с ним случилось во время его отсутствия. Вот что он рассказал. Оставя Вильно, на другой день он приехал на французские аванпосты; когда трубач его протрубил три раза и Балашов объявил, что он российской армии генерал, присланный к императору Наполеону, то неприятельский офицер его остановил, а сам послал получить приказание. Через несколько времени посланный возвратился. Балашову и Орлову завязали глаза и вели их таким образом до главной квартиры маршала Давуста5; тут им развязаны были глаза, и Балашова одного ввели к маршалу, которому он объявил причину своего приезда и просил отправить его к императору французов. Давуст ему отвечал, что он не знает точно, где находится теперь его величество, но если генерал Балашов желает, то он пошлет письмо от российского императора с своим адъютантом к императору Наполеону, на что Балашов возразил, что ему от государя своего повелено отдать письмо лично, и потому он никому оного поверить не может. Маршал ему сказал, что он тотчас пошлет известить Наполеона о приезде к нему генерала от императора Александра. Посланный не возвращался четыре дня, между тем Балашов видел, что за всеми его движениями примечали: наконец, он решился спросить у маршала Давуста, не считают ли они его своим пленным, в таком случае он просит его, чтобы он дал ему способ донести о том своему государю, ибо он не постигает, каким образом, когда известно, что император Наполеон, перешел через наши границы, по сию пору послан-
[176]
ный его адъютанта не привозит никакого ответа. Mapшал ему отвечал:
– Послушайте, генерал, неужели нам неизвестны права военные, и что особа парламентера есть по всем законам неприкосновенна и даже священна, замедление же сие,– продолжал маршал,– происходит, вероятно, оттого, что император объезжает многочисленные корпуса своей армии, расположенные на большом пространстве, и что адъютант мой не успел его догнать.
Наконец посланный возвратился с повелением к Давусту препроводить русского генерала под приличным конвоем в настоящее место пребывания императора Наполеона. Каково же было удивление Балашова, когда его привели в Вильне, в тот дворец, где жил государь, и Наполеон принял его в той самой комнате, из которой отправлял его император Александр несколько дней тому назад. Это Александр Дмитриевич рассказывал всем любопытным. Мне же, так как мы жили вместе, он сообщил все подробности его пребывания в Вильне. Когда ввели его к Наполеону и он подал письмо от нашего государя, император французов, прочитавши оное, сказал:
– Нас англичане поссорили; я удивляюсь,– продолжал он,– что ваш император находится сам при войсках. Что ему тут делать? Он природный государь, ему должно царствовать, а не воевать; мое дело другое: я солдат, и это мое ремесло. Я не могу согласиться на требования вашего императора. Когда я что занял,– считаю своим. Вам мудрено защищать вашу границу, столь обширную, с таким малым числом войск.
Во все это время он ходил по комнате, потом, подумавши немного, прибавил:
– Увидим, чем все это кончится.
Наполеон много еще говорил, но сие составляет почти всю существенность разговора. Балашов был приглашен к обеденному столу, за которым находились, кроме него, Наполеон, Бертье6, Дюрок7, Бесиер8 и Коленкур9. За обедом Наполеон обращается к Балашову и говорит:
– Вы думаете, генерал, что сии господа (показывая на Бертье и Бесиера) что-нибудь у меня значат; ничего не бывало: они только исполнители моих приказаний.– Потом продолжает: – Вы были, кажется, начальником московской полиции? – и, не давши времени Балашову отвечать, спрашивает у Коленкура: – Вы знаете Москву? Большая деревня, где видно множество церквей,–
[177]
и продолжая говорить – к чему они? В теперешнем веке перестали быть набожными.
На сие Балашов отвечал: – Я не знаю, ваше величество, набожных во Франции, но в Гишпании и в России много еще есть набожных.
После обеда, который продолжался с небольшим полчаса, Коленкур подошел осторожно к Балашову и сказал:
– Зайдите, генерал, ко мне.
Александр Дмитриевич исполнил. Коленкур много говорил о милостях, императором Александром ему оказанных во время пребывания его послом в Петербурге, и о привязанности его к нашему государю. В разговорах своих он был очень откровенен и даже советовал быть твердым в своих предприятиях. Балашов сказывал, что тогда уже французская кавалерия очень много пострадала; вся дорога усеяна была околевшими лошадьми.
Через несколько переходов пришли мы в знаменитый укрепленный лагерь, на правом берегу реки Десны генералом Пфулем10 устроенный. Я поехал вперед с бароном Толем, бывшим тогда обер-квартирмейстером нашей армии, чтобы он, как мастер сего дела, показал мне сие укрепление и объяснил выгоды и невыгоды оного. Барон Толь математически мне доказал, что если мы дождемся в сем лагере Наполеона, то он нас всех, как говорится, возьмет живьем. Лагерь устроен был на высоком берегу в утесе, а к реке внизу большая отмель. Для отступления всей армии находились три моста на реке Десне. Если бы мы атакованы были во фронт лагеря и в то самое время неприятель послал бы отряд внизу утеса отмелью, который легко мог бы овладеть хотя первым мостом, тогда бы никакой ретирады11 иметь не могли*. К счастию, Наполеон, видно, не знал, в каком невыгодном положении находилась наша армия. Между тем, мы никакого сведения не имели о неприятеле. Корпусы, приходившие в соединение, не были при отступлении им обеспокоиваемы. При нашей армии казаков, кроме гвардейских, почти вовсе не было. Решились командировать генерала Корфа с регулярной кавалерией сделать сильное рекогносцирование, чтобы открыть не-
* Никто так не надоедал генералу Пфулю своими дерзкими насмешками, как маркиз Паулуччи насчет укрепленного его лагеря. Мы все ходили обедать за гофмаршальский стол; бедный Пфуль перестал за оный ходить, чтобы не быть предметом насмеяния. (Прим. автора.)
[178]
приятеля, но он возвратился без успеха. Граф Мишо12служил тогда полковником в свите его величества; он составил записку о бедственном положении армии и предлагал, чтобы немедленно оставить лагерь и идти по левому берегу реки Десны к Полоцку. Сия записка через князя Волконского представлена была государю; учрежден был совет, чтобы рассмотреть мнение графа Мишо. При государе находился комитет для отправления государственных дел, состоящий из графа Аракчеева, Шишкова13, государственного секретаря, и Балашова. Совет согласился с мнением графа Мишо, и отступление армии было решено. Граф Витгенштейн оставлен был с своим корпусом, чтобы обеспечивать ретираду армии. Шишков и Балашов, с которыми я жил вместе, сказывали мне, что решено сделать воззвание к Москве и ко всей России, чтобы собрать добровольное ополчение, что они насилу могли убедить графа Аракчеева, чтобы он упросил государя оставить армию, а самому императору ехать в Москву, где присутствие его величества произведет большое действие в сию критическую минуту. Когда Шишков и Балашов предлагали графу Аракчееву, что необходимо нужно государю в теперешнем ее положении оставить армию и ехать в Москву и что сие одно средство, чтобы спасти отечество,– граф Аракчеев возразил на сие:
– Что мне до отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь при армии.
Они ему отвечали:
– Конечно, ибо если Наполеон атакует нашу армию и разобьет ее, что тогда будет с государем? А если он победит Барклая, то беда еще не велика.
Сие заставило Аракчеева идти к государю и упросить его величество на отъезд из армии. Можно сказать, что душа и чувства графа Аракчеева, совершенного царедворца, были чужды любви к отечеству. <…>
Тогда главнокомандующим в Москве был граф Ф. В. Ростопчин. Государь повелел ему, чтобы никакой встречи для его величества делано не было, и нарочно приехал в Москву ночью; но от последней станции к Москве вся дорога была наполнена таким множеством народа, что от бывших у сих желающих видеть своего государя фонарей было так почти светло, как днем. В следующий день, поутру, император назначить изволил быть молебну в Успенском соборе. Стечение народа на всей Кремлевской площади было так велико, что на-
[179]
ходившиеся при государе генерал-адъютанты принуждены были составить из себя род оплота, чтобы довести императора с Красного крыльца до собора; всех нас можно было уподобить судну без мачт и кормила, обуреваемому на море волнами; мы очутились почти у гауптвахты и оттуда уже кое-как добрались до церкви. Между тем громогласное «ура» заглушало почти колокольный звон. Сие шествие продолжалось очень долго, и мы едва совершенно не выбились из сил. Я никогда не видывал такого энтузиазма в народе, как в это время. На другой день приказано было сделать из досок мостки с перилами от Красного крыльца до собора. Архиепископ Августин14 встретил государя с крестом и с св. водою и произнес весьма трогательное и красноречивое слово.
В пространных залах Слободского дворца назначены были собрания для дворянства и купечества; император сам поехал в Слободской дворец. Войдя в залу, где собрано было все московское дворянство, коего губернским предводителем был В. Д. Арсеньев, государь сказал:
– Вам известна, знаменитое дворянство, причина моего приезда. Император французов вероломным образом, без объявления войны, с многочисленною армиею, составленною из порабощенных им народов, вторгнулся в нашу границу. Все средства истощены были,– сохраняя, однако же, достоинство империи,– к отвращению сего бедствия; но властолюбивый дух Наполеона, не имеющий пределов, не внимал никаким предложениям. Настало время для России показать свету ее могущество и силу. Я в полной уверенности взываю к вам: вы, подобно предкам вашим, не потерпите ига чуждого, и неприятель да не восторжествует в своих дерзких замыслах; сего ожидает от вас ваше отечество и государь.
Все зало огласилось словами:
– Готовы умереть скорее, государь, нежели покориться врагу! Все, что мы имеем, отдаем тебе; на первый случай десятого человека со ста душ крестьян наших на службу.
Все бывшие в зале не могли воздержаться от слез. Государь сам был чрезмерно тронут и добавил:
– Я много ожидал от московского дворянства, но оно превзошло мое ожидание. <…>
Начальником московского ополчения избран был дворянством М. Л. Кутузов, а в помощь ему граф Ирак-
[180]
лий Иванович Морков. В Москве уже получено было известие, что французами занят Смоленск; с сим известием приехал великий князь-цесаревич. Государь после сего изволил отъехать в Петербург. В сей столице петербургское дворянство собирало тоже ополчение, и сие дворянство подчинило своих ратников тоже М. Л. Кутузову. В сем качестве он приехал явиться к государю; это было в Таврическом дворце; я, увидевши сего славного генерала, подхожу к нему и говорю:
– Стало быть, дворянство обеих столиц нарекло ваше высокопревосходительство своим защитником и отечества!
Михаилу Ларионовичу не известно еще было, что московское дворянство избрало его также начальником своего ополчения. Когда он узнал от меня о сем назначении, с полными слез глазами сказал:
– Вот лучшая для меня награда в моей жизни! – и благодарил меня за сие известие. <…>
1824-го года, в ноябре месяце, когда Петербург подвергся небывалому доселе наводнению, я был употреблен деятельным образом. 8-го числа того месяца, на другой день наводнения, я получаю записку от бывшего тогда начальником главного штаба его величества, генерал-адъютанта Дибича15, чтобы я в третьем часу после обеда явился в комнаты государя. После меня скоро приехали генерал-адъютанты: Депрерадович и Бенкендорф. Нас позвали немедленно в кабинет императора. Государь нам сказал:
– Я призвал вас, господа, чтобы вы подали самую деятельную и скорую помощь несчастным, пострадавшим от ужасного вчерашнего происшествия,– и у него приметны были слезы на глазах.– Я уверен, что вы разделяете мои чувства сострадания,– и продолжал говорить с таким чувствительным красноречием, что мы сами были чрезмерно тронуты.– Я назначаю вас,– присовокупил император,– временными военными губернаторами заречных частей города, что вы увидите из сегодняшнего приказа. Вот вам инструкция, наскоро составленная; сердца ваши ее дополнят. Поезжайте отсюда к министру финансов, который имеет повеление выдать каждому из вас по 100 тысяч рублей на первый случай.
Мы вышли из кабинета государя, восхищенные тем, что мы слышали, и сказали:
[181]
– Жаль, если разговор сей не сохранится для потомства, ибо оный изобразил бы императора Александра таковым, каковым он точно был, и послужил бы лучшим панегириком его небесной души.
Но останется памятником начертанная собственною его величества рукою инструкция, государем нам данная, в коей видна его нежная и отеческая попечительность о несчастных, пострадавших от наводнения, и в коей ничего не упущено было к услаждению их плачевной участи. Генерал-адъютант Депрерадович назначен был военным губернатором в Выборгскую часть, я – на Петербургскую сторону, а Бенкендорф – на Васильевский остров. Мы в тот же вечер получили определенную нам сумму. Мое местопребывание назначено было в доме крепостного коменданта16, куда я и отправился ночевать. Мы подчинены были военному генерал-губернатору, графу Милорадовичу, которому и должны были делать наши донесения, но находящаяся местная полиция и квартирующие в той части города войска состояли под нашим непосредственным начальством. Между тем учреждены были и на Адмиралтейской стороне частные комитеты, которых председатели были г<оспода> сенаторы. Сии частные комитеты были подчинены центральному комитету под председательством князя Алексея Борисовича Куракина17. Мы также учредили при себе комитеты, составленные из особ, наиболее пользующихся уважением обывателей той части города. На другой день моего приезда на Петербургскую сторону, к которой присоединены были Каменный и Аптекарский острова, я поехал осмотреть оную и никак не мог себе представить такого опустошения, каковое я нашел повсеместно. Все заборы были снесены, все мосты, даже и мостики через канавы, разделяющие улицы, сорваны, так что никакого сообщения между оными не было. Множество фонарей и несколько будок были истреблены водой. По сделанному после счету, до 160 барок разной величины и несколько галиотов находились на улицах. Известно, что на Петербургской стороне все почти обывательские дома деревянные и в один этаж, кроме Большого проспекта. Во всех сих домах ветром разбило стекла, а вода разрушила печи, особливо в слободе, называемой Колтовскою; на берегу взморья вода была вышиною с лишком на три аршина. Там многие ветхие дома совсем были снесены. Жителей, по самым верным сведениям, погибло на Петербургской стороне до 90 душ
[182]
обоего полаl8. Я не знал сначала, за что приняться. Приехав в Колтовскую и увидя множество жителей без приюта и без пищи, я приказал, на первый случай, кое-как их разместить по соседям и роздал лично более нуждающимся до двух тысяч пятисот рублей денег.
Призвал к себе священников и церковных старост и дал им деньги, чтобы, по их усмотрению, они подавали всякий день милостыню самым бедным и нищим. Послал отыскивать стекольщиков и печников, но, к несчастию, так как это было уже в глубокую осень и все мастеровые разошлись по своим деревням, то и посланы были нарочные, чтобы воротить их всех назад, и в оных не было уже после недостатка. Комитет, при мне находящийся, состоял из шести членов: четверо были из дворян, а двое из купцов. Петербургская сторона разделена на четыре квартала: 1-й квартал поручен был сначала коллежскому асессору Львову, а потом Мельяну, 2-й – коллежскому советнику Агафонову, 3-й – купцу Шубину, 4-й – купцу же Шульгину. Действительному статскому советнику Кремковскому поручены были Каменный и Аптекарский острова, а действительный статский советник Лагода находился в комитете и получал иногда от меня особые поручения. Сверх того, в каждом квартале учреждены были особые комитеты, в которых членами находились известные своим хорошим поведением из мещан и из ремесленников; сии квартальные комитеты назначены были в помощь члену частного комитета, которому вверен был квартал. Из обывателей избраны были надежные и честные люди, которые раздавали в каждом квартале пищу, состоящую в скоромные дни из щей с говядиной, а в постные – из кашицы с снетками19, гречневой каши и хлеба с солью. При всяком из сих раздавателей пищи находился офицер из внутренней стражи с двумя рядовыми для порядка. Сначала раздавалось до 2 тысяч порций ежедневной пищи, а когда устроены были в домах бедных печи, то отпускали им и дрова и муку. При гарнизонном батальоне, расположенном на Петербургской стороне, учреждена была швальня20, в которой шили армяки, тулупы и раздавалась и прочая одежда и обувь, как для мужчин, так и для женщин. <…> Обязанность членов комитетов была всякий день поутру обходить кварталы и во всяком доме осмотреть повреждение, сделанное водою, и войти в положение хозяина дома и находящихся в оном жильцов и, соразмерно потере их, назначить вспомоществование
[183]
сначала самое нужное, ибо сие вспомоществование возобновлялось несколько раз сообразно сумме, находившейся в распоряжении комитета. Всякое после обеда все члены собирались у меня, и мы в общем заседании рассматривали представленные членами комитета списки и назначали денежные пособия, которые члены получали под свои расписки тотчас, и на другой день раздавали по принадлежности и, таким образом, это повторялось каждый день. Мне казалось, что сей был самый скорейший способ, чтобы доставлять пособия. На третий день (т. е. 10-го ноября) моего пребывания на Петербургской стороне посетил меня государь. Накануне того дня присланы были дрожки в одну лошадь с кучером с императорской конюшни, чтобы находиться в нанятой у самого перевоза квартире. Я встретил государя, как он изволил выходить из катера. Его величество начал рассказывать мне, что накануне был свидетелем зрелища ужасного. На четвертой версте, по Петергофской дороге, находился казенный литейный чугунный завод; оный стоял на самом взморье; деревянные казармы были построены для жительства рабочих людей, принадлежащих заводу. В 9 часов утра 7-го ноября ветер стал подниматься, вода прибывать, ударили в колокол, чтобы распустить с работы людей: все бросились к своим жилищам, но уже было поздно, вода с такою скоростию прибыла, что сим несчастным невозможно уже было достигнуть казарм, где находились их жены и дети; и вдруг большую часть сих жилищ понесло в море. Каково же было положение сих бедных людей, видящих погибающими их семейства и не имеющих способа подать им ни малейшей помощи! Приметно было, что государь внутренне страдал, рассказывая о сем ужаснейшем происшествии, и присовокупить изволил: I
– Я бывал в кровопролитных сражениях, видал места после баталий, покрытые бездушными трупами, слыхал стоны раненых, но это неизбежный жребий войны, а тут увидел людей, вдруг, так сказать, осиротевших, лишившихся в одну минуту всего, что для них было любезнее в жизни; сие ни с чем не может сравниться.
Потом государь сел на дрожки, и я поехал вперед. Сначала я повез его величество к Тучкову мосту; тут посреди проспекта стоял преогромный галиот, так что мы принуждены были сойти с дрожек и идти пешком; государю хотелось видеть второй кадетский корпус, но когда мы вышли на берег реки Невы, то все парадное
[184]
место корпуса покрыто было барками, бревнами и таким множеством дров, что и пешком шагу вперед сделать было невозможно. Между тем император у меня расспрашивал, что я успел сделать в сие короткое время, и, кажется, отчетом моим был доволен. Его величество приказал, чтобы я ничего не щадил для призрения бедных. Потом кое-как мы пробрались на Каменноостровский проспект; тут открылось нам необозримое поле огородов, и могли доехать только до Карповки, ибо мост через оную был сорван, а мост на Каменный остров уцелел. Государь сошел с дрожек и сказал мне:
– Какое ужасное опустошение! Ну, брат, тебе предстоит много труда. Я почти не узнаю,– продолжал его величество,– тот проспект, по которому я столько лет беспрестанно ездил.
А что более всего удивило государя, это две преогромные барки с угольями, в коих находилось несколько тысяч четвертей оного, которые, за несколько дней до наводнения, приведены были для Монетного двора. Сии барки стояли подле ограды деревянной церкви св. Троицы и вышиною своею почти равнялись с нею. Государь, осыпав меня по обыкновению милостивыми приветствиями, изволил на катере возвратиться во дворец, обещав еще скоро меня посетить. Мне сказывали после, что священник служил обедню в церкви св. Троицы, при чем находилось несколько молельщиков; когда ветер усилился и понесло барки с угольями прямо на ограду, вдруг сделалось темно; между тем вода начала уже входить в церковь; священник предложил всем находившимся в оной, чтобы их исповедать и причастить, полагая, что сии барки, ударясь об церковь, разрушат оную и что их смерть неизбежна; но, к счастию, в ограде было несколько больших берез, которые, вероятно, остановили стремление барок до тех пор, как начала вода убывать. В день посещения меня императором я получил от августейшей его матери, покровительницы всех несчастных, незабвенной императрицы Марии Федоровны, 10 тысяч рублей для вспомоществования потерпевшим от наводнения. Меня более всего затрудняло начальное учреждение больницы; хотя я распорядился тотчас, чтобы лекаря, находящиеся при втором кадетском корпусе, при дворянском полку и при крепости, заведовали каждый одним кварталом и посещали всякий день случающихся в оных больных, но к несчастию, открылись между обывателями жестокие горячки и сих больных должно было помещать
[185]
в особое место. На случай прекращения сообщения с главным госпиталем в Петровских казармах, где квартировал лейб-гренадерский полк, очищались всегда несколько покоев для помещения больных, а солдаты размещались по прочим покоям и в кухнях нижнего этажа; но кухни сии были наполнены водой, а потому не только там жить, но и пищи варить было невозможно. Однако же я нашел средство учредить больницу на двадцать кроватей. Мои товарищи Депрерадович и Бенкендорф имели против меня выгоды в рассуждении помещения больных: у первого была вся главная госпиталь в распоряжении, на Выборгской же стороне только два квартала подверглись наводнению, что составляло половину всей части; а у второго отведено было все биржевое строение, как для помещения бесприютных, так и для больных; те и другие снабжены были всем нужным пожертвованиями, сделанными богатыми жителями Васильевского острова и купечеством. Однако же и на бедной Петербургской стороне нашлись благотворные люди. Наследники подполковника Иванова, четыре брата, его сыновья, пожертвовали домом своим для помещения лишившихся приюта жителей Петербургской стороны. Они последовали в сем случае благодетельным намерениям их отца, который за несколько лет до смерти своей учредил в сем доме пансион, где за самую умеренную цену воспитывалось беспрестанно до 50 юношей. Сам г. Иванов был содержателем сего полезного заведения, от которого он не только не приобрел ничего, но даже расстроил себе состояние. Надобно было заключить, что воспитание, которое получали учащиеся в пансионе г-на Иванова, было хорошее, ибо находилась довольно большая библиотека и физический кабинет. Я мог поместить в доме г<оспод> Ивановых до 40 семейств, и по мере как жилища их исправляемы были починкою, другие семейства заступали их места. Впоследствии в сем же доме устроен был лазарет на 100 кроватей. Большая часть рогатого скота бедных жителей потонула; мне стоило больших хлопот, чтобы сей утопший скот собрать вместе, нагрузить на барки и отправить на Голодай остров, где назначено было оный сжечь. <…>
ЕГОР ФЕДОРОВИЧ ФОН БРАДКЕ
(16.V.1796–3.1V.1861)
Род наш,– писал Егор Федорович фон-Брадке,– происходит из Швеции; мой прадед во времена Карла XII был полковником и шведским комендантом в Любеке. О древнейших предках со стороны моего отца ничего неизвестно; даже не знаю, принадлежали ли они к дворянству, или мой прадед был первый возведен в это достоинство, к чему впрочем, я был вполне равнодушен» (1875, № 1, с. 13)1. К моменту появления на свет Егора Федоровича род Брадке ассимилировался в России, породнившись с русскими аристократическими фамилиями Воронцовых, Нарышкиных и пр.
Отец Егора Федоровича, Федор Иванович, служил под началом адмирала Д. Н. Сенявина, состоял дежурным штаб-офицером при Суворове в Финляндии, при Павле I «был выброшен» из службы и, взяв денег в долг у родни побогаче, купил захудалое имение Верховье в Витебской губернии. Его стараниями имение это было восстановлено и стало приносить немалый доход. Дела Федора Ивановича поправились; он пользовался всеобщим уважением как умный и рачительный хозяин и как справедливый и гуманный человек. Александр I назначил его вятским губернатором, а в последние годы жизни Федор Иванович был пожалован в тайные советники и сенаторы. Все, кто знал его, отзывались о нем, как о человеке «редкой честности и настойчивости» (№ 1)С. 16).
Качества эти унаследовал от него и Егор Федорович, хотя прямого влияния отца в детстве не испытал: до
1 Здесь и далее «Автобиографические записки» Е. Ф. фон-Брадке цитируются по изд.: «Русский архив», 1875, № 1, 3. Номер журнала и страница приводятся в тексте в скобках.
[187]
шести лет он воспитывался у тетки, потом учился в частной школе и только в 1806 г. попал к родителям в Верховье. В отчем доме Егор Федорович пробыл недолго: летом того же 1806 г. отец поместил его в Горный корпус, где на первых порах мальчику пришлось довольно туго из-за плохого русского выговора и малого роста.
Красотою Егор Федорович не блистал и впоследствии, но обладал исключительной способностью вызывать к себе расположение, любовь и какое-то нежное почтение окружающих. Много лет спустя чиновник, служивший под началом Егора Федоровича в Министерстве государственных имуществ, писал о нем: «Личностью своею Брадке не мог не произвести на меня самого отрадного впечатления. Крошечный, седой, лысый, горбатый, он был не красив; но в то же время он был выше всякого красавца силою великолепной души, которая отражалась во всех его словах, поступках и даже манерах. Его нельзя было не любить и не почитать, и все, кого судьба ставила в какие-либо соотношения с ним, его любили и почитали»1.
Оценили Егора Федоровича и в Горном корпусе. Получив там хорошую общую подготовку, Брадке в 1810 г. оставил корпус: предметы горного ведомства «не соответствовали ни целям моего отца, ни моим желаниям» (№ 1, с. 20).
В 1811 г., одновременно с Николаем Николаевичем Муравьевым, Брадке поступил в школу колонновожатых. Как и его однокашники, он поселился в отведенных колонновожатым комнатах в здании Генерального штаба. «Мне в школе особенно посчастливилось,– писал он,– три брата Муравьевы преподавали в школе математику и военные науки; они, вероятно, признали во мне живое стремление, или сжалились над моею юностью, и привлекли меня в свое общество, и так как они также занимали в доме казенную квартиру, то я мог ежедневно и ежечасно пользоваться этим приятным приглашением» (№ 1, с. 25). Разговоры, которые велись у братьев Муравьевых, носили «всегда печать общего стремления к высшему развитию» (там же).
Судьба скоро развела Егора Федоровича с братьями Муравьевыми. Но благородные, гуманные начала и ра-
1 Из записок В. А. Инсарского.– «Русский архив», 1873. № 4, с. 580.
[188]
но осознанное стремление к общественному благу навсегда оставили след в его душе.
Муравьевы в 1812 г. отправились на войну, Егора Федоровича оставили в школе для продолжения математических занятий. Прошло почти три десятилетия, прежде чем Егор Федорович встретился вновь с Николаем Николаевичем Муравьевым. Было это в Киеве, в 1839 г. Их жизнь, представления о ней, взгляды – все было различно. Однако они сблизились вновь: опальный вольнодумец-генерал и крупный чиновник, человек благонадежный и благонамеренный, хотя и либеральный. Соединили их не только юношеские воспоминания, а то главное, что навсегда сохранилось в них: высокое представление о благе отечества и гуманное отношение к человеку. Егор Федорович сумел оценить Муравьева, назвав его в своих записках «человеком высокого духа» (№ 3, с. 282).
Много воды утекло с 1812 г.: вместе с русской армией Егор Федорович проделал в 1815 г. путь до Парижа, служил под началом Барклая-де-Толли в его главной квартире (и считал эти два года счастливейшими в своей жизни), потом был «откомандирован» к Аракчееву, участвовал в Польской кампании и, наконец, получил «спокойное» назначение – попечителем Киевского учебного округа.
Во все эти годы он сумел сохранить и сберечь чувство собственного достоинства и, уважая человека в себе, уважал его и в других. Рассказывают, что в служебном формуляре Егора Федоровича была весьма примечательная запись Аракчеева: «Способен и достоин, но жаль, что часто забывает свой малый чин пред старшими»1. Эти замечательные качества, без особого удовольствия подмеченные всесильным Аракчеевым, снискали Егору Федоровичу уважение людей и старше и младше его по чину. Один из современников Брадке вспоминал о том времени, когда он был попечителем Киевского учебного округа: «Высоко ценимый и уважаемый в общественном мнении, он поставил высоко и те лица, которые находились под его начальством. Он умел облагородить до тех пор сильно упавшее в общественном мнении звание учителя, заставив прежде всего самих учителей уважать свое звание»2. Тот же автор отмечал и еще
1 Из записок В. А. Инсарского.–«Русский архив», 1873, № 4, с. 588–589.
2 Ш у л ь г и н В. История университета св. Владимира.– «Русское слово», 1859, № 10, с. 28.
[189]
одну важную черту характера и деятельности Егора Федоровича: «Для Брадке русский, немец и поляк не существовали: существовали только способные и неспособные люди. В оценке их он мог ошибаться, но пристрастия в нем не было»1.
Киевский период деятельности Брадке определил его истинное назначение и дал возможность проявиться тем качествам, о которых, быть может, не подозревал и сам Егор Федорович. Этот скромный человек, с одинаковым усердием трудившийся на самых разных поприщах, сохранил в душе невостребованную способность к учительству в лучшем и самом высоком смысле этого слова. Его добрая, щедрая душа стремилась укреплять и просвещать другие души. Он был одним из тех редких людей, которые как бы инстинктивно желают возвысить человека, сделать его лучше и совершеннее.
15 июля 1834 г. стараниями Егора Федоровича в Киеве был открыт университет св. Владимира. Во время торжества, связанного с этим событием, Егор Федорович высказал мысли, актуальные и в наши дни: «…для успешного достижения цели общественного воспитания необходимо дружное содействие со стороны родителей, которое должно состоять в правильном воспитании детей до поступления в общественные заведения и в руководстве по определении их в эти заведения»2.
Слова Брадке не расходились с его делами. Этот маленький, тщедушный, больной человек обладал редкой цельностью натуры. В Киеве сохранилась долгая и благодарная память о нем. Один из бывших студентов Егора Федоровича писал о нем: «Студенты и воспитатели учебных заведений свято чтили его как начальника и горячо любили как самого попечительного и нежного отца. Он ездил в квартиры больных студентов, привозил с собою медиков для консультаций и все лакомства, какие разрешали медики»3.
Егор Федорович так до конца и не проявил своего призвания, потому что недолгая служба его в Киеве оборвалась в 1839 г. и судьба перебросила его в 3-й департамент Министерства государственных имуществ.
1Там же, с. 27–28.
2 Цит. по статье: Шульгин В. История университета св. Владимира, с. 17.
3 Цит. по кн.: Владимирский-Буданов М. Ф. История императорского университета св. Владимира. Т, 1.– Киев, 1884, с. 82–83.
[190]
Да, конечно, он и здесь был на месте, как был на месте везде. Но департамент был не по нем. Его живую душу тянуло к живому делу.
Уже на закате жизни так и не реализованное влечение Егора Федоровича к учительству сказалось в его записках. Он написал их на своем родном немецком языке и предпослал им посвящение: «Моим детям». Однако, без сомнения, они обращены к детям вообще, к будущим поколениям, которые Егор Федорович так страстно хотел научить добру и предостеречь от ошибок и зла. Завершая записки, Брадке писал: «Пусть этот очерк напоминает вам вашего старого отца, и да поможет он вам извлечь себе из событий моей жизни некоторый опыт и утешение в неизбежной борьбе и испытаниях здешнего бренного существования» (№ 3, с. 292).
Завершая публикацию записок Е. Ф. фон-Брадке, П. Бартенев писал: «…Е. Ф. Брадке заслужил себе почетное и признательное воспоминание русских людей. Такого рода деятели оставляют если и не особенно яркий, то неизгладимый и благодетельный свет в истории своего отечества. Тут мало блеску и шуму, зато много прочного созидания» (№ 3, с. 293).
ЛИТЕРАТУРА
Шульгин В. История университета св. Владимира.– «Русское слово», 1859, № 10.
Из записок В. А. Инсарского.– «Русский архив», 1873, № 4.
Владимирский-Буданов М. Ф. История императорского университета св. Владимира. Т. 1.– Киев, 1884.
<…>В 1817 году последовало высочайшее повеление откомандировать полковника Паренсова и меня в распоряжение графа Аракчеева по военным поселениям, и поэтому, после весьма лестных прощальных отзывов со стороны Барклая и Дибича, я был отправлен в Москву, где в то время находился двор, а при нем и граф Аракчеев, которого я для краткости просто буду называть графом.
Принятый этим в то время всесильным человеком с величайшею любезностью, получил я от него позволение повеселиться в Москве, и точно, в течение двух месяцев, мною там проведенных, меня почти ничем не занимали. Мы вместе с Паренсовым наняли квартиру и сани с парою лошадей, пока продлится наше московское пребывание. В прежнее доброе время было нетрудно познакомиться в Москве с древними дворянскими семействами. Гостеприимство было широкое, и через несколько дней мы получили столько приглашений на обеды и вечера, или постоянно, или в назначенные дни, что при полнейшей готовности невозможно было всеми воспользоваться. Не имея служебных занятий и не считая возможным при неопределенности срока нашего пребывания приступить к какому-нибудь частному труду, мы предались упоению общественного праздношатания и разве только посвящали утро осмотру достопримечательностей столицы, а дома занимались легким чтением.
При всей внешней широте своей жизнь в Москве не была привлекательна: обеденный стол, обремененный множеством кушаний, после него карточная игра; вечером опять карты, иногда танцы, когда случайно соберется несколько молодежи обоего пола; на балах много роскоши и чинности; тон аристократического высокомерия, злоречивые толки, непризванньне суждения обо всем на свете, без всяких определенных понятий, чопорные и в то же время резкие на язык барышни; вдобавок ко всем этим приятностям множество старых княжон, не оставлявших без решительного приговора ни одного доброго имени, говоривших за картами грубости своим партнерам и вообще всячески отмщавших на ближнем невольное свое добродетельное воздержание от проклятой брачной жизни. Они с отменным искусством и с крайним немилосердием добивались подробностей
[192]
о вашем происхождении и о вашем семействе. Добрые нравы господствовали, и не было слышно о разводах или разъездах; два редкие случая в этом роде неумолимо осуждены общественным мнением, и обвиненным отказано во всех домах. Можно было, конечно, ходить пешком и придти в знакомый дом, но тогда в передней прислуга не подымалась с места, и вы сами должны снимать с себя верхнее платье. Мужчина еще мог ездить в открытом экипаже в две лошади, но даму непременно должна была везти четверня. Одна богатая и знатная дама, госпожа Шереметева, утратила всякое к себе уважение за то, что ездила в дрожках, обрезала себе волосы и одевалась просто.
В Москве я нашел моего прежнего учителя, полковника Александра Николаевича Муравьева, состоявшего начальником штаба при находившемся там гвардейском отряде. Он был арестован лично государем за какой-то промах по фронту1, и я застал его в чрезвычайно раздражительном состоянии духа. Почти каждый день проводил я у него несколько часов, и, по-видимому, мое присутствие его успокаивало; наконец, он предложил мне ввести меня в самую знатную из московских масонских лож, и я не решился отказаться от его любезного предложения, хотя никогда не был расположен к этим тайным обществам с неопределенными целями. Быть может, мною руководило бессознательное любопытство; как бы то ни было, но я выразил свое согласие, и день моего вступления был уже назначен, когда мой неожиданный отъезд в Новгород насильственно воспрепятствовал выполнению этого намерения. Впоследствии я горячо благодарил бога за эту милость, так как мое участие в этом обществе могло бы причинить мне множество затруднений. И сам Муравьев, весьма деятельный член Союза благоденствия, отступился решительно от этого Союза при его дальнейшем развитии2, когда речь зашла о крови и восстании; но так как он, связанный своим обязательством, не донес о том, то и был сослан в Сибирь, с сохранением чина и дворянства. Затем был он губернатором в Архангельске3 и состоит ныне генерал-майором при главном штабе. Он – старший брат бывшего главного командира Закавказья4(другой брат – министр государственных имуществ)5. Он весьма кроткий и образованный человек с строго религиозными правилами и пиетистическим направлением6.
[193]
Однажды утром мы оба с Паренсовым были позваны к графу7 и получили приказание не позднее следующего дня отправиться в Новгород, куда он должен был на другой день последовать за нами. Таким образом, мы оставили Москву с бодрым духом и довольные тем, что благодаря поспешному отъезду были избавлены от скучных прощальных визитов. <…>
Помнится, в апреле месяце получили мы оба от графа приглашение прибыть в его великолепное имение – Грузино. Приехав туда вечером, мы были тотчас отведены полицмейстером в назначенные для нас нумера, которых в особых флигелях находилось несколько десятков, весьма удобно устроенных. Нам подали и чаю, но с таким скудно-определенным количеством белого хлеба, что мы никак не могли им насытиться и просили добавления; слуга вернулся через несколько времени с извинением, что он не мог нигде отыскать графа, и мы тогда узнали, что поданная нам порция хлеба определяется им самим для каждого гостя и не может быть увеличена без его соизволения. Вскоре после того мы получили извещение явиться на другой день ко второму завтраку, после которого граф намерен с нами заняться. Таким образом, мы оказались свободными все утро до 12 час. и осмотрели это великолепное жилище, во многих отношениях едва ли имеющее себе подобное по чисто царской роскоши в отделке. Двухэтажное каменное здание скорее слишком мало для своего назначения, но выстроено и отделано с роскошным комфортом; вы могли там найти совершенно просто расставленными драгоценнейшие предметы из Парижа, Лондона и Италии, великолепнейшие картины и образцовые произведения знаменитейших ваятелей – большею частью подарки государя и царской фамилии, желавшей тем польстить привязанности графа к своему Грузину. Против дома, на расстоянии 150 саж. от него, стоит прекрасный собор, украшенный богатейшим образом; это единственная соборная церковь в частном имении. Между этими двумя зданиями выстроенные для гостей домики составляли красивую улицу. Парк величествен, и прекрасная река Волхов, на берегу которой он расположен, еще умножает его прелесть. Все это украшается множеством хозяйственных построек, в том же стиле сооруженных,– кладовыми, руинами и беседками. Целая флотилия, большею частью государем подаренная, во главе которой находилась построенная для государя
[194]
в Англии яхта, которая была отделана по-царски, вооружена матросами, под командою флотского офицера – все это вместе взятое придавало этому месту вид царской летней резиденции. Из парка можно было обозреть почти все имение, состоявшее с лишком из 3000 душ. Прекрасные деревни, множество домов с зеркальными стеклами, соединенные между собою шоссейными дорогами, представляли весьма живописную общую картину.
К имению принадлежит огромное пространство земли. На Волхове имеются луга, с которых, кроме сена, употребляемого во множестве на хозяйство, поступает в продажу до 20 тыс. пудов; таким же образом и лес, разбитый на участки, дает ежегодно от 8 до 10 000 руб. дохода. Казенные повинности крестьян обеспечены особым капиталом, процентами с которого они покрываются; равным образом помещены в банке особые капиталы: для ссуды крестьянам, для ремонта строений, словом, для всех правильно наступающих расходов по имению. И при всех этих нескончаемых выгодах сельское население чувствовало себя очень несчастным: деспотический характер графа ставил крестьянина в положение, которое не согласовалось с его бытом. Вообще все внутреннее и внешнее управление сопровождалось неумолимою строгостью и обременительною любовью к порядку. Обеденный стол графа был весьма хорош, но порции не должны были превышать известной меры: так, например, куски жареного или котлеты были определены по числу гостей, и горе тому, кто возьмет две котлеты: он мог рассчитывать на долгое преследование со стороны графа. Малейшая пылинка на стене, едва приметная для микроскопического наблюдения, имела последствием для слуги палочные удары и арест для чиновника.
Мне хотелось предпослать это описание Грузина и его управления, чтобы сразу дать живое понятие о человеке, который играл столь важную роль в судьбах России8.
В 12 часов явились мы в главное здание; нас провели немедленно в столовую, где мы были приняты графом не как подчиненные, а как дорогие гости знатного помещика. После завтрака и небольшой прогулки в парке, где он весьма благосклонно показывал нам все достопримечательное и водил нас даже в молочную,
[195]
весьма красиво устроенную, прошли мы в его кабинет, где он принял тотчас официальный, хотя и дружественный тон. Здесь мы были ознакомлены с ожидавшим нас назначением: нам предстояло определять линии построек9, приготовлять поля, луга и пастбища для новых поселенцев, для чего предоставлялось в наше распоряжение известное число батальонов; затем мы должны были наблюдать за окончательною обработкою полей, покуда они не достигнут вполне удовлетворительного состояния. Когда же мы, каждый по-своему, заявили, что мы не имели ни малейшего понятия о сельском хозяйстве, что осушение болот и оплодотворение земли не входило ни на практике, ни по теории в состав наших занятий, то суровое выражение отразилось на лице графа, и он сказал нам, что он не привык выслушивать подобные неосновательные отговорки, что всякий служащий обязан выполнять возлагаемые на него обязанности, что он не желает слышать ни о каких затруднениях и что мы должны готовиться к этому труду, без всяких возражений, несовместимых с служебными обязанностями.
Три дня нас приветливо угощали в Грузине; совершались прогулки сухим путем и водою на прелестной яхте и на роскошно убранном ялике, причем нас сопровождала музыка; часа по два ежедневно излагал он нам свои планы и предположения, и мы, однако, вновь утверждали, что при всем нашем желании мы, по незнанию, ничего не сумеем сделать путного. Наконец, он весьма милостиво отпустил нас с заявлением, что им уже даны нужные приказания для выполнения наших требований. Итак, мы покинули Грузино, чтобы поближе присмотреться к делу на месте и затем внимательно взвесить все эти обстоятельства, по отношению к нам лично.
Переехав в поселения, старались мы собрать все возможные сведения, относящиеся до их учреждения и до руководящих или основных положений,– и результатом наших изысканий были следующие данные, которые я, во избежание повторений, здесь излагаю в том виде, как они мною были усвоены лишь после 10-летней опытности.
Императора Александра 1-го весьма часто и болезненно смущала мысль, что солдат, выступая на защиту отечества, лишен даже утешения предоставить своей жене и детям особый кров, где он мог бы с уверен-
[196]
ностью найти их по окончании службы. Многие планы возникали в умах его приближенных, чтобы пособить этой нужде, но они все оказывались неудобоисполнимыми, тем более, что потребные к тому денежные суммы во многом превышали действительные средства государственной казны. Наконец, остановились на той мысли, что следовало воспользоваться находящимися в Новгородской губернии обширными поместьями казенного ведомства, для доставления нескольким полкам постоянных квартир, где бы они могли в мирное время заниматься хлебопашеством и ремеслами, пользуясь полным благосостоянием, причем и военные упражнения продолжались бы своим чередом, так что их участие в войне также от этого не пострадало бы, но, напротив того, защита собственного очага еще могла усилить их мужество. Этот проект удостоился полнейшего одобрения государя: его доброжелательной душе рисовались в будущем идиллии Геснера10, садики и овечки. Но граф Аракчеев сначала был решительно против этого и был вынужден изъявить свое невольное согласие лишь из опасения, что тот, кто примет на себя выполнение этой любимой мечты, может сделаться его опасным соперником. <…>
Что же касается до моего личного положения в военных поселениях и по отношению к графу Аракчееву, то оно обрисовалось довольно оригинальным образом. Я поступил под начальство графа подпоручиком 20-ти лет от роду. Избалованный своими прежними начальниками, с преувеличенными понятиями о чести и с твердо установившимся сознанием своего достоинства, я, собственно говоря, не был подготовлен к службе при человеке, который в своем умственном высокомерии едва ли считал своих подчиненных людьми и часто обращался с ними «en canaille» *. Так как многие другие молодые люди, разделявшие мои чувства, были прикомандированы к поселениям, как, например, известный скрипач Львов11, состоявший в то время поручиком путей сообщения,– то мы вначале постоянно прощались друг с другом на долгое время всякий раз, что граф требовал нас к себе, твердо решившись не выносить никаких грубостей; а естественным последствием подобного образа действий несомненно было бы заточение в Шлис-
* нагло (фр.).
[197]
сельбургские казематы. Но эти опасения продолжались недолго: наше строго выработанное, полнейшее подчинение, при твердом обращении, произвело на графа благоприятное впечатление, а строгое выполнение возложенных на нас обязанностей, без всякого внимания к личным затруднениям, нравилось ему, и хотя он называл нас своими «Carbonari», но обращался с нами учтиво и приветливо, так что мы, молодые и незначительные офицеры, находились в исключительном положении, по сравнению с важнейшими чинами, его окружавшими. Когда он желал досадить нам или выразить свое неудовольствие, он обращался к нам в третьем лице: «в наше время молодые люди делают» то и то; имеют «те или другие взгляды» и т. д., причем мы, по зрелом обсуждении, решились на эти косвенные нападки не возражать и не выказывать досады, что было весьма трудно выполнить, потому что он мастерски умел отыскивать и затрагивать чувствительнейшие струны человеческого сердца. В позднейшие годы случилось однажды, что после долгого подавления в себе досады, я, наконец, не выдержал, просил меня уволить по расстроенному здоровью и, выходя из его кабинета, захлопнул за собою дверь с такою силою, что оконные рамы задрожали. Вернувшись домой и придя в себя, я стал ожидать фельдъегеря и отправления в Шлиссельбург; фельдъегерь действительно явился, но для приглашения меня на другой день к обеду, за которым граф посадил меня подле себя и обращался со мною как с почетнейшим гостем. Объяснить этот кажущийся непонятным поступок психологически довольно легко: граф был взволнован, желал, в виде утешения, и меня вывести из себя и, когда это не удалось ему, то мое наружное хладнокровие еще более его раздражило; а затем, при возбужденном во мне раздражении, он почувствовал себя весьма удовлетворенным. Впоследствии я имел много случаев убедиться в справедливости моих выводов; в особенности в тех случаях, когда, как и в настоящем, высокое государственное положение графа исключало всякое подозрение о желании оскорбить его. В первые годы моей службы под его начальством, однажды сказал я ему: «Ваше сиятельство даете мне иные поручения, противоречащие моим убеждениям. Позвольте мне в таких случаях предъявлять вам мои соображения, и за это я вам обещаюсь, когда приказание ваше будет бесповоротно, исполнять его с таким же искренним усер-
[198]
дием, как если бы оно вполне согласовалось с моим мнением, разве только вы прикажете (чего трудно ожидать) исполнить что-нибудь вопреки моей совести. В сем последнем случае я, конечно, выскажусь вам почтительнейше и стану спокойно ожидать моей участи». Долго смотрел он на меня испытующим взглядом. Просьба моя, очевидно, была для него новостью, и он как будто не знал, что сказать на нее; но через несколько минут последовал спокойный и решительный ответ: «хорошо». Этим «хорошо» я воспользовался при первом случае; тогда в разговоре нашем он начал меня запутывать и забрасывать разными боковыми вопросами и замечаниями. На первых порах мне было чрезвычайно трудно защищаться против его сильной логики, великой изворотливости в речи и против несравненного преимущества направлять самому прение, а не подчиняться ходу оного. Впоследствии я приобрел нужную для того опытность и стал сдерживать свою горячность. Впрочем, он никогда не соглашался прямо с моим мнением, но при окончательном исполнении отдавал приказание, измененное на основании мною заявленных доводов; и нередко он делал мне же косвенный упрек, будто я не понял его как следует. Я, разумеется, отмалчивался, довольный тем, что достиг своей цели. Отлично зная людей, и притом специально искусившись в расследовании людских страстей и дурных склонностей, он пользовался этими познаниями с отменною ловкостью и лукавством. Самолюбие мое отлично им эксплуатировалось и доводилось до крайнего напряжения. Тогда я заметил, что очутился в его власти, и лишь после долгих усилий удалось мне освободиться от этих оков. Одно время выражал он мне желание ввести меня в свой тесный домашний круг, но так как он жил в разводе с своею женою, и его домашний быт олицетворяла собою личность, бывшая его любовницею и теперь еще находившаяся в двусмысленных к нему отношениях, то я счел неприличным отвечать согласием на подобное предложение. За это он никогда не выражал мне своей досады, и когда я даже один с ним обедал, то эта дама не появлялась к столу, хотя важнейшие сановники и светлейшие государственные вельможи постоянно ухаживали за нею и почитали за честь принимать участие в ее многочисленных и пышных собраниях. Такое внимание к утонченному чувству мелкого офицера заслуживает во всяком случае особенно благодарного призна-
[199]
ния, тем более, что оно проявляется весьма редко и, напротив того, навлекает часто преследование на главу непреклонного. По службе граф выказывал мне величайшее доверие; по моим аттестациям полковники и генералы получали благодарности или выговоры; он часто употреблял меня, чтобы сглаживать неудовольствия и придавать новое движение остановившимся предприятиям. <…>
Аракчеев происходил от древней, но весьма недостаточной фамилии Тверской губернии; как он мне сам рассказывал, все его воспитание обошлось в 50 руб. ассигнациями, выплаченных медными пятаками. По окончании курса в артиллерийском училище он долгое время давал уроки математики, попал, наконец, в Гатчину, где жил великий князь Павел Петрович, и заслужил его милостивое расположение. В царствование императора Павла мы видим его комендантом императорской главной квартиры и генерал-квартирмейстером, с редким в России титулом барона, живущим в Зимнем дворце и вскоре после того «выброшенным» из службы, как было буквально выражено в дневном приказе, и сосланным в его поместье Грузино, полученное им от государя в подарок. Поводом к этой последней катастрофе послужил, как мне передавал один из его близких родственников, следующий случай. Тогдашний барон принял незадолго до того в число своих приближенных одного иностранца, ему неизвестного, но которого ему рекомендовали с хорошей стороны и который числился в чине подполковника при нашем генеральном штабе. Однажды, в минуту сильного раздражения, барон высказал ему несколько глубоко оскорбительных слов, после чего подполковник решился застрелить Аракчеева и потом сам застрелиться. Он уже явился в Зимний дворец с заряженными пистолетами в кармане. Когда ему выяснили все безумие подобного поступка, то он, правда, отказался от него, но несколько дней спустя всадил себе пулю в лоб, оставив после себя письма к государю, наследнику и некоторым государственным сановникам. По этому случаю поднялась буря негодования против Аракчеева при дворе и в городе, и даже государь и наследник ожесточились против него, и совершилось то, что было выше сказано. Лишь за несколько дней до кончины Павла получил он прощение и был вызван обратно. Наследник никогда не отзывался об Аракчееве с выгодной стороны, и человеколюбивая, кроткая душа
[200]
монарха была слишком противоположна природе Аракчеева, чтобы можно было опасаться когда-либо сближения между ними; а между тем все-таки взяло верх соображение, что не следует оставлять без пользы такие замечательные дарования: ему была поручена артиллерия, находившаяся в то время в плачевном состоянии, и он ее совершенно преобразовал12 и, по крайней мере, приравнял к артиллерии, существовавшей в то время в остальной Европе. <…> Последовавшее затем создание военных поселений, хотя и не послужило к умножению его власти, но усилило милостивое к нему расположение государя, который питал к этому вопросу сердечное участие. Неожиданная кончина императора Александра застигла его на этой высшей ступени почестей, доступной для подданного, и император Николай также продолжал оказывать ему благоволение и уважение, как ближайшему сотруднику покойного монарха. Но тут сам собою начал возникать разлад. Новый государь желал действительно быть самодержцем, что и принадлежало ему вполне в силу божественного и человеческого права; а граф, напротив того, считал бразды правления своею принадлежностью. Этот разлад очень легко разрешился. Государь приказал управляющему собственною его канцеляриею, статс-секретарю Муравьеву перевести канцелярию из квартиры графа в Зимний дворец и докладывать ему дела лично, а не через графа. Государственный секретарь и управляющий делами Комитета министров были поставлены в непосредственные отношения к его императорскому величеству, и таким образом граф был устранен, причем даже не было потрачено ни одного листа бумаги. Только военные поселения были ему оставлены, но его честолюбие не могло этим удовлетвориться, и он просил отпуска за границу, причем обнаружились разные проявления, ясно свидетельствовавшие о его раздражительности и высоком о себе мнении, и оставленные императорскою фамилиею без внимания. За границею напечатал он на французском языке письма императоров Павла и Александра и некоторых других членов царской фамилии, адресованные на его имя, и так как он не испросил на это, как бы следовало, высочайшего соизволения и эти письма в некоторых отношениях не могли быть напечатаны, то все наши посольства получили повеление препятствовать их появлению в свет и перекупить все уже изданные экземпляры, так что, сколько мне известно, действительно
[201]
из них ничего не сохранилось в обращении. Что затем совершилось,– неизвестно: отказался ли он добровольно, или вследствие полученного внушения от официального значения, это составляет тайну между ним и императором Николаем и могло быть известным лишь весьма немногим; но достоверно одно, что он прямо отправился в Грузино, что ему оставлено все его содержание и дом в Петербурге и, согласно его желанию, предоставлено в его распоряжение несколько чиновников. Здесь мог бы он при наступившей старости, благополучно и в почете довершить свое земное существование, пользуясь теми отличиями, которые и теперь еще часто оказывались ему от царских щедрот, и при таких доходах, которые несравненно превышали все его потребности; но честолюбие – такой червь, который никогда не умирает в отчужденном от бога смертном, и к этому еще присоединилось болезненное опасение, при всем своем избытке, умереть с голоду. Словом, он влачил жалкое существование и умер не примиренный с собою, без утешения и отрады; ни единая слеза сострадания не омочила его смертного одра. Так как в силу сохранявшегося по повелению императора Александра в Сенате духовного завещания его, титул графа Аракчеева должен был перейти к его наследнику, а между тем этот наследник им указан не был, и по смыслу самого завещания назначение наследника предоставлялось в подобном случае на усмотрение государя, то император Николай, по вскрытии духовного завещания, предоставил его наследство Новгородскому кадетскому корпусу, который и поныне носит название «Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса» и пользуется всеми доходами с его весьма значительного имущества.
Коснувшись таким образом внешней стороны деятельности графа, насколько я сам был тому свидетелем, и затем вкратце и последующего ее развития, я полагаю, что я обязан упомянуть и о внутренней жизни этого бесспорно замечательного человека, чтобы выяснить причину его необычайного государственного положения.
Что Аракчеев был человек необыкновенных природных способностей и дарований, едва ли может быть подвержено сомнению со стороны тех лиц, кто его хоть несколько знал и кто не увлекался безусловно своими предубеждениями. Быстро охватывая предмет, он в то
[202]
же время не лишен был глубины мышления, когда сам того желал и когда она не вовлекала его в противоречия с предвзятыми его намерениями. Его образование ограничивалось математикою и военными науками, в которых он обладал обширными познаниями; история и литература промелькнули мимо него, оставив, впрочем, за собою некоторый след; но история, как основание государственного развития и вообще государственное право, были ему вполне неизвестны, и он даже почитал все возникшие на этой почве понятия и теории совершенною бессмыслицею и весьма искусно умел осаживать и осмеивать людей, которые толковали об этом заученными и отрывочными фразами. Его религиозные понятия были, так сказать, церковные, и он строго придерживался предписанных в этом отношении правил; но во внутреннюю его жизнь перешло из них весьма немногое: недоставало смирения, и при полнейшем отсутствии самосознания, религия любви не могла утвердиться в его сердце и затем отразиться в его внешней жизни. Ему казалось, что он стоял одиноким, что его высота была умственно недосягаема, и с этого воображаемого величия взирал он на бедное человечество и пользовался его слабостями и страстями для достижения своей цели и для усиления своего безгранично возраставшего самолюбия. Поистине редкая и строго направляемая деятельность, необыкновенная правильность в распределении времени и воздержание от безмерного пользования плотскими наслаждениями давали ему очевидную возможность совершать более того, что могло быть сделано обыкновенным путем, и служили в его беззастенчивой руке бичом для всех его подчиненных. Но его нравственные правила были нетверды; у него почти постоянно были незаконные связи, и при этом он часто хвалился своим воздержанием. Жена его лишь несколько дней могла вынести сожительство с ним, потому что он желал в то же время удержать при себе свою любовницу; они расстались и с тех пор не хотели уже знать друг друга.
Его отношения к императору Александру отличались ловкостью и тонким расчетом, но их нельзя было назвать честными. Под личиною строгой любви к правде и попечения о государственном благосостоянии он часто весьма грубо и непочтительно возражал ему; но как только он замечал, что государь не желает отступаться от задуманного им намерения, то он тотчас убеждался
[203]
его доводами и покорялся его верховным соображениям. При этом, подделываясь под чувствительное настроение монарха, он часто предавался нежностям и выказывал, подчас как бы невольно, сентиментальную преданность к государю, в виде неудержимого порыва, чем успевал действительно внушить доверчивому монарху дружеское к себе расположение, которое иначе могло бы казаться непонятным. За решительным отклонением всякой награды и всякого официального повышения скрывалось, под видом смирения, неограниченное высокомерие человека, который и без того почитался бесспорно первым лицом в государстве после его императорского величества.
Его обращение с товарищами по службе было повелительное и весьма часто бессовестное и грубое. Обнаруживалось иногда и милостивое снисхождение; но я думаю, что едва ли кого-либо считал он своим сотоварищем. По общей служебной иерархии, он, как генерал от артиллерии и член Государственного совета, не составлял еще особенно выдающейся личности, но его неофициальное положение возвышало его над всеми и придавало ему совершенно исключительное значение. Вследствие этого председатель Государственного совета князь Лопухин13 (собственно говоря, непосредственный его начальник) и действительный тайный советник Куракин, председательствовавший часто во многих комитетах, где граф состоял простым членом, относились к нему как покорнейшие его слуги, принимали с глубочайшим уважением все его приказания, подчинялись всяким с его стороны дерзостям, ухаживали за его любовницею и с величайшей поспешностью кидались к графу, когда ему недоставало партнера за карточным столом. Чего домогались эти две личности, которые принадлежали к знатнейшим фамилиям, обладали большим состоянием и уже пользовались всеми возможными государственными отличиями, довольно трудно понять. Это может объясниться лишь безгранично и бесцельно возбужденным честолюбием. Весьма немногие не следовали этому примеру или сохраняли, по крайней мере, некоторое собственное достоинство, но большинство высших сановников в столице поклонялись той высокой власти, которую он держал в своих руках. При этом он умел быть весьма любезным в своем снисхождении, в особенности в Грузине, где он желал разыгрывать роль простого дворянина, хотя и тут весьма часто про-
[204]
являлись его тигровые когти. На станции Чудове, верстах в 20-ти от Грузина, был выставлен флаг, который, подымаясь или опускаясь, возвещал, принимает ли граф в своем Грузине, так что высшие сановники нередко вынуждены были из Чудова возвращаться в Петербург, не достигнув своей цели. Его требования по отношению к подчиненным были неограниченны и безмерны14: все семейные связи следовало приносить в жертву службе, т. е. ему. Здоровье оставлялось без внимания до самого крайнего изнурения. Смертельная болезнь жены или ребенка не могла прервать служебных обязанностей ни на минуту; однажды он спросил одного штаб-офицера, который со слезами на глазах объяснял незначительное промедление по службе смертью своей жены: «А что мне за дело до смерти твоей жены?» Другой, по причине страдания в легких и совершенного физического расслабления, не мог подняться на лестницу к месту своего служения; он велел ему сказать, что если он тотчас не явится, то он заключит его в каземат, и тот, разумеется, немедленно взобрался наверх и на сделанный ему мною упрек возразил, что его здоровье в сущности еще более могло бы пострадать в каземате. После четырехмесячной нервной горячки, от коей я был спасен одним лишь божественным чудом, граф навестил меня в то время, когда два рослых солдата водили меня по комнате, и я, собственно, не мог еще вполне владеть ногами. Он сказал, что «я скучаю», и прислал мне на другой день работу, которою и затем продолжал постоянно снабжать меня, так что я впоследствии поплатился за это в течение многих лет сильнейшими нервными страданиями. С этою неумолимою бесчувственностью ко благу и вреду своих подчиненных соединял он в себе самое низкое лукавство. Так, например, держался он того правила, что следует каждому обещать настолько, чтобы побудить его к самой сильной деятельности, но не следует спешить выполнением этого обещания, чтобы рвение не охладилось и привлекательная цель всегда оставалась бы перед глазами.
И, однако, этот человек, для которого чувство не имело никакой цены, предался самым диким выходкам, когда умертвили женщину, которая некогда была его любовницею15 и затем не переставала удерживать за собою его привязанность. Он вполне отказался от служебных обязанностей, удалился в Грузино, отпустил себе бороду, носил на шее платок, омоченный ее кровью,
[205]
стал дик и злобен и подвергал ужаснейшим истязаниям множество людей, которые на деле или только помыслами участвовали в убийстве или могли, хотя косвенно, знать о том. Но и его постигли кары небесные еще при жизни. Кроме того, что в самом непомерном его самодовольстве уже заключался зародыш того червя, который, видимо, подтачивал его сердце и еще усиливал муки уязвленного честолюбия, по воле всевышнего еще был у него живой бич, причинивший ему немало раздражения, в особенности во время его заграничного путешествия. Он считал себя отцом одного незаконнорожденного сына, которого воспитал в Пажеском корпусе и затем возвел в гвардейские офицеры и флигель-адъютанты императора Александра; этот молодой человек был одарен (насколько я его знавал) отличными способностями, привлекательною наружностью и большим природным добродушием. Хотя, говорят, впоследствии обнаружилось, что он не был сын Аракчеева, но граф все же сохранил к нему свою прежнюю привязанность. Этот юноша с ранних лет предавался разным увлечениям, в особенности пьянству; бывали минуты отрезвления, но продолжались недолго. Во время несчастной катастрофы убийства графской любовницы и следовавших затем жестокостей, которые его сильно возмутили, он обратился к графу с настоятельными увещаниями в пользу обреченных жертв и, не достигнув своей цели, предался, безусловно, пьянству и довел эту страсть до крайних пределов к тому времени, когда ему пришлось сопровождать графа в его путешествии по Германии и Франции.
В припадках опьянения, когда граф пытался удержать его от дальнейших кутежей, он, говорят, с поразительною наглядностью выставлял ему зеркало его собственной жизни, и с таким жаром, что передававший мне о том мой сослуживец доктор Миллер, который бывал иногда третьим лицом при этих часто повторявшихся сценах, приходил от них в трепет. В течение многих месяцев граф выносил эти тяжелые минуты, но потом пробужденная совесть, вероятно, слишком сильно заговорила, и он расстался навсегда с своим обличителем. Шумский (так звали молодого человека) прошел все ступени погибели, погряз впоследствии в самой темной среде и умер преждевременно от последствий своего разврата. Тот же Миллер, мой почтенный друг, пользовавший графа в продолжение десятков лет, находился
[206]
также при его смерти, когда он, цепляясь за жизнь с безграничною тоскою, не хотел думать о последнем часе и отталкивал от себя всякое о нем напоминание; а равно и не решался, под влиянием овладевшего им ужаса, дополнить свое завещание, хотя и намеревался это сделать в здоровом состоянии.
Если я несколько подробно изложил этот характеристический очерк, то поводом к тому послужило мне убеждение, что я изучил характер этого человека, игравшего столь значительную роль в истории России, несравненно ближе и имел гораздо более к тому случаев, чем большинство его окружавших, и что другим могло недоставать беспристрастия, которому я, по крайней мере сознательно, никогда не изменял; причем я не могу сообщать никаких анекдотов из «chronique scandaleuse» * графа и не хочу передавать того, что не могло бы служить к разъяснению его характера. <…>
Если теперь спросить: были ли военные поселения плодом мудрости и человеколюбия, сделали они солдата счастливее и его семейные отношения разумнее, доставили они государству опору, ратующую за свой очаг силу и сократили ли они огромные затраты на содержание действующих армий,– то на все эти вопросы приходится отвечать решительным «нет», в особенности по отношению к северным поселениям пехоты, состоявшим под непосредственным наблюдением графа. Уже самый выбор местности может почитаться роковым. <…>
В Могилевской губернии была избрана обширная волость, и ее население в несколько тысяч человек было переселено в Херсонскую губернию, но из них лишь весьма немногие достигли места своего назначения; остальные погибли с отчаяния, с тоски по родному жилью, от пьянства, от голода, по собственной вине причиненного, и от полнейшего уныния, и сошли в безвременную могилу во время самого переселения. Я забыл настоящую цифру погибших, но она была ужасна; говорят, что это известие повергло императора Александра в величайшее горе. На их место поступил батальон солдат, отвыкших от земледелия, вполне незнакомых с местностью, недовольных своим новым назначе-
* скандальной хроники (фр.).
[207]
нием, лишенных опытных руководителей; и потому они страшно бедствовали и долго не могли обеспечить себе даже самое жалкое существование. <…>
Внешний порядок был тягостен, так что соблюдение его отвлекало поселян и их жен от работы. Все это и еще множество других затруднений, проистекавших от неумения и деспотического произвола, при полнейшем невежестве, возбудило среди солдат неудовольствие и отчаяние, еще усугубленные бесцельною жестокостью обращения, так что это учреждение в общей его сложности представляло по своему внешнему, поверхностному виду нечто весьма блестящее, но внутри его преобладали уныние и бедствие. <…>
[208]
ИППОЛИТ НИКОЛА ЖЮСТ ОЖЕ
(25.V.1796 или 1797–5.1.1881)
Судьба Ипполита Оже круто повернулась в тот самый момент, когда в Париж вошли русские войска. Семнадцатилетний мальчик, наделенный воображением и изрядным легкомыслием, очень быстро ощутил пронесшийся над Францией ветер перемен. «В Париже,– писал он,– быстро привыкают ко всякому новому положению, как бы противоположно оно ни было прежнему. Не прошло недели, как все уже примирились с присутствием победителей»1. Победители привлекали внимание и вызывали его жгучее любопытство.
Случилось так, что в доме, где постоянно бывал Ипполит Оже, появилось несколько русских офицеров. Они вели себя доброжелательно; Оже, наделенный от природы обаянием, старался завоевать их расположение. Кстати сказать, это качество и в ту пору, и несколько позднее, помогало Оже быстро и легко сходиться с людьми, так что круг его знакомств был широким и разнообразным. Желание нравиться сказалось и в его записках, где Оже нередко кокетничает и с читателем, и с самим собой.
Вернемся, однако, в Париж, в дом на улице Серютти, где Ипполит Оже обедает и ведет задушевные беседы с русскими офицерами. Казалось бы, победители должны были вызывать у французов недобрые чувства, но это было не так: отношения между победителями и побежденными на этот раз носили иной характер. Во всяком случае, так утверждал И. Оже: «Казалось, они вошли в Париж не как победители, но просто съехались случайно, из любопытства, из простого желания пожить всем вместе» (№ 1, с. 56).
1 Из записок Ипполита Оже.– «Русский архив», 1877, № 1, с. 53. Далее номер и страница журнала будут указаны в тексте в скобках.
[209]
Очень скоро Оже стал своим в этой компании. Молодой, веселый, остроумный и услужливый, он был не только приятным собеседником, но и неплохим гидом. Прогулки по Парижу и его окрестностям, совместные посещения театров сблизили русских офицеров с Оже еще более.
Прошло немного времени, и один из офицеров пригласил Оже поехать вместе с ним в Россию.
– Но что же я буду делать в России? – спросил Оже,
– Что умеете.
– Увы! Я ни на что не способен.
Несколько дней прошло в томительных сомнениях. «Охота к перемене мест», желание посмотреть мир, честолюбивые замыслы быстро взяли верх над сомнениями. Ему было только семнадцать лет, и в России он надеялся обрести не новую родину, но почву, где развернутся и будут признаны его таланты. В том, что они у него есть, он не сомневался. Впрочем, самоуверенность как-то причудливо сочеталась в нем с нерешительностью. Он полностью положился на своих новых знакомых.
Ему предложили вступить в русскую армию.
– Поднять оружие против своего отечества? – возмутился Оже.
– У нас теперь мир,– успокоили его офицеры.
Об Оже поговорили с великим князем Константином Павловичем, имевшим слабость к французам, и дело быстро уладилось. Вместе с русской армией подпрапорщик Измайловского полка Ипполит Оже отправился в Россию на поиски счастья.
Ф. Ф. Вигель познакомился с Оже вскоре после его приезда в Петербург. Много позднее он вспоминал о нем: «Это был <…> малый очень добрый, но вооруженный чудесным бесстыдством; он, не краснея, говорил о великих своих имуществах во Франции…»1
Вигель, не упускавший возможности сказать о ком-нибудь ядовитое слово, вероятно, на этот раз был прав. Приехав в Россию, Оже вел себя как желанный гость, был принят во многих домах и отнюдь не беспокоился о том, чтобы обеспечить свое существование. Примечательно, что в воспоминаниях, написанных в весьма почтенном возрасте, Оже признается в этом с чисто юношеской беспечностью и простодушием: «Так как капи-
1 Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2.–М., 1928, с. 126.
[210]
тан мой еще до отъезда из Франции взял меня на свое попечение, то мне не приходилось беспокоиться. Прислуга его заботилась об устройстве жизни и о доставлении материальных удобств: постель моя была всегда готова, прибор стоял на столе, платье вычищено, и все это делалось без моего ведома: я пользовался вполне гостеприимством хозяина» (№ 1, с. 66).
В Петербурге Оже вел светскую жизнь, участвовал в любительских спектаклях; военная служба не докучала ему. Он взял учителя русского языка и кое-как выучился читать и писать по-русски, а для практики занялся переводами с русского на французский язык. «Я переводил слово в слово образцовые произведения литературы, а потом построчный перевод переделывал в изящную французскую речь и иногда довольно удачно передавал смысл оригинала. Таким образом я перевел «Марфу Посадницу» Карамзина. Вигель похвалил мой перевод, и я его издал в Париже в 1818 г. Перевод имел успех» (№ 2, с. 257).
Не лишним будет заметить, что Вигель рассказывает об этом переводе совсем по-иному: «За несколько времени до выезда из Пензы, чтобы чем-нибудь развлечь грусть свою и занять ум, перевел я на французский язык «Марфу Посадницу» Карамзина»1.
В 1816 г. Вигель встретил Оже в Париже. Оже ознакомился с рукописью, «нашел, что не худо бы ее напечатать, а я предоставил ее в полное его владение. Кто бы мог ожидать? За нее книгопродавец предложил ему полторы тысячи франков. <…> Она вышла в свет как сочинение г. Оже и подражание Карамзину»2.
Оставим эту темную, до сих пор не выясненную историю на совести мемуаристов и обратимся к марту 1815 г.
Возвращение Наполеона с острова Эльба прервало литературные занятия Оже, его светские развлечения и совершенно нарушило его планы. Русская армия выступала из Петербурга. Оже отправился вместе со своим полком. Вот тут-то и произошло то, что составляет для нас главный интерес в записках Ипполита Оже,– он познакомился с раненным на дуэли М. С. Луниным. Об отношениях с будущим декабристом Оже живо рассказал в своих воспоминаниях. В них Лунин несколько
1 В и г е л ь Ф. Ф. Записки. Т. 2, с. 127.
2 Там же, с. 128.
[211]
иной, чем мы представляем себе его, читая другие мемуарные источники. Кажется, будто Оже отчасти наделил Лунина свойствами своей натуры. Что ж, с мемуаристами это бывает не так уж редко. Зато Оже сообщил много такого, о чем мы не узнали бы вовсе, не будь его записок. В частности, о совместной поездке во Францию.
Они поселились в Париже и «решились жить так, чтоб не мешать друг другу, не требовать доверенности и вообще во всем предоставлять один другому полную свободу…» (1877, № 5, с. 56). Так прожили они до того дня, когда Лунин внезапно получил известие о смерти отца и, оказавшись наследником значительного состояния, решил вернуться в Россию.
С отъездом Лунина из Франции как бы завершается для нас и биография Ипполита Оже. Он прожил долгую жизнь, был журналистом, драматургом, писал романы. Некоторые из них были посвящены русской истории. Не прерывал Оже своих связей и с русскими друзьями. «Результатом моих постоянных сношений с русскими была вторичная моя поездка в Россию в 1845 г.» (№ 5, с. 68).
Но о поездке этой, как и о дальнейшей судьбе Ипполита Оже, известно не много. Вигель, встречавшийся с ним в Париже, писал: «С легкой руки моей пошел он в гору, только поднялся невысоко. Гораздо позже случалось мне если не читать, то пробегать его печатные романы, и я находил, что они ничем не хуже многих краткожизненных своих собратий»1. На сей раз Вигель ошибся: Оже добился признания – если не как романист, то как театральный деятель. Особое внимание специалистов в конце тридцатых годов XIX в. привлекли его работы «Физиология театра».
В своей книге о Лунине Н. Эйдельман отметил то, чем интересны и ценны для нас записки Ипполита Оже: «Уважение к этим запискам за последние годы выросло, так как некоторые факты удалось точно проверить.<…> Не заведи Лунин столь склонного к писаниям приятеля, не будь этот приятель французом, запомнившим то, что в России полагалось забывать, и не вздумай он в глубокой старости опубликовать свои записки (пусть несколько приукрашенные), «не было бы» целого года, наполненного интересными событиями, как «не было» многих других, не менее интересных лунинских лет»2.
1 Вигель Ф. Ф. Записки.–М., 1928, т. 2, с. 128.
2 Эйдельман Н. Лунин.– М., 1970, с. 35.
[212]
<…> Гвардия остановилась в Вильне. На другой день после нашего прихода туда я встретился у самого дома, где нам была отведена квартира с графом Эдуардом Шуазелем. Он шел навестить знакомого офицера, раненного на дуэли, который жил в том же доме. Мы обменялись несколькими словами, и на возвратном пути он вошел ко мне.
– У меня есть к вам просьба,– сказал он.– <…> Михаил Лунин, кавалергардский полковник, лежит раненый в этом доме и, может быть, еще долго не встанет. Скука для него хуже всякой болезни. Он был бы очень вам благодарен, если бы вы иногда навещали его.<…>
Лунин был известен за чрезвычайно остроумного и оригинального человека. Тонкие остроты его отличались смелостью и подчас цинизмом, но ему все сходило с рук. По-видимому, он мне очень обрадовался. <…>
Так началось мое знакомство с Луниным, скоро обратившееся в дружбу. Обстоятельства впоследствии разлучили нас. Смелый на слова, он не струсил и перед делом. Он был одним из зачинщиков возмущения 14 декабря и кончил жизнь в Сибири. Это был человек замечательный во всех отношениях, и о нем стоит рассказывать.
Когда я познакомился с Луниным, ему было лет 26. Рана, которую он получил на дуэли, была довольно опасна: пуля засела в паху, и он должен был перенести трудную операцию. Его бледное лицо с красивыми, правильными чертами носило следы страданий. Спокойно насмешливое, оно иногда внезапно оживлялось и так же быстро снова принимало выражение невозмутимого равнодушия; но изменчивая физиономия выдавала его больше, чем он желал. В нем чувствовалась сильная воля, но она не проявлялась с отталкивающей суровостью, как это бывает у людей дюжинных, которые непременно хотят повелевать другими. Голос у него был резкий, пронзительный; слова точно сами собой срывались с насмешливых губ и всегда попадали в цель. В спорах он побивал противника, нанося раны, которые никогда не заживали; логика его доводов была так же неотразима, как и колкость шуток. Он редко говорил с предвзятым намерением; обыкновенно же мысли, и серьезные, и веселые, лились свободной, неиссякаемой струей; выражения являлись сами собой, непридуманные, изящные
[213]
и замечательно точные. Он был высокого роста, стройно и тонко сложен, но худоба его происходила не от болезни: усиленная умственная деятельность рано истощила его силы. Во всем его существе, в осанке, в разговоре сказывались врожденное благородство и искренность. При положительном направлении ума он не был лишен некоторой сентиментальности, жившей в нем помимо его ведома: он не старался ее вызвать, но и не мешал ее проявлению. Это был мечтатель, рыцарь, как Дон Кихот, всегда готовый сразиться с ветряною мельницею, чему доказательством могла служить последняя дуэль.
Хотя я с первого раза не мог оценить этого замечательного человека, но наружность его произвела на меня чарующее впечатление. Рука, которую он мне протянул, была маленькая, мускулистая, аристократическая; глаза неопределенного цвета, с бархатистым блеском, казались черными; мягкий взгляд обладал притягательною силою. Я не чувствовал ни страха, ни смущения, но он сильно возбудил мое любопытство. Обращался он со мной с ласковою снисходительностию; но разговор, начавшийся шуткой, оживил нас и сразу сблизил: не высказываясь еще вполне, мы невольно почувствовали, что в нас много общего, несмотря на его очевидное превосходство. Мы оба отличались отважным характером, понимали и чувствовали одинаково. Но разница в общественном положении делала то, что мы на многое смотрели различно; разногласие выразилось с самого начала по поводу России и моего поступления в русскую армию. Русский не мог судить о причинах, побудивших меня к тому, да я и не считал пока нужным говорить ему о них; он же не понимал или делал вид, что не понимает, каким образом француз мог покинуть свое отечество и ехать в варварскую страну. Француз, с своей стороны, не мог понять, как это русский считал себя варваром, когда все в нем: умственное развитие, язык, манеры, привычки – служили опровержением этого мнения и свидетельствовали о существовании высшей, утонченной цивилизации.
После первого свидания я уже не покидал Лунина, до самого моего отъезда из Вильны. Нам было хорошо вместе, и я был счастлив, что мог доставить ему развлечение. Впрочем, он не оставался в одиночестве: офицеры часто навещали его; но я чувствовал по особенному тону, который он принимал в таких случах, что
[214]
он покорялся своей участи, выслушивая их пустую, шумливую болтовню. Не то чтобы он хотел казаться лучше их; напротив, он старался держать себя как и все, но самобытная натура брала верх и прорывалась ежеминутно, помимо его желания. Ему и в голову не приходило, чтобы я мог наблюдать за ним. У него этой способности не было; он не тратил времени на размышление; мысли у него являлись по вдохновению огненного воображения; он бесстрашно покидал мир известного, стремясь к новому, неизведанному; он смело шел вперед, веря, как Колумб, что земля кругла и что, плывя, можно куда-нибудь доплыть. Вот отчего и происходили все его эксцентричные выходки, кончившиеся плохо для него. Когда я во второй раз приехал в Россию в надежде найти средства к независимому существованию, я должен был явиться к графу Бенкендорфу, бывшему тогда шефом жандармов. Первый вопрос, с которым он обратился ко мне, был:
– Вы, кажется, хорошо были знакомы с Луниным?
– Да, ваше сиятельство. Мы жили вместе в Париже, но с тех пор я не имел от него никаких известий, так что мне казалось, что он забыл меня, и я обвиняю его за то.
– Это доказательство, что он вас уважал.
– Я узнал, что он был замешан в возмущении 14 декабря.
– Точнее сказать, он замешал туда других.
– Будьте так добры, скажите мне, какая участь постигла его?
– Он умер… в рудниках… И там он продолжал предаваться безумным надеждам… Он был неисправим.
– Ваше сиятельство, могу вас уверить, что я ничего не знал о его планах.
– Нe тревожьтесь: нам все известно. Можете жить спокойно.
Возвращаюсь к прерванному рассказу.
Лунин выздоравливал; он уже мог садиться и вставать. Я ухаживал за ним, поддерживал его слабые шаги, но самое главное – я служил для него развлечением: со мной он мог говорить обо всем. Он был в Париже в 1814 году1 и воспользовался этим, чтобы изучить социальное положение или, лучше сказать, организацию Франции, сравнительно с Россией. В то время как другие наслаждались парижскою жизнию, он изучал ее, стараясь все понять и отдать себе отчет в том,
[215]
что зовется цивилизацией. Внимание его равно привлекали как лица, стоявшие во главе правления, так и низшие управляемые классы народа. Ему все хотелось видеть, знать, понимать, чтобы потом рассказать на родине. Видя, как он интересуется моим детством и юностью, о которых он заставлял меня рассказывать, я понял, что для него мелкие житейские подробности казались так же существенными, как и крупные стороны жизни… Он заставил меня также прочесть ему стихи, предупредив, впрочем, что он хотя любит поэзию, но враг стихов. В рассуждениях его по этому поводу была своя доля правды; он говорил: «Стихи – большие мошенники; проза гораздо лучше выражает те идеи, которые составляют поэзию жизни; она больше говорит сердцу развитых и умных людей, чем плохо рифмованные строчки, в которых хотят заковать мысль, в угоду придуманным правилам и в ущерб смыслу: двигаются бедные мысли по команде, точно солдаты на параде, но на войну не годятся; победы одерживает только проза. Наполеон побеждал и писал прозой, мы же, к несчастию, любим стихи. Наша гвардия – это отлично переплетенная поэма, дорогая и непригодная. Я знаком со всеми замечательными произведениями французской литературы, но люблю только стихи Мольера и Корнеля за их трезвость; рифма у них не служит помехою. В прозе же Шатобриана2, наоборот, я все ищу рифмы и не нахожу, конечно; оттого я и не люблю ее. То, что называют поэзией, т. е. стихи, годится как забава для народов, находящихся в младенчестве. У нас, русских, поэты играют еще большую роль: нам нужны образы, картины; Франция уже не довольствуется созерцанием, она рассуждает. Впрочем,– продолжал он,– я человек справедливый и не требую невозможного». И тотчас же после такого предисловия Лунин потребовал, чтобы я ему прочел описание в стихах дороги от Петербурга до Вильны, сочиненное мною от нечего делать.
– Ну,– сказал он,– это я еще понимаю: содержания тут нет никакого, потому что вам нечего сказать; стало быть, вы и занялись обработкой формы, чтоб даром не пачкать бумаги. Стих у вас бойкий, живой; но какая цель? И сколько чернил даром потрачено! Нет, я вижу, у вас большой ум; надо вас вылечить и сделать достойным писать прозой. Прочтемте вместе Боссюэта3и Вольтера, самого умного между всеми вашими писателями, несмотря на то, что он писал иногда стихами,
[216]
как, например, об Иоанне д'Арк4: эта ваша единственная эпическая поэма. Сравнивают поэзию с музыкой, да разве это возможно? Музыка свободна, она может быть и туманной, и вполне ясной; поэзия, т. е. стихи, всегда связана; ей выбора нет, она всегда туманна, даже когда желает быть ясной. Я тоже поэт, но поэт без слов: я никому не навязываюсь, но предоставляю каждому понимать меня, как он хочет и как он может. Вот я велю привезти фортепьяно и познакомлю вас со своею поэзией.
– Разве вы музыкант?
– В обыкновенном смысле слова – нет. Инструмент для меня то же, что для вас перо,– средство для выражения мыслей и чувств. Я не знаю ни одной ноты, но, несмотря на это, я заставлю вас прочувствовать то, что сам чувствую. Я думаю, когда люди еще не умели говорить, то музыка служила вместо слов… Первые сношения между ними начались таким образом. Впрочем, вы недурно пишете стихи, мой юный друг; только, если хотите подражать, то подражайте Мольеру и Корнелю, но никак не Парни5. Я допускаю легкие стишки, для которых необходима музыка: пустяки, которые не стоит говорить, можно пропеть. Но когда затянут скучную историю без конца, то поневоле задумаешься о своих собственных делах, а это неприятно, если дела плохи. Напишите мне какую хотите шансонетку или романс, и когда у меня будет фортепьяно, я ручаюсь, что сумею сделать ее сносной. <…>
Я должен предупредить читателя, что, как бы подробно я ни описывал Лунина, все-таки я не в состоянии дать о нем полного понятия: эта многосторонняя, причудливая натура была неуловима в своих проявлениях, хотя в глубине ее лежала одна неизменная мысль. Он нарочно казался пустым, ветреным, чтобы скрыть ото всех тайную душевную работу и цель, к которой он неуклонно стремился.
На другой день, когда я вошел к Лунину, настройщик приводил в порядок только что привезенное фортепьяно. Как только он ушел, Лунин сел за инструмент и опросил: сдержал ли я слово и готов ли мой труд?
– Лучше не называть это трудом,– отвечал я,– я импровизировал романс, чтобы сделать вам удовольствие.
– В таком случае, если мы откроем лавочку, то фирма будет называться: соединенное общество импрови-
[217]
заторов. Ну, говорите: я слушаю. Как называется ваш романс?
– Вы один из сотрудников, вы и придумайте название.
Я проговорил три куплета, каждый оканчивался припевом: Я слишком стар, мне семнадцать лет.
– Название найдено: Русский в 1815 году.
– Если так, то я слагаю с себя всякую ответственность.
– Как! – вскричал он,– вы не знаете, что сказал Наполеон: не созрели, а уже сгнили. Мы… потомки Екатерины II6.
– Которую Вольтер назвал Екатерина Великий, полковник!
– Великий! А дальше что? Вольтер был льстец. А впрочем, и для этого прозвания, с мужским окончанием, можно пожалуй, подыскать причины…
Он взял несколько аккордов, сделал прелюдию и перешел в какой-то мотив. В игре его была замечательная твердость и быстрота.
– Вы музыкант, не отрицайте этого!
– Ну да! Я играю, все равно как птицы поют. Один раз при мне Штейбель давал урок музыки сестре моей. Я послушал, посмотрел; когда урок кончился, я все знал, что было нужно. Сначала я играл по слуху, потом вместо того, чтоб повторять чужие мысли и напевы, я стал передавать в своих мелодиях собственные мысли и чувства. Под моими пальцами послушный инструмент выражает все, что я захочу: мои мечты, мое горе, мою радость. Он и плачет и смеется за меня. Я бы мог назвать ваш романс «Разочарованный Михаил», но не решаюсь из скромности.
Так прошло несколько дней. Но скоро был объявлен обратный поход в Петербург.
– До свидания! – сказал он на прощание: – Я никогда не забуду, что выздоровел благодаря вам.
– А я буду помнить, что не захворал благодаря вам. <…>
Вернувшись в Петербург, я скоро почувствовал свое одиночество: моего друга, капитана, не было в Петербурге. Я очутился в затруднительном положении и вздумал обратиться за советом к Вигелю. В расположении его ко мне я не сомневался, но этот замечательный, умный человек оказался несостоятельным в практической жизни: он и со своими делами не знал, как спра-
[218]
виться. Пришлось выпутываться самому, и это уменье, приобретенное мною тогда, пригодилось мне и впоследствии. Я чувствовал себя одиноким, но не упал духом, хотя прежнего спокойствия и уверенности во мне уже не было: я чувствовал, что плыву по бурному морю и каждую минуту могу разбиться о нежданные подводные камни, называемые случайностями. Опытности у меня еще быть не могло, но уже поступками моими начала управлять инстинктивная осторожность и благоразумие. <…> При этом воспоминание о Лунине не покидало меня; чем более видел я людей, тем более начинал ценить его оригинальность и зрелость мысли. В разлуке его влияние, подкрепляемое собственным размышлением, получало еще большую силу. С величайшим нетерпением ожидал я его приезда, расспрашивал всех и каждого, и никто не мог мне ничего сказать. Наконец я решился осведомиться о нем чрез письмо к сестре его Уваровой, горячо любившей брата. Она пригласила меня приехать к ней, Прежде всего она меня поблагодарила за брата.
– Миша писал мне, как вы ухаживали за ним и как полезно было для него ваше общество. Я вам очень благодарна и весьма рада, что могу это высказать.
– Напротив, я должен быть благодарен вашему брату; с нетерпением жду его приезда. Здоров он?
– Да, рана его совсем зажила, но ему советовали проехаться. Мы его ждем каждый день.
В эту минуту вошел ее муж7.
– Вот кто так хорошо ухаживал за моим братом,– сказала она, обращаясь к нему.
Обращение Уварова, отличавшееся искренностью, произвело на меня очень хорошее впечатление.
– Благодарю вас за него,– сказал он,– вы много сделали для него; я знаю, как дорого участие в минуты страдания.
Генерал Уваров был тяжело ранен в последнюю войну, и на лице его были еще видны следы недавней болезни.
Что касается до Уваровой, то она была лучше, чем красавица: умная, милая, изящная, вся в брата.
Я был вполне счастлив, когда они пригласили меня бывать у них почаще. Неделю спустя Лунин известил меня о своем приезде.
[219]
После радостных минут встречи я заметил, что он был чем-то озабочен; но расспрашивать его я не решался. Вскоре непредвиденные обстоятельства заставили меня высказаться совершенно откровенно, а это вызвало и его на откровенность.
С тех пор, как я расстался со своим капитаном8, я получил от него только одно письмо, заботливое и дружеское по обыкновению. Теперь я получил второе, длинное и многословное, очевидно, написанное под впечатлением грустных обстоятельств, не допускавших никакого выбора. Бедный мой капитан! Как он должен был страдать! Ему, вероятно, было легче принять решение, изменившее всю его жизнь, чем написать письмо такого содержания. Он писал, что денежные дела его, по недобросовестности лица, заведовавшего ими, пришли в такой беспорядок, что ему невозможно более оставаться в гвардии, особенно теперь, когда с заключением мира уничтожились надежды на скорое повышение, и что ему выгоднее перейти в армию с чином полковника, так как через несколько лет он может снова поступить в гвардию с тем же чином; жить же в Петербурге для него было бы тяжело; потому он не колеблясь должен поступить так, как велит благоразумие. Потом он говорил обо мне, о моем положении, в случае если бы я вздумал продолжать военную службу. Он дарил мне нашу мебель, своих лошадей, сани и дрожки, советуя все это продать как ненужное. Он знал, что вырученная сумма будет очень незначительна и мне придется сократить свои расходы. Он прибавлял, что у него осталась часть принадлежащей мне суммы денег и что он немедленно ее вышлет. В заключение он советовал, если мне не удастся устроиться так, как бы мне желалось, уехать обратно во Францию, а на время, проведенное, вне отечества, смотреть как на заграничное путешествие.
У меня это письмо цело до сих пор, и теперь еще, после многих лет, я не могу читать его без волнения: в нем высказывается вся честность, благородство и великодушие человека, считавшего себя ответственным за мой сумасбродный поступок. Я до сих пор еще не назвал его, но ему принадлежит почетное место в моем рассказе, который я мог бы назвать его именем: его звали Николай Евреинов.
Письмо это нисколько не поразило меня, точно я его ожидал; оно возбудило во мне чувство благодарности
[220]
к моему другу. Однако нужно было с кем-нибудь посоветоваться. Вигель был старинным, верным другом, но невольная симпатия влекла меня высказаться перед Луниным, которого я узнал только недавно и который был самым легкомысленным и взбалмошным между всеми моими знакомыми.
– Ну,– сказал он,– выслушав мой краткий, но правдивый рассказ,– вот вы и свободны! Капитан ваш умно поступил, сбросив с себя цепи, приковывавшие его ко двору. Должно быть, и я скоро то же сделаю.
– Вы? Кавалергардский полковник!
– Я еще более на виду: у меня парадный мундир белый, а полуформенный красный.
– Вы откажетесь от всех выгод, ожидающих вас на службе?
– Очень выгодно разоряться на лошадей и на подобные тому вещи! Еще если б я мог разоряться! Но у меня отец находит возможность все более и более урезывать назначенное им содержание. Я денно и нощно проклинаю мое положение.
– Действительно, вы иногда бываете задумчивы.
– Поневоле задумаешься, мой милый! Меня держат впроголодь. Вы, вероятно, заметили, как я похудел?
– Да, я нахожу, вы бледны.
– Бледен! Вам, должно быть, слов жалко. Придумайте что-нибудь посильнее. На пиру жизни меня угощают квасом.
– Говорят, от него толстеют…
– Дураки одни; те и от скуки толстеют. Квас возбуждает сильнейшее желание сделаться отшельником.
– Вы еще не дожили до таких лет.
– Черти только в молодости и бывают набожны. Мне нужны уединение и пустыня. Знаете ли, что мне иногда приходит в голову? Хорошо бы было отправиться в Южную Америку к взбунтовавшимся молодцам… Вы француз, следовательно, должны знать, что бунт – это священнейшая обязанность каждого.
– Вам, стало быть, желательно, чтоб вас повесили на счет испанского короля?
– Ну, довольно об этом. Вам нужна помощь, т. е. добрый совет, это я могу. Что же вы будете теперь делать, если намереваетесь что-нибудь делать вообще?
– Что вы мне посоветуете?
– Да я вам бы советовал ничего не делать: это безопаснее…
[221]
– Я не могу ничего не делать.
– Вы можете ждать. У вас есть мебель… Я знаю, чего стоит мебель в казармах: за нее дадут грош… Еще у вас пара лошадей… Каковы они?
– Они пожирают пространство.
– Это прекрасно, но их нужно еще, кроме того, кормить.
– Хорошенькие, серенькие, породистые малороссийские лошадки.
– Если они на что-нибудь годны, то за них ничего не дадут… А экипажи…
– Имеют то достоинство, что целы.
– В сумме получится довольно, чтоб заплатить за хороший завтрак! Разделайтесь поскорее с обломками роскоши и приходите всякий день завтракать ко мне. Но предупреждаю вас – мой повар из спартанцев. Вы можете нанять маленькую комнатку с мебелью и недорогого лакея, так как прислуга вашего капитана должна отправиться назад к барину, и все будет прекрасно.
План этот мне понравился, тем более что я уже начинал считать независимость первым условием счастья. Прежде всего, я написал капитану, чтоб снять с него ответственность за свою судьбу, успокоить его и поблагодарить за дружбу. Я обещал письмами поддерживать дорогие для меня отношения и, исполнив свой долг, как приказывали и сердце, и совесть, принялся за продажу подаренного мне имущества. Благодаря посредничеству моих друзей мне удалось выручить больше, чем я предполагал. На эту сумму я мог безбедно прожить несколько времени, конечно, не позволяя себе ничего лишнего. Один француз, живший на Малой Морской, уступил за недорогую цену две комнаты. Военной службой я совсем не занимался и даже почти уже решился при первой возможности выйти в отставку. Зиму я провел под руководством двух людей, диаметрально противоположных один другому, так что их влияние, взаимно уравновешиваясь, поддерживало меня в переходном состоянии. В разговорах с Вигелем мы выходили из сфер действительности; но он, с необычайным коварством переходя от одного вопроса к другому и остроумно обсуждая мелочи жизни, мешал составить мнение о чем бы то ни было. Все-таки он был очень мил. Лунин же поражал своею оригинальностью и искренностью. Его огненная фантазия, стремившаяся за пределы существующего,
[222]
неудержимо увлекала и меня в мир призраков, к цветущим берегам неведомой страны: мы носились в пространстве, то поднимаясь, то опускаясь в самую глубину земли.
Способности его были блестящи и разнообразны: он был поэт и музыкант и в то же время реформатор, политико-эконом, государственный человек, изучивший социальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями. Таков был этот необыкновенный человек.
Однажды утром мне принесли записку от Уваровой. Она просила меня прийти к ней.
– Ради бога,– сказала она,– подите к Мише, успокойте его.
– Что такое случилось?
– У него была ужасная сцена с отцом; отец отказался платить долги за него.
– Разве они так велики?
– Совсем нет; вы сами знаете его жизнь. Но, конечно, есть траты неизбежные в его лета и в его положении. Отец ничего не хочет слышать, брат тоже упрям. Мужу моему не след вмешиваться в это дело, а мои слезы тут не помогут. Постарайтесь успокоить вашего друга; вы на него имеете влияние, хоть он и не сознается в этом.
– Если вы так думаете, я попробую.
– Но каким образом, что вы ему скажете? Не нужна ли тут моя помощь?
– Ни под каким видом! Я могу сказать и сделать то, чего вы не можете. Зная горячее сердце, ясный ум и пылкое воображение вашего брата, я вижу только одно средство потушить его гнев: это разжечь его сильнее.
– Что вы говорите?
– Непременно так. Я видел, как наш трагик Тальма9 изображал бешеную ярость Ореста, как он неистовствовал и как внезапно наступило затишье. Я буду предлагать вашему брату такие сумасбродные средства, что он поневоле образумится, слушая меня. Тут необходимы сильные лекарства. Видя мое безумие, он успокоится; советовать же, уговаривать невозможно. Действительно только то, что идет от нас самих… Нужно лишь вызвать это свое; в этом вся мудрость.
Уварова, которая была очень набожна, подошла ко мне и, перекрестивши меня три раза, сказала:
[223]
– Ну, теперь ступайте!
Дорогой я раздумывал, что бы такое предложить чудовищное, несообразное, что бы сразу отрезвило моего друга, но ничего не находил подходящего; я махнул рукой и положился во всем на волю божию.
Лунин жил в доме отца. Не без волнения и страха отворил я дверь комнаты, где находился разгневанный сын. Лунин сидел за фортепьяно и играл с обычным brio*.
– Здравствуйте,– сказал я, подходя, чтобы разглядеть выражение его лица.
Оно было спокойно; пальцы делали свое дело. Он кивнул мне головой, не прерывая игры.
– Что это такое? – спросил я.
– Арагонский болеро. Должно быть, я когда-нибудь слышал этот мотив, и теперь он мне пришел на память.
– Нет, это ваше собственное произведение.
– Очень может быть.
Он доиграл до конца, взял три заключительных аккорда и потом спокойно подошел ко мне поздороваться. На столе лежала книга. «Полезная это книга»,– заметил он, подавая ее мне. Это была испанская грамматика. <…>
– Нет, истина требует, чтоб я рассказал вам все презренной прозой и в самых простых словах. Вчера вечером, после вашего ухода… отец мой, иже есть на небеси, надо мной, то есть во втором этаже, дверь направо… отец соизволил снизойти ко мне. Вы не знаете моего отца?
– Я его видел один раз.
– В праздник, вероятно?
– Очень красивый старик!
– Да! Только бы ему белую бороду и синюю мантию!.. Уж конечно, у меня таких полных щек никогда не будет. Ведь мне постоянно приходится голодать.
– Но он перестанет, наконец, держать вас на полупорциях.
– Вы ошибаетесь. Отец мой ничего не делает вполовину: он лишает меня всей порции. Вот как было дело. Он послал за сестрой; та приехала, испуганная, вместе с мужем, и на этом семейном совете он торжественно объявил, что не будет платить за меня долгов, чтоб я так и сказал своим кредиторам, которые докучают
* оживление (ит.).
[224]
ему… Но они по глупости продолжают преследовать меня; а чем же я им заплачу, если отец небесный не пошлет манны в пустыню моей жизни?.. Я, конечно, представил этот убедительный довод и многие другие, но виновник моих злополучных дней пришел в ярость от моих слов. Я тоже обозлился, и, чтоб успокоить его, наговорил много вздору, так что, когда мы разошлись, он был бледен, а я красен, то есть наперекор обыкновенному порядку вещей. Ну, вы понимаете, такое нарушение правил могло произойти только вследствие сильнейшего душевного волнения.
– Но, дорогой мой Мишель, мне всегда казалось, что вы и не надеялись на иной исход.
– Ну да! Дерево скрипит, скрипит, да, наконец, и не выдержит – рухнет с треском, пожалуй, и зашибет, кто близко… Сестра пошла за отцом… который на небеси, во втором этаже, дверь направо… Уваров пошел за женой; они хотели умилостивить отца, а я лег спать и не смыкал глаз во всю ночь. Я все старался себе представить со всеми подробностями ужаснейшее положение кавалергардского полковника, отбивающегося с оружием в руках от полиции, которая явилась арестовать его за долги!
– Вы не первый и не последний.
– Тем хуже. Как скоро это такая обыкновенная вещь, для меня она уже не годится. Если случилось такое несчастье, то нужно выпутаться из него иначе, чем делают другие. Когда человек не спит, то он размышляет. Я и размыслил, что не следовало так выходить из себя, говоря с отцом; лучше бы было предоставить гневаться только ему: тогда бы вина была на его стороне, а теперь она на моей. Вспомнил я и арифметику. Ведь чтобы взять двадцать из десяти, нужно занять единицу, равняющуюся десяти; если же нет десяти, то нужно взять двадцать. Нет ничего на свете точнее цифр.
– Ну и вы нашли нового ростовщика?
– Само собою разумеется! И, разумеется, ростовщиком будет мой отец.
– Каким же чудом?
– Чуда нет: это простая спекуляция.
– Но по какому случаю?..
– И не случай, а отличная спекуляция. Милый друг, вы чуть не сказали глупости.
– Когда дело идет о вас, то глупости в голову не приходят.
[225]
– Эх, умные-то люди и оказываются чаще всех дураками, если даже допустить, что я умен… Ну, так слушайте же мой в высшей степени интересный рассказ. Проснувшись, или, лучше сказать, не спавши, кликнул я своего камердинера. Алексей, как всегда, подал мне туфли, халат и трубку. «Алексей,– сказал я ему,– ступай наверх к отцу и доложи, что я собираюсь к нему». Алексей на лестнице встречает Артемья, отцовского камердинера, который шел ко мне с таким же поручением от своего барина. Болваны останавливаются на лестнице побалагурить. Вот в это время я выхожу и иду наверх: отец мой спускается вниз. <…>
Мы встречаемся, лакеи уступают нам свое место. Я склоняю голову.
– Отец мой,– говорю я весьма почтительно,– умоляю вас, простите меня: я виноват перед вами.
– Сын мой,– отвечает он мне,– я был слишком суров, это правда… Но подумай, Миша: если я выплачу твои долги, ты опять наделаешь новых… Нужно как-нибудь умиротворить твоих кредиторов.
– Отец мой, самое лучшее средство – расплатиться с ними, иного исхода нет.
– Но если я заплачу им, они опять тебе дадут взаймы.
– Батюшка, я боюсь, что именно так и будет.
– Черт возьми, да именно этого-то я и не хочу.
– Ну так я вам предложу очень разумную вещь.
– Говори, я слушаю.
– Но, дорогой батюшка, вам неудобно на лестнице…
– Мне очень ловко; какое твое разумное предложение? Говори.
– Батюшка, вы заплатите за меня долги.
– Да я не хочу платить твоих долгов.
– Позвольте, дайте договорить. Вы заплатите долги, и, кроме того, вы мне еще выдадите небольшую сумму, которая мне необходима.
– Миша, да ты с ума сошел!
– Батюшка, я бы мог заметить то же самое… (неужели я это сказал, великий боже? Кажется, слова эти вырвались у меня бессознательно, потому что, видя возрастающее волнение и беспокойство виновника дней моих, я и сам начинал терять власть над собой и готов был на все. К счастию, он не обратил внимания на мои слова, и я успокоился). Если вы мне не дадите договорить и объяснить мое предложение, мы никогда не пой-
[226]
мем друг друга. Заплатите мои долги, дайте еще несколько тысяч, которые мне необходимы, и я уже никогда у вас ничего не буду просить: я делаю завещание в вашу пользу, и ту часть, которую я должен бы получить от вас в наследство, получаете вы. Вы понимаете, как это выгодно для вас.
– Ты с ума сошел, бедный Миша!
– Батюшка, до некоторой степени это верно. Вы увидите сами, дайте договорить: если вы заплатите долги мои и дадите мне еще деньжонок, то вы навсегда разделаетесь со мной. Я выйду в отставку…
– Ты, в отставку? Кавалергардский полковник!
– Как же я могу служить в кавалергардах с моим ничтожным доходом, которого вы меня теперь лишили, и с долгами, которых вы не хотите платить? Итак, я выхожу в отставку, отправляюсь в Южную Америку и поступаю в ряды тамошних молодцов, которые теперь бунтуют. Таким образом, я доказываю свою независимость и ничем не рискую, кроме жизни… Так как я получил ее от вас, то вы выдадите мне расписку. Подумайте! Больше мне ничего не остается, коль скоро вы хотите лишить меня назначенного содержания… Из небольших ручейков может образоваться в сложности такой поток… Нет, лучше разделайтесь со мной теперь же: право, это для вас всего выгоднее.
– Я вижу, что ты неисправим.
– Вы правы. Я ставлю все на карту: все козыри у вас на руках… Выиграю я или проиграю, в результате получится для меня радикальное исправление, чего не в состоянии сделать никакие отеческие наказания, хотя вы имеете в виду мое благо, точь-в-точь как воспитатели в католических школах, которые секут детей для их же пользы.
– И ты, как блудный сын, покинешь своего отца?
– Разница та, что блудный сын уносит с собою следующую ему по закону часть, а я прошу у вас только чего-нибудь в зачет.
– И сестру, которая тебя так любит?
– У сестры есть ребенок, отец, муж; она их всех любит: я облегчу ей бремя привязанностей…
– Негодяй! Бездельник! – проговорил он с негодованием.
– Да, я, к несчастию, никуда не годен: весь износился. Батюшка! Мое предложение выгодно для вас: дайте денег и отпустите меня на все четыре стороны.
[227]
Лунин остановился, чтобы отдохнуть, и принял патетическую позу; в ней было столько комизма, что я не мог удержаться от смеха.
– Смейтесь, бесчувственный, смейтесь,– заговорил он снова.– Я ожидаю всевозможных бедствий: потопа, египетских казней, избиения младенцев, французской революции… Отец изъявил свое согласие!!
– Он согласился?
– На той самой ступеньке, куда он должен был сесть от сильного волнения. Он сидел, опустя голову на руки, и рассуждал сам с собою. Очень может быть, что он, как тот отец, в «Проделках Скапена»10, повторял про себя: «За каким чертом пошел он на эту проклятую галеру?»
– Стало быть, он заплатит за вас долги?
– Не торопитесь: тут все дело во второстепенных подробностях; они смешны, а развязка очень пошлая.
– Ну, говорите, я горю от нетерпения.
– Неприятное ощущение… Итак, отец мой сидел, думал, соображал, высчитывал, проделывал уравнения со многими неизвестными, и мы долго молчали. Наконец, он первый заговорил:
– У тебя десять тысяч долгу?
– Может быть, даже немного больше.
– Ты хочешь путешествовать?
– Из экономии, батюшка: я соблюдаю ваши выгоды.
– На это потребуется тысяч пять?
– По крайней мере.
– И больше тебе ничего не нужно?
– Мне нужно ваше благословение, батюшка.
– Благословляю тебя.
– Вы начинаете с конца, батюшка.
– Я созову твоих кредиторов и поговорю с ними…
– Они останутся глухи, как всегда.
– Я их образумлю, они выслушают.
– Но не уступят ни копейки.
– Я поручусь, и они согласятся подождать.
– И причтут законные проценты… Старая история… А деньги на путешествие? Если вы хотите, чтоб я вас оставил в покое, дайте мне возможность уехать.
– Сколько, ты сказал, тебе нужно?
– Пять тысяч безотлагательно, и ни копейки меньше.
– В таком случае ты можешь продать мои две кареты: они мне не нужны, доктора советуют мне моцион.
[228]
– А ноги вы у них же возьмете? Я думаю, что для вас будет лучше, если вы сами займетесь этой продажей. Я не умею ни продавать, ни покупать.
– Ты только умеешь приводить меня в отчаяние.
– Зачем же отчаиваться? Вы должны, напротив, надеяться.
– Тогда (продолжал Лунин уже другим тоном), так как он все еще сидел на ступеньке и жалобно смотрел на меня, с мольбою простирая руки, я помог ему встать. Он объявил, что принимает мои условия. Я его проводил и вернулся к себе. Вот моя просьба об отставке, только что испеченная: еще чернила не успели высохнуть! В ней моя будущность, моя свобода. По-испански свобода – libertade.
По словам Уваровой, я ожидал совсем другого, а тут вдруг этот юмористический рассказ с переменой голоса, жесты, интонации, игра физиономии! Я был и удивлен, и обрадован. Наконец-то мой бедный Лунин мог разделаться с ростовщиками и вздохнуть свободно.
– Я понимаю, что теперь, после капитуляции, вы уже не можете оставаться в военной службе,– сказал я ему,– и тащиться по избитой колее; но с вашими блестящими способностями вы можете быть полезным в гражданской службе и сразу стать превосходительством.
– Мой милый,– вскричал он,– для меня открыта только одна карьера – карьера свободы, которая по-испански зовется libertade, а в ней не имеют смысла титулы, как бы громки они ни были. Вы говорите, что у меня большие способности, и хотите, чтоб я их схоронил в какой-нибудь канцелярии из-за тщеславного желания получать чины и звезды, которые французы совершенно верно называют crachats…* Как! Я буду получать большое жалованье и ничего не делать, или делать вздор, или еще хуже – делать все на свете, и при этом надо мной будет начальник11, которого я буду ублажать, с тем, чтоб его спихнуть и самому сесть на его место? И вы думаете, что я способен на такое жалкое существование! Да я задохнусь, и это будет справедливым возмездием за поругание духа. Избыток сил задушит меня. Нет, нет, мне нужна свобода мысли, свобода воли, свобода действий. Вот это настоящая жизнь! Прочь, обязательная служба12! Я не хочу быть в зависимости
* плевки (фр.).
[229]
от своего официального положения; я буду приносить пользу людям тем способом, какой мне внушают разум и сердце. Гражданин Вселенной – лучше этого титула нет на свете. Свобода! Libertade! Я уезжаю отсюда. Поедем вместе! Ваше призвание быть волонтером13: я вас вербую в наши ряды.
Тут я поспешил прервать его, чтоб немного охладить порыв увлечения: «Вы думаете, что я достоин быть вашим Санхом Пансою, благородный Ламаншский герой? Я уже теперь вижу, как будет сиять на вашей голове бритвенный таз! Да, я последую за вами, и всякий раз после неудачной борьбы с ветряными мельницами, которые зовутся действительностью, буду напоминать вам пословицы, изречения народной мудрости. Я тоже не хочу больше носить оружия, но вместо него я вооружусь пером и там, на цветущих берегах Сены, буду осмеивать людские слабости».
– Прелестная Дезульер, вы все еще мечтаете о стихах! Это не к добру.
– Как, при вашем вольнодумстве вы суеверны?
– Как фаталист я должен быть суеверен. Разве я вам не говорил, что в Париже я был у Ленорман14?
– Ну и что же вам сказала гадальщица?
– Она сказала, что меня повесят. Надо постараться, чтоб предсказание исполнилось.
Мы разошлись: он с лицом, сияющим от восторга, отправился к сестре поделиться своими мечтами и счастием; а я пошел домой, подумывая о скором отъезде. Мною овладела тоска по родине: перемена воздуха становилась для меня необходима.
Раз решившись выйти в отставку, мы с Луниным больше не раздумывали; мысль об освобождении всецело овладела нами, и мы, каждый про себя и вместе, разрабатывали ее во всех подробностях и последствиях. При всем том цели у нас были различные.
Желание снова увидать родину одерживало во мне верх над остальными неясными стремлениями и надеждами. К тому же жизнь искателя приключений, странствующего по белу свету, не особенно прельщала меня; да и к бунтам я не чувствовал природного влечения. Я старался представить себе будущее, рассчитать шансы успеха; мне казалось лучше, если бы экспедиция наша имела другую цель, или, по крайней мере, если б она направилась в другую часть земного шара, а не туда, куда предполагал Лунин. Я стал отговаривать его.
[230]
– Неужели,– говорил я ему,– наша деятельность может проявиться с успехом только под экватором? Рассмотрим этот вопрос. Старый свет износился и обветшал; новый еще не тронут. Америке нужны сильные руки; Европе, старой, беззубой, с ее центром, вечно обновляющимся Парижем, нужны развитые умы. Куда же мы пойдем? Физической силой похвалиться мы не можем. Конечно, до Орфея мне далеко; но все-таки я думаю, что слово окажется более сильным орудием в моих руках, чем кинжал. Ловкий софизм имеет более шансов на успех в среде старого общества, чем проповедь с оружием в руках среди диких народов. Прежде чем принять окончательное решение, следует подумать; не мешает также посоветоваться и с желудком и принять в расчет пищеварительные способности: я нисколько не желаю пробовать человеческого мяса и голодать тоже не хочу, тем более, что я почти уверен, что, пользуясь всеми припасами, доставляемыми цивилизацией, я сумею при помощи познаний состряпать себе очень порядочный обед.
– Вы византиец-француз и больше ничего,– отвечал Лунин.
Лунина все побаивались за его смелые поступки и слова. Он не щадил порока, и иногда его меткие остроты бывали направлены против высокопоставленных лиц. Они никогда не заходили так далеко, чтобы навлечь на него наказание; они возбуждали смех, но иногда могли оскорбить. Его решение выйти в отставку было принято с затаенным удовольствием: препятствий не оказалось никаких, напротив, спешили все уладить поскорее.
Доложили государю, что кавалергардский полковник Лунин желает выйти в отставку15.
– Это самое лучшее, что он может сделать,– отозвался император.
– Он просит позволения ехать за границу.
– Позволяю: с богом!
Эти резкие ответы государя, отличавшегося кротостью и ласковым, вежливым обращением, объясняются небольшим происшествием, случившимся в 1812 году, до нашествия французов. Лунину вздумалось нанять в Кронштадте лодку и ехать одному в море, чтобы снимать планы укреплений. Его заметили в зрительную трубу, нагнали и арестовали. Государь потребовал у него объяснения этого дерзкого поступка.
[231]
– Ваше величество,– отвечал он,– я серьезно интересуюсь военным искусством, а так как в настоящее время я изучаю Вобана16, то мне хотелось сравнить его систему с системой ваших инженеров.
– Но вы могли бы достать себе позволение; вам бы не отказали в просьбе.
– Виноват, государь: мне не хотелось получить отказ.
– Вы отправляетесь один в лодке, в бурную погоду: вы подвергались опасности.
– Ваше величество, предок ваш Петр Великий умел бороться со стихиями. А вдруг бы я открыл в Финском заливе неизвестную землю? Я бы водрузил знамя вашего величества.
– Говорят, вы не совсем в своем уме, Лунин.
– Ваше величество, про Колумба говорили то же самое.
– Я прощаю сумасшедших; но прошу, чтоб в другой раз этого не было.
Уварова, горячо любившая брата, была огорчена его намерением покинуть Россию, хотя и она и муж ее одобряли его, так как, по упрямству отца, не оставалось другого исхода. Они тоже находили, что благоразумнее жить во Франции, чем поступать в ряды возмутившихся американцев: последнее они тоже считали довольно рискованным предприятием, и нам наконец удалось соединенными усилиями уломать Лунина. Теперь оставалось ждать удобной минуты для отъезда, а покуда время проходило для меня так приятно, что и теперь при воспоминании о нем я снова чувствую себя молодым. Прежние друзья были забыты для Лунина: я совершенно подчинился ему и был счастлив. С утра я приходил к нему, и мы решали, как проводить день. Чаще всего мы отправлялись за город или же садились в лодку и катались по заливу. С собою мы брали книги, провизию, чай и самовар. Лакей поил нас чаем, он же был и гребцом. Иногда мы высаживались на Крестовский остров и там отдыхали под соснами; иногда ездили в Екатерингоф, и там, под березами, Лунин рассказывал по поводу загородного домика Петра I интересные подробности о преобразователе России.
В одну из этих прогулок Лунин прочел вслух «Le lépreux de la cité d'Aoste *, который только что
* «Прокаженный из города Аост» (фр.).
[232]
появился тогда в Петербурге. Он читал очень хорошо. Бледная северная природа вполне гармонировала с печальным тоном рассказа; лодка тихо покачивалась; серое небо отражалось в волнах залива; нами овладевало тихое, грустное раздумье.
Лунин обладал большою чувствительностию. Воспитание развило в нем ум, который и преобладал в обыкновенное время над воображением; условия общественной жизни, как она сложилась в Петербурге, приучили его ко многому относиться с насмешкою и недоверием, и бывали минуты, когда природное чувство, вступая в свои права, всецело овладевало им; тогда в нем и следа не оставалось обычной сухости и насмешливости.
Михаил Лунин не имел претензий Вигеля, но он хорошо был знаком с историей своей родины и особенно любил останавливаться на выдающихся событиях новейшей истории. С Карамзиным он не был дружен, но ценил его достоинства как историка и добросовестного исследователя. Иногда, по праздникам, мы вмешивались в толпу, и Лунин сообщал мне свои исторические, часто полные глубокого смысла замечания насчет народа, его нравов, качеств и недостатков. Мы были и на гулянье 1 мая, и тут он не пощадил своими сарказмами высших классов. Он не пропускал ни одного лица: о каждом была у него в запасе история, и большею частию скандальная; но он так мастерски рассказывал, так метко умел охарактеризовать одним словом своих героев, что поневоле приходилось прощать ему его цинизм. Если б не скупость отца, он бы мог быть одним из самых замечательных людей в высшем обществе; а теперь ему приходилось стоять в толпе глупых зевак и довольствоваться обществом иностранца, у которого было только то достоинство, что он умел его понимать и ценить. Чтоб не быть предметом сострадания или презрения для своих соотечественников, он решился вести скромную жизнь на чужой стороне и теперь заранее приучал себя к лишениям. Но он был весел и не жаловался на судьбу. Он бодро шел, с гордо поднятой головой, думая, как Фигаро, что для того, кто должен ходить пешком, стыд – лишнее бремя.
Итак, наше общественное положение уравнялось, и мы могли жить вместе, тесно соединенные общею умственною жизнию.
Лето уже было на исходе; наступила пора подумать
[233]
об отъезде. Мы отправились в Кронштадт осведомиться о судах, отходивших во Францию или в Англию.
Трехмачтовый корабль «Верность» из Дьеппа, нагруженный салом, готовился к отплытию в Гавр; мы условились в цене и два дня спустя покинули Петербург. Уваров с женой провожали нас до парохода, который и перевез нас через Финский залив. До тех пор не было пароходов в России: первые появились на Финском заливе. Лунин-отец в приливе родительской нежности захотел нас проводить до корабля. 10/22 сентября 1816 г., в два часа пополудни, мы вышли из гавани в хорошую погоду и с попутным ветром.
Два года тому назад я въезжал в ту же самую гавань полный надежд, которым не суждено было исполниться. Но я провел счастливо эти два года. Я уносил с собою много дорогих воспоминаний и уезжал с чувством благодарности за оказанное мне гостеприимство. Когда корабль вышел из гавани, мы, стоя с Луниным на палубе, послали последний привет отцу его, который с вала посылал нам свое благословение, осеняя крестом все четыре стороны. Сын был видимо взволнован, но и тут не мог удержаться от шутки.
– Вот добрый отец-то! – сказал он.– Еду я вследствие финансовых соображений, а он хочет показать дело в ином виде. Ну что ж, я ему благодарен: для меня он нарушил свои привычки. Я тоже теперь, разлучаясь с ним, чувствую что-то вроде сожаления. Я полагаю, что эти грустные предчувствия у меня оттого, что он уже слишком расщедрился на прощанье. Помилуйте! Двадцать пять бутылок портеру, двадцать пять бутылок рому, пуд свечей и даже лимоны!.. Правда, он долго не хотел покупать лимонов; но понял, что ром и портер дешевле в Кронштадте, чем в Петербурге. Ему это удовольствие! Да, скупой отец даже готов на подарки, если только есть случай при этом выгадать копейку… Ну, а что касается до свечей, тут уж я не понимаю… Разве только он, как настоящий русский барин, хочет доказать французам превосходство нашего осветительного материала? Ведь это чистый воск! Жаль: я теперь начинаю понимать, что с ним можно бы столковаться. Да, я не так повел дело!
В минуту отъезда всегда является чувство безотчетного страха, какой-то торжественности, которое невольно овладевает вами. Чувство это еще сильней, когда вы едете по морю: земля уходит из глаз, безграничное море
[234]
все полнее вас охватывает; вы испытываете волнение, какое-то глупое предчувствие. И Лунин, и я, мы оба ощущали то же впечатление; мы следили глазами за убегавшим песчаным русским берегом, остатком твердой земли; говорить мы были не в состоянии. Так продолжалось вплоть до ночи. Когда стемнело, матросы запели «Veni Creator» *, и все стали на колени. Я вспомнил, как в Петербурге говорили, что французы не исполняют религиозных обрядов, и был рад за своих соотечественников. Тишина вечера, торжественное зрелище коленопреклоненных матросов тронули даже Лунина.
Корабль наш не рассчитывал на пассажиров; поэтому нам пришлось удовольствоваться низенькой узкой комнаткой, не представлявшей никаких удобств. Но мы безропотно покорились своей участи. Так как голод давал себя чувствовать, то мы прежде всего принялись за осмотр провизии, взятой на дорогу. Благодаря заботливости Уваровой нам долго не предвиделось необходимости прибегать к матросскому кушанью: у нас в избытке были холодные жаркие, лакомства и т. д. Мы весело поужинали и благодаря родительской щедрости выпили за здоровье всех, покинутых нами.
В эту ночь я спал как убитый; меня убаюкивала надежда увидать родину. Утром я проснулся здоровый, со свежей головой. Сквозь трещины каюты проникал воздух; солнечные лучи золотыми нитями ложились на полу; сверху доносились звуки утренней молитвы. Товарищ мой проснулся с веселым восклицанием, и мы, умывшись с помощью приставленного к нам для услуг матроса и убравши каюту, поспешили на палубу, чтоб освежиться. Перед нами был живописный остров Голанд17 с утесами, на которых росли сосны; между деревьями мелькали хижины. Лунин срисовал вид, а я, со своей стороны, старался запомнить его, чтоб потом при случае описать его. К полудню подул сильный противный ветер, и нам пришлось лавировать. На палубе оставаться было нельзя, и мы пролежали целый день в каюте. Лунин был мрачен. Вечером мы услыхали пение молитв; под гул волн, ударявшихся о борт, ночь прошла довольно спокойно.
Между старыми моими рукописями я нашел тетрадку, в которой отмечал я тогда впечатления путешествия. Я буду выписывать из нее все, что мне кажется интересным, и особенно то, что касается Лунина, так как
* Гряди, Создатель! (лат.)
[235]
он играл видную роль в современной истории своей родины. Мелочные подробности ежедневной жизни необходимы, чтобы дать всестороннее понятие о человеке, поэтому я и не буду пропускать их.
«Вторник 12 (24 сентября) 1816 года. Ночью мы опять пошли назад к Голанду, чтоб попасть на настоящую дорогу, с которой свернули. Мы близ Ревеля18. Вечер очень хорош. Мы пригласили капитана выпить с нами пуншу. Он разговорился про свои путешествия. Между прочим, он рассказал, как на возвратном пути из Португалии, когда их застигла буря, угрожавшая опасностью экипажу, целая стая голубей опустилась на корабль. Матросы ловили руками дрожащих от испуга птиц и сажали в клетку, с тем чтобы потом употребить на обед. Но когда буря миновала, небо прояснилось, один из матросов выпустил их на волю, в то время как товарищи его отдыхали. «К чему нарушать законы гостеприимства? – подумал он.– Они просили у нас приюта, мы спасли их, как господь спас нас». Несколько минут спустя матрос упал в воду, и весь экипаж единодушно дал обет отслужить обедню за его спасение. Его благополучно вытащили, и, когда корабль пришел в Марсель, капитан и все матросы отправились босиком в церковь богоматери принести благодарение за помощь. Во время вечерней молитвы мы поднялись на палубу. Огромная волна прошла над нашими головами, не замочив нас».
«Мы быстро плывем».
«Среда 13 (25). Отличная теплая погода и легкий попутный ветер. Мы с утра на палубе; там и завтракали. В одиннадцать часов вышли из Финского залива. Мы долго и серьезно разговаривали. Лунин разбирал все страсти, могущие волновать сердце человека. По его мнению, только одно честолюбие может возвысить человека над животною жизнию. Давая волю своему воображению, своим желаниям, стремясь стать выше других, он выходит из своего ничтожества. Тот, кто может повелевать, и тот, кто должен слушаться,– существа разной породы. Семейное счастие – это прекращение деятельности, отсутствие, так сказать, отрицание умственной жизни. Весь мир принадлежит человеку дела; для него дом только временная станция, где можно отдохнуть телом и душой – чтоб снова пуститься далее».
«Я жалею, что не записал те смелые доказательства и оригинальные соображения, которыми Лунин хотел во
[236]
что бы то ни стало подкрепить свою мысль, лишенную твердой точки опоры. Это была блестящая импровизация, полная странных, подчас возвышенных идей; сильно возбужденное воображение сказывалось в его свободно лившейся, полной ярких образов речи».
«Я не мог с ним согласиться, но также не мог, да и не желал, его опровергать; я слушал молча и думал «Какая судьба ожидает этого человека с неукротимыми порывами и пламенным воображением!» Каким маленьким, ничтожным казался я в сравнении с ним; я мог бы служить живым доказательством справедливости его слов».
«В эту минуту птичка, уже несколько дней следовавшая за кораблем, опустилась на рангоут19; ее хотели поймать; но Лунин, помня рассказ о голубях, потребовал, чтоб ее оставили на свободе. По этому поводу мы заговорили о различии между свободою и независимостью, насколько они возможны при данном общественном строе. Тут я мог представить ему опровержения на его теорию. Независимость – это единственная гарантия счастья человека; честолюбие же исключает независимость: оно ставит нас в зависимость от всего на свете. Независимость дает возможность быть самим собою, не насилуя своей природы. В собрании единиц, составляющих общество, только независимые люди действительно свободны. Бедный Лунин должен был признать справедливость моих доводов, как бы в подтверждение двойственности, присущей каждому человеку и в особенности честолюбцу».
Когда я переписывал это место с пожелтевших листков старого дневника, мною овладело сильное смущение, как будто я заглянул в какую-нибудь древнюю книгу с предсказаниями. Действительно, в речах Лунина уже сказался будущий заговорщик, который в Париже при первой же возможности перешел от слов к делу и смело пошел на погибель. Мои же мнения обличали отсутствие сильной воли, что и было источником моей любви к независимости. По этой же причине я уберегся от многих опасностей и мог дожить до старости.
«В четыре часа мы пошли обедать в каюту. Ветер дул попутный, и ничто не мешало нам удовлетворить аппетиту. Вечером мы читали вслух «Валерию» Крюднер20. Это один из тех романов, которые можно читать несколько раз, и они всегда будут производить на вас сильное впечатление. Туманностью поэтических образов
[237]
и своею тихою мечтательностью он затрагивает сочувственные струны в нашем сердце. Какой контраст между небом Скандинавии, где мы находились, и могучей природой Италии, которую описывал автор – русская женщина! Мы прочли его за один присест, останавливаясь только по временам, под влиянием сильного волнения: этого чтения на море я никогда не забуду, тем более, что многие места согласовались с нашим тогдашним настроением».
«Четверг 21 сентября (3 октября). Наконец я снова могу приняться за перо. В продолжение шести дней мы не имели ни минуты покоя. Паруса убрали; волны так хлестали на палубу, что оставаться на ней становилось опасно; впрочем, больших повреждений на корабле не было. Мы едва не задохнулись у себя в каюте, потому что все щели были замазаны салом из предосторожности, но, хотя опасность была велика, мы с Луниным не падали духом; напротив, мы прикидывались веселыми, чтобы скрыть друг от друга свои настоящие ощущения. Корабль бросало из стороны в сторону, море шумело, потом вдруг наступила полнейшая тишина и неподвижность, и мы с испугом и недоумением спрашивали себя, что же с нами будет, уж не идем ли мы ко дну?.. Сердце замирало от ужаса… Но раздавалась команда капитана, и мы снова оживали. По вечерам сквозь рев бури к нам доносилось урывками пение матросов; оно действовало на нас успокоительно. Так прошло шесть дней; наконец ветер стих, и наше заключение кончилось. Буря застала нас в трех милях от острова Борнгольма. Случись она двумя часами позже, и мы могли бы уйти в гавань».
«Вторник 26 сентября (8 октября). Уже четыре дня, как я ничего не пишу в своем дневнике; да и не о чем писать: событий никаких. Я бы, пожалуй, мог записывать все парадоксы моего милого товарища, но это довольно трудно: желание быть во что бы то ни стало оригинальным заставляет его часто противоречить самому себе. Лучше пропускать их без внимания. В субботу мы бросили якорь в Зунде21 против Эльсинора. Несмотря на дурную погоду, Лунин непременно хотел съехать на берег. Он говорил, что мы наверное встретим Гамлета на валу крепости, на том самом месте, где злопамятная тень отца явилась сообщить ему тайну своей смерти. Крепость имеет средневековый характер, но город представляет жалкий вид, и нужно сильное воображение, чтобы представить себе, что здесь когда-то жил король
[238]
со своим двором. Может быть, гостиница, в которой нам подали плохой обед, была та самая, где останавливались актеры, так обласканные Гамлетом. Но едва ли грустная Офелия могла найти тут какие-нибудь цветы для украшения своей белокурой головки. Лунин, который, как все русские, говорит на всех языках, и, между прочим, и по-английски, доказывал мне, что Дюсис, наверное, переводил Гамлета в Эльсиноре и потому не считал нужным справляться с оригиналом. При этом он, вспоминая Фигаро, сказал: «Люди, ничего не делающие ни на что не годятся и ничего не добиваются». К несчастью, он сам непременно чего-нибудь да добьется!»
«Сегодня мы проходим Зунд. В Каттегате нам нужен особенный ветер, в немецком море опять другой, чтоб попасть в Ламанш – еще третий. Погода хороша. Когда же увижу я Францию?»
Тут кончаются выписки из дневника моего.
Наше скучное, опасное плавание продолжалось уже две недели, но это было только начало наших несчастий. Едва только прошли мы Зунд, как поднялась буря. Матросы выбились из сил, в корабле оказались повреждения, и мы принуждены были искать убежища в одной из природных бухт, образуемых утесистыми берегами Норвегии. Здесь мы были в безопасности от бурь, но могли умереть со скуки, если б не Лунин с его неистощимым запасом остроумия и веселости. Не находя в окружавших его предметах пищи для сарказма, он обращался к своим воспоминаниям и там отыскивал что-нибудь достойное осмеяния. Когда же наступал серьезный стих, тогда начиналась отважная работа мысли, стремившейся к развитию и усовершенствованию понимания. Его образование благодаря разнообразию элементов, вошедших в его состав, было довольно поверхностно; но он дополнял его собственным размышлением. Его философский ум обладал способностью на лету схватывать полувысказанную мысль, с первого взгляда проникать в сущность вещей, понимать настоящий смысл и связь явлений как в природе, так и в жизни общества и, восходя сам собою до коренных начал всего существующего, приводить все в стройный порядок. Он был самостоятельный мыслитель, доходивший большею частию до поразительных по своей смелости выводов. Впрочем, меня они не смущали; напротив, они давали опору моим собственным воззрениям, которые не всегда были согласны с его мнением. Местечко, где нам пришлось
[239]
жить, называлось на карте городом, но в действительности в нем было не более десятка невзрачных домиков, построенных на берегу, в уровень с морем. Мы поместились в лучшем из них. Хозяева наши понимали немного по-английски. Люди тут родились, жили и умирали, нисколько не подозревая о существовании других обширных стран. На клочках возделанной земли росли только овощи, но зато на утесах водилось много дичи, а в заливе – устрицы и омары в огромном количестве. Охота и ловля занимали целые дни; кроме того, мы часто катались на лодке; раз даже доехали до Христианстата, старинного города, где в целости сбереглась жизнь прошлого столетия. После Парижа и Петербурга контраст был поразительный! Наконец корабль починили, мы снова пустились в путь и после многих препятствий наконец увидали Гавр при свете заходящего солнца. Я не сумею передать вам того чувства, которое охватило меня в ту минуту, когда корабль остановился в гавани. Сердце замирало; я ничего и никого не видал. Лунин говорил что-то, я не слыхал, что мне говорили. Это бессознательное состояние продолжалось, покуда я не ступил на родную землю, так легкомысленно мною покинутую два года тому назад. Товарищ мой был просто доволен тем, что цель странствия нашего достигнута, но у меня все личные чувства слились в одно чувство любви к отечеству, которое я в первый раз в жизни постиг во всей его полноте. После того как я в России видел только два класса людей – помещиков-землевладельцев и рабов-крестьян, прикрепленных к земле, как отрадно было чувствовать себя гражданином страны, где все пользуются равными правами и способностям каждого открыто свободное поприще! Но я недолго предавался своим чувствам: действительность предъявляла свои права; я опомнился и направился к гостинице с дорожным мешком в руках.
В ту минуту, как мы входили на лестницу, позвонили к обеду. После стольких дней, проведенных нами без движений в темной дощатой каюте, убранство столовой показалось нам верхом великолепия. Материя заявляла громко свои права, и, таким образом, мы снова начинали жизнь актом питания. Мы так долго кормились солеными тресковыми языками! Выходя из-за стола, мы узнали, что через два часа отправляется дилижанс в Париж. Мы поспешили занять два места и на следующий вечер были уже в Париже.
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ
(1789–1871)
Долгая жизнь автора «России и русских», не только совпала с двумя французскими революциями, как свидетельствуют даты его рождения и смерти, но и вобрала в себя множество великих событий, происходивших на его родине. Как и некоторые другие декабристы, Н. И. Тургенев оказался как бы «без декабря» – не участвовал в восстании на Сенатской площади, но столь многое сделал для его подготовки, что даже собственный словесный отказ от революционных методов, явно прозвучавший, как увидит читатель, в «России и русских», нисколько не умаляет истинной роли этого человека в развитии русской революционной мысли.
Сразу же надо сказать, что Николай Иванович Тургенев стал, без малейшего преувеличения, ни с кем не сравнимым фанатиком одной идеи: уничтожения рабства. Под этим он понимал прекращение крепостной зависимости российских крестьян. «Живу мыслию о будущем счастии России»,– говорил он, и в самом деле к этому свелась вся его жизнь. На замечание Н. М. Карамзина: «Мне хочется только, чтобы Россия подоле стояла», Николай Тургенев возразил как-то: «Да что прибыли в таком стоянии?» Он имел в виду, что смрадные испарения стоячего болота деспотизма и рабства крестьянского делают жизнь в отечестве настолько ужасной, что само его государственное существование ставится под вопрос. «Самодержавное правление,– писал он брату Сергею,– так не согласно с счастием гражданским, что самые великие качества государей самодержавных недействительны для пользы государств, между тем как малейшие слабости, от которых никто не свободен, причиняют невероятный вред».
Четверо братьев Тургеневых (пятый умер в раннем
[241]
детстве) принадлежали к той группировке отечественного дворянства, которая сыграла наиболее активную и наиболее благородную роль в русском общественном движении первой половины XIX в. Отец их, Иван Петрович, был близким сотоварищем знаменитого просветителя Н. И. Новикова по вольнодумному Дружескому ученому обществу. Это обстоятельство и ссылка Ивана Петровича в 1792 г., пусть и недолгая, из столиц в симбирское имение определили внутреннюю суть домашнего воспитания братьев Тургеневых, основанного на представлениях о политической свободе, свободном труде всех для каждого и т. п. Новиковские идеи Иван Петрович так или иначе проповедовал и в Московском университете, директором которого несколько лет (1800–1803) состоял после того, как Павел I возвратил ему, свободу передвижения и чины. В московском доме Тургеневых неизменными гостями были люди, составлявшие цвет русской литературы и русской мысли начала века,– Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, В. Л. Пушкин, молодые Жуковский и Батюшков. Всеобщее уважение к отцу, светские успехи матушки Екатерины Семеновны (урожденной Качаловой), наконец, гладкая поначалу служебная карьера брата Александра, к тридцати годам уже ставшего действительным статским советником,– все это сулило младшим Тургеневым, Николаю и Сергею, посты незаурядные и стезю высокую. Но превосходное образование, тесное соприкосновение с пробудившейся послевоенной Европой, постоянное невыгодное сравнение страдающей родины с другими странами окончательно сформировали взгляды Тургеневых и превратили их в чужаков в помещичьей среде. «Россия невероятно терпелива. Удивительно, как мало чувствующих людей даже между теми, которые размышляют»,– с болью писал Николай Иванович в письме к другу и единомышленнику М. Ф. Орлову. Чуть позже он еще более ясно выразил сжигавшую его пламенную страсть: «Я ничего не вижу в жизни, кроме этого прелестного идеала, называемого Отечеством, оно моя религия, моя любовь, мое бессмертие души, мое все». И в другом письме: «Ни о чем никогда не думаю, как о России. Я думаю, если придется когда-либо сойти с ума, думаю, что на этом пункте и помешаюсь». Он готов был страдать за свои убеждения, но думать не думал, что по невиданному парадоксу истории заплатит за них отлучением от обожаемого Отечества на много десятилетий.
[242]
Родился Николай Иванович в Симбирске. В 1798–1806 гг. обучался в Московском университетском пансионе; в 1808 г., уже числясь на службе в архиве коллегии иностранных дел, окончил Московский университет и отправился в заграничное путешествие для обучения наукам в Геттингене. Будучи от рождения хромым, в Отечественной войне участия не принимал. В 1813 г., успев совсем недолго послужить по финансовому ведомству, получил должность русского комиссара Центрального административного департамента союзных правительств; в 1815 г., находясь в Париже, управлял канцелярией генерал-губернатора занятых российскими войсками французских департаментов и трудился в Ликвидационной комиссии «по приведению в ясность и разделению между… державами как доходов, так и расходов по всем землям как Германии, так и Франции, находившимся под управлением союзных держав». За три года службы за границей Н. И. Тургенев выработал твердое убеждение: единственной целью его жизни станет освобождение российского крестьянства, а значит, и освобождение дремлющих сил нации…
Ранней осенью 1816 г. он получил уведомление о том, что назначен помощником статс-секретаря Государственного совета по Департаменту экономики и, следственно, ему надлежит выехать на родину.
«Не знаю, что-то сердце стынет, приближаясь к северу»,– признавался он на пути в Россию 16 сентября 1816 г., предчувствуя нелегкую борьбу, которая ждет его. «Можно ли мне будет привыкнуть еще раз смотреть на такие вещи, которые я и в аду не хотел бы видеть, но которые на всяком шагу в России встречаются? Можно ли будет хладнокровно опять видеть наяву то, о чем европейцы узнают только из путешествий по Африке? Можно ли будет без сердечной горечи видеть то, что я всего более люблю и уважаю, русский народ, в рабстве и унижении?» Едва свидевшись с ним и догадываясь о его чувствах, старший брат Александр Иванович писал 27 сентября 1816 г.: «Но я надеюсь, что, как он видел уже multorum hominum mores et urbes1, то и здешние нравы не будут наводить на него прежней сильной меланхолии. Надобно уживаться с людьми, со-
1 Нравы многих людей и города (лат.).
[243]
храняя по возможности свежесть душевную и даже готовность, несмотря на печальную опытность, быть им всегда полезным». Где-то здесь пролегает граница решительных разногласий между братьями (никогда, впрочем, не разделившая их в личных отношениях): Николай Иванович не желал уживаться с теми людьми, которые в бесконечных словоизлияниях готовы были потопить живое дело освобождения крестьянства – и благополучно для себя топили еще четыре десятилетия. Осторожный Александр Иванович так характеризовал душевное состояние брата в первые месяцы жизни на родине после разлуки: «Он возвратился сюда в цветущем состоянии здоровья и с либеральными идеями, которые желал бы немедленно употребить в пользу Отечества, но над бедным Отечеством столько уже было операций разного рода, особливо в последнее время, что новому оператору надобно быть еще осторожнее, ибо одно уже прикосновение к больному месту весьма чувствительно. К тому же надобно не только знать, где и что болит, но и иметь верное средство к облегчению или совершенному излечению болезни. Но, во всяком случае, теория, на прекрасных человеколюбивых началах основанная, может быть полезна, особливо в течение времени; ибо желание применить сии начала с пользою для России должно заставить узнать ее; хотя это и весьма трудно у нас, ибоиз одних дел, в высшие правительственные места поступающих, не скоро узнаешь недостатки существующего; надобно жить, то есть терпеть от правительства на самом месте страдания, т. е. внутри России, и потом еще служить там же, и наконец, когда надобно будет, генерализировать (т. е. обобщать.– В. К.), выбирать лучшие средства. Впрочем, большое достоинство в Николае и самое редкое в России, особливо теперь, когда не только люди беспрестанно меняются, но и самые государственные установления с ними – есть то, что он посвятил себя одной части – финансам и хочет остаться ей верен, если бы и выгоднейшие виды представились ему». Возникает ощущение, что старший брат в принципе разделяет взгляды младшего, но, предвидя все трудности и опасности, предостерегает его с нежной любовью наставника и друга (отец Тургеневых умер в 1807 г. и все заботы о братьях легли на плечи Александра Ивановича). Однако «моноидея» скорейшего освобождения крестьянства не позволяла Николаю Ивановичу сидеть сложа руки.
[244]
В начале октября 1816 г. Николай Тургенев отправился в Москву для краткого свидания с матерью. 22 октября он прибыл в Петербург к месту службы и – что не всегда совмещалось – к месту своего служения России. Первые впечатления, полученные в России, подтверждали худшие предсказания: «Все, что я здесь вижу, состояние администрации, патриотизма и патриотов и т. п., все это весьма меня печалит и тем сильнее, что не нахожу даже подобных или одинаковых мнений в других. Невежество, в особенности эгоизм, держат всех. Все хлопочут, все стараются, но все каждый для себя, в особенности – никто для блага общего». Вывод очевиден: «мраку здесь много, много». Еще до образования в 1818 г. Союза благоденствия Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов пытались создать в Петербурге тайное общество. Для Тургенева цель его могла быть единственная: прежде всего и важнее всего – освобождение крестьянства, а уж затем проблемы политических прав, реформа законодательной и судебной власти, свобода печати, парламентские формы и конституция. «Я никогда не отказался бы приложить все свои силы, даже пожертвовать собой, чтобы добиться гарантии этих великих свобод, но только после уничтожения рабства»,– писал он. Художественным воплощением антикрепостнической программы Тургенева, услышанной из уст самого ее автора, была пушкинская ода «Вольность»:
Приходится в очередной раз удивляться, до какой степени поэтической точности доходит Пушкин в характеристике Николая Тургенева в строфе о будущих петербургских декабристах (10-я глава «Евгения Онегина»):
Пушкин не читал ни писем Тургенева, на которые мы можем теперь опираться, ни его дневников, ни книги «Россия и русские», появившейся через десять лет после
[245]
гибели поэта, но в шести строчках он выразил самое главное в личности и воззрениях Тургенева. Достаточно сравнить стихи Пушкина с уже цитированными высказываниями Тургенева, чтобы убедиться: первое – забота о благе отечества была его единственной всепоглощающей страстью; второе – первостепенной целью преобразований было для него уничтожение «плетей рабства» – т. е. освобождение крестьян; третье – с другими декабристами он сближался постольку, поскольку их страстные призывы к свободе отвечали его «моноидее» – до тех пор, пока он видел «в сей толпе дворян освободителей крестьян», он разделял их взгляды. Все остальное оказывалось в глазах его второстепенным. Как справедливо заметил один из самых наблюдательных современников и свидетелей XIX века, князь П. А. Вяземский, убеждения Тургенева «с ним срослись; они врезались в нем неизгладимо и неистребимо, как на заветных каменных досках».
Он, вероятно, мог бы разделить горький скепсис A. С. Грибоедова: «сто поручиков хотят перевернуть Россию». Благородная идея Рылеева – погибнуть за край родной, указав примером своим путь будущим поколениям, в буквальной ее трактовке, была чужда Тургеневу. При всей своей бесконечно искренней готовности к личным жертвам он все же хотел преобразований сверху и преобразований постепенных. В «Опыте теории налогов» (1818) – первой русской серьезной книге на эту тему1, Николай Иванович, между прочим, писал: «Введение гласности там, где она неизвестна, должно быть произведено в действо мало-помалу и с осторожностью». Любопытно, что осторожность и «постепенство» Тургенева вызывали недоумение у такого, казалось бы, осторожного в своей оппозиционности человека, как B. А. Жуковский. Сохранился экземпляр «Опыта теории налогов», принадлежавший Василию Андреевичу. На полях у слов автора: «вознося народ не по силам его слишком высоко» – недоуменное восклицание Жуковского: «Николай Иванович! Вы ли это?» Да, это был он. А его книга, несмотря на всю ее – по нашим меркам – умеренность, явилась одной из первых тропинок
1 На первой ее странице такое уведомление: «Сочинитель, принимая на себя все издержки печатания сей книги, предоставляет деньги, которые будут выручаться за продажу оной, в пользу содержащихся в тюрьме крестьян за недоимки в платеже налогов».
[246]
к будущей дороге декабристских идей. Более того, ее так и поняли в окружении царя, как безнравственную, и запретили, даже экземпляры уничтожили. А матушку Тургеневых Екатерину Семеновну (женщину полуграмотную, несмотря на дворянский лоск) стращали опасностью, которая грозит ее сыну. Вяземский даже специально ездил ее утешать «в грусти, которую налогами своими наложил на нее сын».
Николай Тургенев с убежденностью утверждал: «все в России должно быть сделано правительством, ничто самим народом». И теоретически «планировал» этапы реформ по пятилетиям: в 1-м следовало выработать кодекс законов; реформировать администрацию, преобразовать финансы; во 2-м – ввести законы в действие и проверить их на опыте; в 3-м – образовать социальную группу пэров – из дворян, уже освободивших крестьян; в 4-м – при содействии пэров освободить всех крестьян; в 5-м – ввести «народопредставление», т. е. парламент. Для начала, наивно надеясь на многократно обещанные Александром I реформы, Тургенев предлагал принять самые неотложные меры, вернее сказать, полумеры: 1) подтвердить закон Павла I о трехдневной барщине с присовокуплением, что крестьянин, работающий три дня в неделю на помещика, более никакими повинностями ему не обязан; 2) не допускать к работе детей от 10 до 12 лет; 3) обязать помещиков ежегодно представлять предводителю дворянства точные сведения о повинностях крестьян.
Тщетными оказались попытки Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова и других создать Орден русских рыцарей, Общество освобождения крестьян, которое занялось бы подготовкой общественного мнения к переменам; неосуществленным остался проект журнала «Россиянин XIX века» с той же программой (в нем собирался принять участие и юный Пушкин). В 1818 г. Николай Тургенев вступил в главную декабристскую организацию того времени – Союз благоденствия (с его собственным освещением последующих событий читатель познакомится в печатающихся фрагментах книги «Россия и русские»). Мы же расскажем коротко о дальнейшей судьбе ее автора.
Тургенев рассчитывал хотя бы в семейных владениях в Симбирской губернии, где было у них 640 душ, приступить к воплощению в жизнь некоторых своих мечтаний. «Ярем он барщины старинной оброком легким заме-
[247]
нил» – в буквальном смысле. Правда, насчет «раба, благословившего судьбу»,– это уже пушкинская ирония. Как бы то ни было, Николай Иванович действительно предпринял в имениях ряд важных шагов: назначил трех старейшин из крестьян для разрешения споров; положил денежное содержание ткачам, работавшим на фабрике, созданной в тургеневских владениях, равно как и дворовым людям; приказал отныне наказывать провинившихся крестьян штрафами, но никак не розгами. В письме к брату Сергею он рассказывал: «Я нашел, что работа крестьян на господина посредством барщины есть почти то же самое, что работа негров на плантации с тою только разницею, что негры работают, вероятно, каждый день, а крестьяне наши только три раза в неделю, хотя, впрочем, есть и такие помещики, которые заставляют мужиков работать 4, 5 и даже 6 раз в неделю. Увидев барщину и в нашем Тургеневе, после многих опытов и перемарав несколько листов бумаги, я решился барщину уничтожить и сделать с крестьянами условие, вследствие коего они обязываются платить нам 10 000 в год (прежде мы получали от 10 до 15 и 16 000). Сверх того они платят 1000 руб. на содержание дворовых людей, попа и лекаря». О дворовых забота Николая Ивановича была особая: этот слой крепостных он считал самым несчастливым: «кроме крестьян, существует у нас класс людей, который еще яснее носит на себе печать рабства, а именно дворовые люди. Здесь мы узнаем в полной мере все печальные последствия крепостного состояния: ложь, обман, к которым всегда прибегает слабый против сильного, и, наконец, величайшая испорченность нравов»…
В 1821 г. после двух лет неурожая, в последний раз перед долгой разлукой, Николай Иванович снова посетил Тургеневку. «Мужиков нашел я,– сообщал он брату,– в несколько лучшем положении, и именно в отношении к скоту и сие потому, что я распродал весь господский скот крестьянам, а частью роздал даром, да и продажа была дешевая <…> я сделал некоторую помощь деньгами: роздал более 1000 руб., но из сих денег мало досталось настоящим (т. е. работающим.– В. К.) крестьянам, большую часть получили сироты и обремененные детьми вдовы. Ребятишки не только от меня не бегали – напротив все за мною бегали <…> По тому, что я там видел и слышал, Симбирская губерния есть одна из замечательнейших по жестокости и по злоупот-
[248]
реблениям насчет крепостных людей». Справедливости ради надо сказать, что не всегда замена барщины оброком приходилась по вкусу крестьянам. Многие просили Николая Ивановича вернуть их на барскую пашню, потому что дешевизна хлеба не позволяла собрать денег даже на самый легкий оброк. Управитель предлагал Тургеневым вернуться к барщине или пригрозить крестьянам продажей деревни, если будут неаккуратны в платежах. Николай Иванович предпочел скостить оброк.
Испокон веков русский помещик звал своих крепостных людей хамами, но братья Тургеневы все поставили с головы на ноги: в их представлении хамы те, кто ест выращенный крестьянами хлеб и попирает их же достоинство. В начале 1818 г. Николай Тургенев писал Сергею: «Наш образ мыслей, основанный на любви к Отечеству, на любви к справедливости и чистой совести, не может, конечно, нравиться хамам и хаменкам. Презрение, возможное их уничтожение может быть только нашим ответом. Все эти хамы, пресмыкаясь в подлости и потворстве, переменив тысячу раз свой образ мыслей, погрязнут, наконец, в пыли, прейдут заклейменные печатью отвержения от собратства людей честных, но истина останется истиною, патриотизм останется священным идеалом людей благородных». Тургеневское понимание хамства, весьма оригинальное для того времени, было подхвачено в декабристских кругах. Николай Иванович как-то записал в дневнике: «Мне приятно было слышать, что мое слово хам употребляется некоторыми». «Авторское самолюбие»,– пошутил он…
В 1820 г., участвуя в заседании коренной думы (верховного органа Союза благоденствия), Тургенев поддержал идею будущего республиканского правления в России. Дорого обошлась ему эта поддержка! В показаниях П. И. Пестеля на следствии есть такое место: «после долгих прений все единогласно приняли республиканское правление; на вопрос, кого желают: монарха или президента? – Тургенев сказал по-французски: le president sans phrases (президента – без лишних слов). Сие заключение коренной думы сообщено было всем частным думам, и с сего времени республиканские мысли начали брать верх над монархическими». Пестель говорил еще о намерении назначить Тургенева «производителем дел» в предполагавшемся верховном правлении. Фраза о «президенте без лишних слов» нашла подтверждение
[249]
в показаниях многих участников декабристского движения. Некоторые сообщали даже, что Тургенев будто бы стоял за истребление царской фамилии, присоединяясь в этом к К. Ф. Рылееву, А. А. Бестужеву, Е. П. Оболенскому и другим. Забегая вперед, скажем, что 24 человека показали на следствии: Тургенев был членом тайного общества; трое из них: он был в числе учредителей общества; трое: Тургенев входил в число директоров; четверо: участвовал в восстановлении общества после роспуска Союза благоденствия; шестнадцать: участвовал в совещаниях; один: что был председателем; один: «сочинял правила по изыскиванию средств к изменению правительства и к конституции»; трое: Тургенев принимал новых членов, содействуя распространению общества. Все это говорит не только об истинно большой роли Николая Тургенева в общественном движении – она и так несомненна, но и о поведении декабристов на следствии, которое было психологически многообразным и не поддающимся однозначной оценке.
В самом деле, роспуск Союза благоденствия в 1821 г. не остановил ни работу Тургенева над теоретическим обоснованием необходимых перемен в отечестве, ни, фактически, его участие в тайных обществах, о делах которых он знал. Впоследствии, вспоминая о тех временах – о московском съезде Союза благоденствия и участии в нем Тургенева, один из благороднейших декабристов, И. Д. Якушкин, писал: «Непонятно, как в своем сочинении о России (т. е. в «России и русских») он мог решиться отвергать существование тайного общества и потом отрекаться от участия, которое он принимал в нем как действительный член на съезде в Москве и после многих совещаний в Петербурге». Якушкин рассказывал, что, объявив о роспуске Союза благоденствия, Тургенев сообщил устав нового общества Никите Муравьеву, а потом «для верности затолкал бумагу в бутылку и засыпал табаком». Конечно, отрекался Тургенев не столько от самих тайных обществ, хотя и такие «тактические» попытки у него были, сколько от их революционной и, особенно террористической деятельности. В 1821 г. Тургенев завершил работу «О возможных исправлениях российского судопроизводства». О публикации, конечно, не могло быть и речи. В этом своем трактате он писал: «Лучший залог, лучшая гарантия для всех деяний человеческих есть гласность. Зло, обнаруживаясь, много уже через сие самое теряет своей
[250]
силы <…> Гласность естественнее тайны. Она есть правило, тайна исключение. Посему при решении споров о гласности и тайне вопрос, кажется, должен состоять не в том: нужна ли гласность? Но в том: нужна ли тайна?»
Если вскоре после возвращения в Россию в 1816 г. Тургенев писал Вяземскому, что не стал бы «смотреть на снег», не будь у него надежды на целебные перемены в отечестве, то в 1818 г. Николай Иванович ощущал уже бесплодность прямой борьбы в условиях тогдашней России; принадлежа к чиновному кругу, и весьма высокому, он чувствовал себя в нем белой вороной, слышал насмешки за своей спиной при обсуждении любого свежего проекта, любого благого начинания. Он записал в дневнике 9 октября 1818 г.: «Я постарел нравственно очень сильно в два года, проведенные мною в Петербурге. Мысль о спокойной и ничтожной жизни в чужих краях более и более во мне укореняется». 20 ноября 1819 г. мысли эти облекаются в более резкие слова: «Почему все, имеющие на то средства, не переселяются из России?» Наконец, под новый, 1822 год, Николай Иванович записывает: «Иногда сильное желание, потребность дышать свободно превозмогает все и я жажду свободы на земле чужой; и свобода есть что-то родное человеку. Омерзение к принуждению и неволе направляет мысли и дух мой туда, где я спокойно могу сказать себе: «я не имею теперь нужды говорить вполголоса и в полмысли, дышать украдкою, мыслить для заполнения души горьким негодованием. Я не буду ежедневным свидетелем бедствий того, что для меня всего драгоценнее». 2 октября 1823 г. появляется последняя запись на эту тему: «Ужасаешься, когда вспомнишь о постоянной жизни в России»…
Весной 1824 г. Николай Тургенев, выправив законный отпуск с полным содержанием «для излечения от болезни и с выдачей на путевые издержки 1 тысячи червонцев», покинул Россию, чтобы не возвращаться туда волею судьбы три десятилетия. Вскоре после его отъезда в Москве скончалась мать, и Александр Иванович употреблял с тех пор все усилия для того, чтобы, разумно распорядившись наследством, обеспечить существование братьев Сергея и Николая.
[251]
В Риме Николай Иванович встретился с Петром Яковлевичем Чаадаевым, собиравшимся на родину. «Его мнения,– вспоминал Тургенев,– раздражали мои собственные и направляли таким образом, каким прежде они не направлялись». Первые ужасные известия о событиях на Сенатской площади, даже об аресте С. П. Трубецкого, с которым рядом стояли у колыбели тайных обществ, не то, чтобы прошли мимо Николая Ивановича, но как-то не донесли до его сознания всей глубины трагедии, всего масштаба случившегося. Только 23 января в лондонских газетах (с 20 января 1826 г. в течение шести лет Н. И. Тургенев жил в Англии) появились подробные сообщения о петербургском мятеже, встревожившие его. И лишь 29 апреля он записал в дневнике: «Известия из Петербурга так далеко переходят за черту моих ожиданий и опасений, что я не могу надивиться этому: как эти господа, добрые приятели, опутали меня! Всякий посторонний вправе по сим показаниям предполагать нечто значительное, а между тем все мое убеждение всегда было и есть, и будет, что все эти общества и так называемые заговоры вздор. Думая об этом, невольно «ребятишки» сорвалось с языка. Этот упрек жесток, ибо они теперь несчастливы. Я нимало не сержусь на них, но удивляюсь и не постигаю, как они могли серьезно говорить о своем союзе. Я всегда думал, что они никогда об этом серьезно не думали, а теперь серьезно признаются!! Хороший судья мог бы легко доказать им, что они на себя клепают! Может быть, надолго, может быть, навсегда я распрощусь с отечеством». В этой записи, совершенно не предназначенной для посторонних глаз, Николай Иванович словно бы отрекается – не от товарищей, нет – но от своего участия в заговоре. Но дело в том, что такого участия в самом деле не было и быть не могло. Он пекся о благе России, жизнь за нее готов был отдать, но не был действователем. На Сенатской площади оказаться он скорее всего не мог бы по самому складу личности и характеру убеждений. Вот почему объективно несправедливо было сложившееся о нем у многих декабристов представление как о человеке, не имевшем мужества остаться верным своему прошлому, отгородившемся непреодолимым для николаевского «правосудия» расстоянием от пострадавших товарищей, по существу их предавшем. В этом была трагедия Николая Тургенева: он остался невредимым вдали от России, он не разделил с «людьми 14 декабря»
[252]
ни каторги, ни ссылки и всю оставшуюся жизнь он стремился объяснить правительству, бывшим товарищам, русскому общественному мнению, наконец, даже самому себе свою истинную позицию, в которой не было ни предательства, ни тем паче безжалостной холодности к погибшим и гонимым. При этом он всегда ощущал, если и не этическую уязвимость, то всю необычность своего «заграничного» положения: «На всякое оправдание мне будут говорить: чего он хочет? Он не явился к суду и тем добровольно лишил себя и средств оправдания и всякого права на милость».
К 1 мая 1826 г. Тургенев знал уже все подробности. 20 мая к нему приезжал дипломат из русского посольства в Лондоне князь А. М. Горчаков (товарищ Пушкина по Лицею) и настоятельно требовал от Тургенева возвратиться на родину и предстать перед судом. Когда тот отказался, русское правительство обратилось к английскому с официальным запросом о выдаче государственного преступника. До Петербурга доползли слухи, что Николай Тургенев взят под стражу в Лондоне, закован и его везут на царский суд. 31 июля Вяземский написал Пушкину в Михайловское: «Александр Тургенев ускакал в Дрезден к брату Сергею, который сильно и опасно занемог от беспокойства по брате Николае. Несчастные». Эти вести чрезвычайно взволновали Пушкина. Само море, сам бог Нептун, по чьим волнам повезут или повезли мирнейшего Николая Ивановича на верную смерть, вызвал гнев поэта. Он саркастически вопрошал Вяземского, приславшего ему свое стихотворение «Море»:
Много лет спустя Пушкин, перед самой своей смертью, прочитал эти строки Александру Тургеневу, а тот переслал их брату Николаю в Париж… К счастью, Нептун поостерегся от предательства: Тургенев выдан не был. «Какая Фея, какой ангел-хранитель охранял меня!» – говорил он после.
[253]
Александр Иванович умолил его написать оправдательную записку, которую можно будет представить царю до суда. Поначалу Николай Иванович отказывался: «Если они хотят моего оправдания, пусть смотрят на дела, которые одни только могут подлежать ответственности, и пусть подводят дела и ответственность под какие угодно законы. Отчет в мнениях? Но я и сам себе не могу дать сего отчета. О многих предметах мнения мои не определены решительно. И где право или закон, требующий таких или таких, запрещающий такие или такие мнения?.. Перед кем я должен отвечать? Если перед законами нашими, я готов. Но у нас решает судья, а не закон. Закон мнений не знает. Судья ничего не хочет знать, кроме мнений».
И судья, вернее – судьи, несмотря на то, что оправдательная записка, весьма мягкая по тону, все же была составлена и выслана, решили: действительного статского советника Тургенева Николая Ивановича отнести к I разряду злоумышленников и приговорить к смертной казни отсечением головы. Из 63 членов Верховного уголовного суда за эту меру голосовали 35; за вечную каторгу – 19; за ссылку его в Сибирь – 4; за самое мягкое – лишение гражданских прав – 5 человек. При утверждении приговора всем «перворазрядникам» казнь была заменена вечной каторгой. «Вот результат деяний,– заключил он,– которые, видя в полной мере их бессилие, я предпринимал только для того, что по совести почитал долгом содействовать благу моего отечества». И сделал решительный вывод: «Несправедливость приговора простирается в некотором отношении за пределы серьезного».
Со дня объявления приговора 13 июля 1826 г. жизнь братьев Тургеневых словно переломилась. Сергей Иванович, также замешанный в деле тайных обществ, не смог оправиться от потрясения, заболел душевным расстройством и скончался 1 июня 1827 г. Александр Иванович отныне обречен был не только на крушение карьеры – это бы еще полбеды, но ему предстояло вести «челночную жизнь» между Россией и Европой, чтобы не покидать горячо любимого брата и вместе с тем добывать ему средства для жизни. К тому же всякий раз, возвращаясь в Россию, Александр Иванович не был уверен, что его выпустят снова. Такую жизнь он выдержал с лишком два десятилетия…
10 августа, переезжая из Лондона в Ричмонд, Ни-
[254]
колай Тургенев прочитал о казни Пестеля и остальных четверых. Это известие, записал он, «меня поразило чрезвычайно, особливо – казнь Пестеля! Он не действовал, а только говорил, не было с его стороны даже начала действия». Николай Иванович неоднократно принимался за новые и новые оправдания, точнее будет сказать – объяснения своего прошлого. Он преследовал при этом несколько целей: во-первых, обосновать свое искреннее убеждение, что желание блага родине ни при каких обстоятельствах не может быть преступлением перед нею; во-вторых, объяснить, что никогда не был он заговорщиком и не хотел кровопролития; в-третьих, добиться, сплетая хитроумную сеть доводов, права когда-нибудь воротиться на родину; в-четвертых, не повредить, а, насколько удастся, восстановить репутацию сначала обоих своих братьев, а потом одного Александра Ивановича. («Вот где мое главное горе – это вы»,– говорил он им). Насколько это ему удалось, судите по книге «Россия и русские», представляющей собой, в сущности, сгусток всех оправданий и объяснений. Однако и ее, написав, он не решился опубликовать, пока жив был брат Александр Иванович…
Для того чтобы читатель представил себе, как была принята книга Н. И. Тургенева в русском обществе, приведем часть письма к нему старого друга – В. А. Жуковского (1847): «Скажу искренно, что многое было мне тяжело найти в твоих записках: в них выражено везде враждебное чувство к России; дело не в том, имеешь ли право питать такое чувство против своего отечества и основано ли оно на правде; дело в том, что хорошо ли ты поступил, что так выразил перед светом. По моему мнению, нехорошо, во вред самому тебе и во вред тому действию, которое могла бы произвести твоя книга. Во вред самому себе, потому что уменьшил доверие к словам своим, оказавшись после 20 лет молчания все еще под влиянием мщения и ненависти, которые сделали тебя равнодушным к тому положению, которые слова твои должны непременно бросать на твое бывшее отечество. Что бы ни говорил ты о безумии патриотизма, всё роль обидчика есть роль тебя недостойная». Жуковский не понял, говоря так, что вовсе не ненависть, а любовь к родине и боль за нее водили пером невольного эмигранта, писавшего «Россию и русских». Многие, скажем, А. И. Герцен и Н. П. Огарев, относились к этой книге совершенно иначе.
[255]
Несколько раз через Жуковского и самолично Александр Иванович просил императора разрешить брату вернуться на родину. Но просьбы эти неизменно отклонялись. Между тем жизнь Николая Ивановича переменилась: в 1833 г. он сочетался браком (по православному обряду) с дочерью ветерана наполеоновских войн Гастона Гиариса Кларой (1814 –1891). Было у них двое сыновей – Альберт и Петр1, и дочь Фанни. Существовал Николай Тургенев стараниями брата Александра, сберегавшего для него каждый рубль и оставившего солидное наследство, безбедно в парижском доме и на загородной вилле Вербуа. До конца дней сохранял живую, богатую оттенками русскую речь, готовый обрушить свое красноречие на посещавших его соотечественников – к огорчению супруги, по-русски не понимавшей. По воспоминаниям современника, «даже речь его французская, весьма свободная, выдавала акцент и руссицизмы. Он не хотел блистать рядом с парижанами, а, напротив, хотел, чтобы они узнавали в нем русского». Тем горше было ему, когда некоторые соотечественники, приезжавшие в Париж, чурались его как государственного преступника, приговоренного к казни.
В 1857 г., воспользовавшись амнистией декабристам, он с сыном и дочерью, наконец, посетил Россию. Видно, собирался остаться надолго – во всяком случае, принялся строить дом в купленном селе Стародуб Каширского уезда Тульской губернии, не забыл о школе и больнице. Попытался освободить крестьян с землей, но только согласия их не получил. Побывал и в горячо любимых с детства местах России – Симбирской губернии, где вступил во владение имением, доставшимся от родственницы. Однако скоро возвратился в Париж.
В 1858 г. в «Русском заграничном сборнике» появилась статья Н. И. Тургенева «Пора», где он вновь поднял свою главную тему, на этот раз, уже в иную историческую эпоху, выступив против «постепенства». «Отстранить эту опасность,– писал он,– можно только одним средством: высказать разом, однажды навсегда всю сущность дела; объявить в простых ясных словах, что пра-
1 Младший из них, скульптор Петр Николаевич Тургенев, уже в нашем веке передал архив отца и дядей своих Академии наук России, внеся тем самым неоценимый вклад в историю отечественной культуры.
[256]
вительство, которое одно только имеет голос в России, решилось уничтожить крепостное право; что крестьяне крепостные будут впредь крестьянами самостоятельными, подобно крестьянам казенным».
Когда в русской посольской церкви в Париже прочтен был перед торжественным молебствием «всемилостивейший манифест» от 19 февраля 1861 г., посол предложил Николаю Ивановичу первому приложиться к кресту в знак признания его великих заслуг в том деле, которое наконец совершилось. Скоро получил он письмо от А. И. Герцена и Н. П. Огарева: «Милостивый государь Николай Иванович! Вы были одним из первых, начавших говорить об освобождении русского народа; вы недавно, растроганный, со слезами на глазах, праздновали первый день этого освобождения. Позвольте же нам, питомцам нашего союза, сказать вам наше поздравление и с чувством братской, или, лучше, сыновней любви пожать вам руку и обнять вас горячо, от всей полноты сердца».
30 марта 1861 г. Николай Иванович, разобравшись в смысле манифеста, отвечал: «Глубоко тронутый дружеским и благородным вашим приветствием, я не могу в полной мере изъяснить вам всей моей признательности. Мы все ожидали с томительным нетерпением благой вести. Но когда она дошла сюда, то поразила меня так, что и по сию пору я едва могу опомниться.
Вы питали к нашему бедному, но доброму и разумному народу ту беспредельную любовь, коей он вполне заслуживает, вы поймете меня. Я твердо верую, что наши братья-крестьяне из того, что дарует им благий и твердый император, сумеют выработать для себя и свободу и самостоятельность.
Между тем, судя по тому, что нам доселе известно, новое положение о крестьянах представляет некоторые положения, кои необходимо обсудить. Так, например, постановление о крестьянах мелкопоместных помещиков. Этих крестьян предполагается переселить на казенные земли, вознаградив господ за потерю людей. Вероятно, это делается в видах экономии. Но проще и даже дешевле было бы заплатить помещикам за землю, оставив на сей земле крестьян, кои на ней жили.
Нельзя также не продолжать восставать против розог, хотя в сем отношении новое положение представля-
[257]
ет некоторый успех именно тем, что, предоставляя право розог исключительно волостному суду, оно тем самым лишает сего права помещиков.
Наконец, вспоминая мысль вашу об ассоциации против телесных наказаний1, мне кажется, что не худо было бы предложить русским господам вообще перестать говорить ты и мужикам, и лакеям и пр., и пр. Я попробовал это в первый раз за 50 лет2, и тогда это не удалось. Я повторил то же за три года3, и дело пошло на лад. Крестьяне и вообще те, коим говорят в России ты, нимало не удивлялись, когда я им говорил вы, хотя, очевидно, чувствовали разницу <…>
Хотя я чувствую, что не имею теперь довольно сил для действия на старом поприще, я не мог, однако же, не сказать вам сих немногих слов о дальнейших подробностях освобождения. Вам предстоит славная обязанность дальнейшего труда, дальнейшей борьбы. Когда-нибудь народ русский узнает и ваши подвиги, и ваше горячее усердие к его благу, и благословит вас признательным воспоминанием».
Это звучит как завет, но и как пророчество. Благодарного воспоминания по праву заслужил и декабрист-изгнанник Николай Тургенев…
Он прожил еще десятилетие. Размышляя над свершившимся освобождением крестьян и дальнейшими задачами, написал книгу «Чего желать для России» и послал ее Александру II. Побывал дважды на родине. Все лучшие земли в тульском имении отдал крестьянам, оставив себе лишь неудоби, да и те сдав им в аренду. Записал сына Петра в родословную дворянскую книгу Тульской губернии. Николай Иванович понимал, что нити, связавшие его самого с парижским домом, ему не разорвать, умирать в Россию не вернуться. Сын, как надеялся он, другое дело. Между тем многие в России осуждали его за «невозвращение» – такова уж была судьба этого человека, оказывавшегося не раз мишенью осуждения в отечестве. Прав мемуарист, писавший: «И такого-то человека многие из нас судят да рядят: зачем да почему не переселился он на русскую почву, как скоро сделалась она ему доступною? Не доискивайтесь причин, не ройтесь в чужой совести. Кто
1 В I860 г. была опубликована статья Герцена «Розги долой!».
2 Т. е. 50 лет назад.
3 Т. е. во время посещения России.
[258]
знает, кто уведает задушевную тоску по родине этого старца!»
За несколько дней до кончины Николай Иванович еще оживленно обсуждал свои «вечные темы», ездил верхом. Врач говорил старшему сыну, что в 82-летнем старике изумительная энергия, крепость духа и «вся полнота умственных способностей»…
Некролог о нем принадлежит перу отдаленного родственника, великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Он писал:
«29 октября (10 ноября) 1871 года скончался в своей вилле Вербуа (Vert-Bois – или «Зеленая роща», как называл ее покойник), возле Буживаля в окрестностях Парижа, один из самых замечательных и – прибавим смело, как бы отвечая перед нелицемерным судом потомства, – один из благороднейших русских людей Николай Иванович Тургенев. <…>
Конечно, ни один будущий русский историк, когда ему придется излагать постепенные фазисы нашего общественного развития в XIX столетии, не обойдет молчанием Н. И. Тургенева; он укажет на него, как на одного из самых типических представителей той знаменитой эпохи»… Но, замечает И. С. Тургенев, и в последующие времена Николай Иванович был душою с родиной: он «безустанно, со всем жаром юноши, со всем постоянством мужа, следил за всем, что совершалось в России хорошего и дурного, радостного и печального,– и отзывался живым словом и печатной речью на все жизненные вопросы нашего быта».
Приведем в заключение меткую характеристику, данную И. С. Тургеневым умершему родственнику, и выражающую самую суть его натуры: «Н. И. Тургенев остался русским человеком с ног до головы – и не только русским, московским человеком. Эта коренная русская суть выражалась во всем: в приеме, во всех движениях, во всей повадке, в самом выговоре французского языка – о русском языке уже и упоминать нечего. Бывало, находясь под кровом этого радушного, гостеприимного хозяина-хлебосола <…>, слушая его несколько тяжеловатую, но всегда искреннюю, толковую и честную речь, ты невольно удивлялся, что почему ты сидишь перед камином в убранном по-иностранному кабинете, а не в теплой и просторной гостиной старозаветного московского дома где-нибудь на Арбате, или на Пречистенке, или на той
[259]
же Маросейке, где Н. Тургенев провел свою первую молодость?…»
Николай Иванович давно возвратился на родину – своими трудами, письмами, дневниками, самой памятью о нем. Возвращается и этой публикацией.
ЛИТЕРАТУРА
Тургенев Н. И. Россия и русские. Т. 1. Воспоминания изгнанника.– М., 1915.
Тургенев Н. И. Дневники и письма Н. И. Тургенева. Т. I – III.– Пб., 1911–1921 (Архив братьев Тургеневых).
Памяти декабристов.– Л., 1926. Т. 2, 3.
Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к С. И. Тургеневу.– М.-Л., 1936.
Пугачев В. В. Исторические взгляды Н. И. Тургенева.– Ученые записки Горьковского университета, 1961, вып. 52.
Тарасова В. М. Декабрист Н. И. Тургенев и его место в истории общественного движения России 20–60-х гг. XIX в.– Л,, 1966.
Глава I
БЕГЛЫЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЕВРОПЫ
ПЕРЕД ВОЙНОЙ С РОССИЕЙ
Пышные дни Эрфуртского свидания1 показали Наполеона во всем блеске его славы и его влияния. Новая война с Австрией2, открывшаяся несколько месяцев спустя, возвеличила его в еще большей мере, если только это было возможно, и французская империя достигла вершины своего могущества.
Именно в это время я в первый раз приехал во Францию и под влиянием впечатлений, полученных мною в Германии, наблюдал с некоторым ужасом грозную власть, распоряжавшуюся тогда судьбами французской нации и, казалось, в равной мере державшую в своих руках судьбы всей Европы.
Я видел Наполеона еще в Эрфурте; но там его величие произвело на меня менее сильное впечатление, нежели приниженность Александра. Под влиянием, быть может, не вполне благоразумного чувства, мне казалось, что моя родина унижена в лице ее императора. Действительно, не нужно было знать все происходящее в недрах правительственных кабинетов, чтобы определить в согласии со всем миром, который из двух государей властвовал тогда в Эрфурте и в Европе.
Во второй раз я увидел французского императора в Версальском парке на празднике, данном в его честь. Я блуждал среди толпы, как в ней вдруг произошло сильное движение. Появился Наполеон со второй императрицей и блестящей свитой своих маршалов. Его не ждали. Все присутствующие закричали: «Да здравствует император!». И я, подчиняясь общему волнению, присоединил свой голос к крику французов. Долгое время я упрекал себя за это невинное увлечение; ныне я более не жалею о нем. <…>
Что касается России, то здесь дружеское настроение, вывезенное Александром из Эрфурта, давно уже сменилось резким недовольством. Разлад между двумя империями, первой причиной которого было занятие герцогства Ольденбургского3, с каждым днем принимал все более тревожный для спокойствия Европы характер; нужна была лишь искра, чтобы возгорелся общий пожар.
[261]
Ссора, происшедшая между русским и французским посланниками4 при неаполитанском дворе, за которой последовала дуэль между этими дипломатами, рассматривалась, как признак разрыва, готового вспыхнуть между двумя императорами. Однако, по мнению русского посла, эта ссора объяснялась лишь излишним рвением, с которым Иоахим5 желал изгладить воспоминание о некоторых бессильных попытках оказать неповиновение Наполеону. По крайней мере, Долгорукий высказался именно в этом смысле в депеше, отправленной своему двору в самый день происшествия (1 января 1812 года).
Как бы то ни было, все предвещало неизбежную войну. Франция производила на глазах у всех огромные приготовления и принимала все меры, которые ей диктовала ее искусная политика, чтобы стянуть всю Европу под свои знамена и нанести решительный удар последней континентальной державе, которая могла еще бороться против вечных завоевательных стремлений Наполеона.
Россия, со своей стороны, не оставалась бездеятельной. Когда я вернулся туда, то губернии, через которые мне пришлось проезжать, оказались наполненными войсками; вид их был внушителен; но, как в расположении, так и в движении этих грозных масс, не было заметно обдуманного плана, предусматривающего все заранее и направленного к достижению определенной цели, того плана, который преобразует различные и многосложные части в гармоническое целое. Налицо были, так сказать, тело, материя; но напрасно стали бы искать здесь того духа, который должен был дать им жизнь. Во французских армиях, наоборот, была душа, которая все оживляла собой, давала себя чувствовать всюду, как в приготовлениях, так и в исполнении: то был гений Наполеона.
Прибавим к этому, что, несмотря на все эти приготовления, некоторые упорно верили, что войны не будет, что Александр и Наполеон в большей мере стараются устрашить друг друга, нежели действительно желают воевать. Так думал канцлер Румянцев6, министр иностранных дел; он был настолько убежден, что все ограничится демонстрациями, что, будучи извещен чиновником одного из русских посольств в Германии о наступлении французов по направлению к Неману, закричал, что это известие ложно и вздорно.
[262]
Глава II
КАМПАНИЯ 1812 ГОДА
В многочисленных сочинениях, появившихся в печати относительно кампании 1812 года, приводились официальные заявления, депеши и т. д.; но в них нигде нет никакого указания на план, принятый русским правительством при приближении войны. Всего логичнее сделать отсюда тот вывод, что оно и не имело никакого плана. Общий инстинкт подсказывал, что Россия может успешно сражаться против неприятеля, только позволив ему проникнуть в центр страны, но ничто не доказывает, что эта тактика основывалась на какой-нибудь заранее принятой системе.
Ни выбор укрепленных пунктов, ни устройство магазинов, необходимых для продовольствия армии, не указывали в начале кампании на намерение отступать. Эти магазины, так же как и Дрисский лагерь, были расположены поблизости от границы.
Военный министр Барклай-де-Толли, реорганизовавший армию, был назначен главнокомандующим, но власть не была передана ему безраздельно: генерал Багратион должен был иметь одинаковые полномочия. Таким образом, оказалось двое главнокомандующих, так как император ни за что не хотел принять официально звание верховного предводителя армии. Это была первая ошибка: можно было иметь две армии, но здравый смысл говорил, что для двух этих армий необходим один вождь, раз им предстояло действовать совместно, в особенности же против такого противника, как Наполеон.
Кампания 1812 года началась, как известно, отступлением русской армии в глубь страны. Иностранцы были в восторге от этого отступления; в России, наоборот, общественное мнение так же, как и голос всей армии, поднялись против главнокомандующего Барклая-де-Толли. Тем не менее император, находившийся в Петербурге, по-прежнему оказывал поддержку и сохранял доверие своему избраннику. Но после занятия неприятелем Смоленска, с еще большей настойчивостью раздались требования об удалении военного министра, несмотря на хорошо известные чувства императора. В то же самое время, по предложению генерала Ермолова, начальника штаба первой армии, несколько генералов совместно обратились к императору с ходатайством об отозвании
[263]
Барклая-де-Толли и о назначении на его место генерала Кутузова, только что заключившего мир с Турцией после довольно славной кампании7; на Кутузова указывало и общественное мнение. Александр в конце концов уступил. Оставляя начальство, Барклай едва не сделался жертвой народной ярости.
Но публика, которая даже в России не бывает долгое время несправедливой, отказалась впоследствии от своего предубеждения против Барклая-де-Толли. Военные сумеют оценить его заслуги, как генерала, а беспристрастные люди воздадут должное его высокой честности и прямодушию.
Но сказанного еще недостаточно для полной оценки похвальных качеств этого замечательного человека. Все русские, знающие, какие ужасные бедствия причинило их стране устройство военных поселений, должны быть благодарны человеку, который, один во всей империи, осмелился открыто порицать перед императором это столь же нелепое, как и жестокое учреждение. Может быть, Барклай рассматривал при этом военные поселения лишь с военной точки зрения; но, каковы бы ни были его мотивы, от этого не уменьшается высокое достоинство заявления собственного мнения в стране, где все проклинали названное учреждение, но где ни у кого не хватило самоотверженности и смелости открыто высказать свое мнение императору: царило молчание, а самодержец, видящий себя вознесенным на такую высоту, не удостаивает снизойти до того, чтобы вникнуть в значение молчания своих подданных.
Завоеватель не нашел в России ни изменников, ни даже льстецов. Выискался только один несчастный епископ8, согласившийся упоминать в ектеньи9 имя Наполеона. Правительство жестоко наказало его за эту слабость: он был разжалован, т. е. лишен сана епископа,– вещь почти неслыханная в России.
На русской территории Наполеон встречал только врагов; часто даже отдельные лица оказывали ему блестящее сопротивление. В Смоленской губернии несколько дворян умерли смертью мучеников, сопротивляясь победителю *. Знаменитый Ростопчин сжег свою усадьбу и оставил там надпись10, в которой французы могли прочесть, что такой же прием ожидает их всюду.
Будучи назначен московским генерал-губернатором,
* Энгельгардт, расстрелянный французами. (Прим. автора.)
[264]
Ростопчин запятнал свой патриотизм несколькими актами насилия и жестокости. Накануне вступления в столицу врага он послал за одним молодым человеком, незадолго до этого заключенным им в тюрьму, и приказал привести его к своему дворцу. Здесь Ростопчин заявил собравшемуся народу, что это изменник, продавший город французам: «Я предаю его вашему мщению!» – закричал он. Голос из толпы ответил ему: «Мы не палачи». Ростопчин, без сомнения, торопившийся убежать и желавший поскорее покончить с этим, вызвавшим его гнев человеком, велел солдату рубить несчастного. Это приказание было понято как начало казни. Кровь бросилась тогда в голову черни, которая с яростными криками ринулась на мученика, отданного ей на растерзание, вскоре добила его и затем поволокла его труп по улицам. Какой-то чиновник генерального штаба русской армии, возвращавшийся в город, положил конец этому возмутительному зрелищу, заставив убрать обезображенные останки, которые должны были насытить ярость черни. Преступление несчастного молодого человека состояло в том, что ему приписывали перевод мнимой прокламации Наполеона, составленной в Дрездене и напечатанной в одной гамбургской газете; перевод этот полиция Ростопчина нашла в бумагах несчастного.
После отступления французской армии отец этой жертвы попросил императора предать убийцу суду, изложив событие во всей его отталкивающей подробности. Александр пришел в ужас от поступка Ростопчина; он велел произвести расследование по этой жалобе; но сенат очутился в таком затруднительном положении, видя себя поставленным в необходимость обвинять в убийстве генерал-губернатора, наместника императора, что дело не получило дальнейшего хода и было потушено. Очень вероятно, что это кровавое происшествие весьма способствовало охлаждению, которое император обнаружил впоследствии к Ростопчину. По возвращении в Москву, Ростопчин велел схватить еще нескольких предполагаемых изменников. Самым примечательным из них был француз, учитель иностранных языков, мирный и уважаемый человек, которого при вступлении Наполеона в Москву принудили быть переводчиком при так называемой депутации, состоявшей из двух или трех лавочников, которая должна была обратиться с торжественной речью к победителю, ибо во что бы то ни стало требовалось представление депутации. Другой человек
[265]
такого же скромного общественного положения и не менее уважаемый был обвинен в том, что исполнял полицейские обязанности в городе в то время, как его занимали французы. Ростопчин велел истязать обоих этих людей на улице, как каторжников, но, по повелению императора, они были немедленно освобождены.
Еще один факт может прибавить лишний штрих к характеристике Ростопчина. В числе административных распоряжений, которые он счел своим долгом сделать, было запрещение торговцам галантерейными товарами употреблять французский язык на вывесках лавок. Несмотря на все это, Ростопчин отличался большим умом, и такая репутация установилась за ним не только в России, но и в других цивилизованных странах.
Пожар Москвы вызвал много толков. Кто поджег ее? Французы утверждали, правда, что при вступлении их в Москву в нескольких местах показалось пламя; французские власти велели даже повесить нескольких несчастных, якобы застигнутых на месте преступления в качестве поджигателей. Это доказательство само по себе малоубедительно, ибо везде власти без всяких церемоний применяют всевозможные доводы вплоть до виселицы, когда они хотят, чтобы верили их утверждениям. Но простой здравый смысл говорит, что нет разумных оснований обвинять французов в этом событии, противоречащем всем их интересам. С другой стороны, этот пожар, несомненно, оказал великую услугу русской империи, возбуждая народную ярость против врага и лишая последнего неисчислимых средств продовольствия. Кроме того, есть несколько фактов, указывающих, что огонь был, по-видимому, пущен самими русскими. Московские власти, очищая город, увезли пожарные трубы. Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что власти открыли тюрьмы. Говорили даже, что приготовленные для поджогов факелы были изготовлены каким-то иностранным физиком; ему будто бы было поручено властями построить огромный воздушный шар *, которым он мог бы управлять по своему желанию и при посредстве которого он должен был, поднявшись в воздух, бросать в неприятельский лагерь всевозможные горючие материалы. Как бы то ни было, вопрос о пожаре остается темным. Несомненно лишь то, что правительство, т. е.
* Это не шутка; проект воздушного шара11 был предметом серьезной дипломатической переписки. (Прим. автора.)
[266]
император, не имело никакого отношения к пожару; оно никогда не давало никаких приказаний, никакого разрешения в этом смысле. По всей вероятности, толчок был дан местными властями, а остальное явилось делом подражания. Русские солдаты, оставлявшие город, и отдельные жители, может быть, произвели там и сям поджоги, и огонь распространился с особенной быстротой и силой, потому что не было никаких средств потушить его. Нет никаких сомнений, что задолго до взятия Москвы некоторые говорили о сожжении города, как о необходимой мере в случае занятия его неприятелем. Эти беседы происходили в присутствии Ростопчина и у него на дому. Между прочим, один сенатор, все богатство которого состояло в домах, расположенных в самом населенном и торговом квартале, сказал, что он не задумается поджечь их, если французы войдут в Москву. Ростопчин открыто выражал то же мнение.
Тем не менее, долгое время спустя, он счел своим долгом выпустить в Париже брошюру12, в которой защищался от обвинения, что пожар Москвы был делом его рук. Это заявление поразило всех. Его соотечественники были огорчены тем, что русскому пришла в голову мысль защищаться, когда ему приписывают великое деяние. Однако некоторые лица, из числа близких друзей Ростопчина, остаются при том убеждении, что он говорил правду, утверждая, что он не отдавал приказания сжечь Москву. Если признать, что слухи о Ростопчине, как о виновнике пожара Москвы, столь же истинны, сколько и правдоподобны, то, по правде сказать, становится непонятным, что могло побудить Ростопчина выпустить эту брошюру. При ее появлении некоторые лица, привыкшие к тому, что придворные идут на всевозможные способы для снискания милости, предполагали, что для Ростопчина это было средством, подобно всякому другому, для достижения каких-либо целей. Но русский двор так же мало, как и общественное мнение, вменял ему в преступление сожжение одной из столиц империи. Лишь совершенные им жестокости внушали к нему отвращение всем людям, не лишенным сердца; однако он не оправдывался в совершении этих жестокостей, хотя и испытывал беспрестанные и мучительные угрызения совести. Вдобавок перед выпуском этой брошюры Ростопчин, казалось, окончательно усвоил не лишенную величия роль человека, который сжег Москву и этим спас империю. Иначе как бы он мог упиваться теми чествованиями, ко-
[267]
торые с таким энтузиазмом и в таком обилии устраивали ему добрые немцы во время его путешествий по их стране?
Как бы то ни было, «афишки», выпущенные Ростопчиным13, написанные шутовским языком, в форме бюллетеней, не заключали ни одного слова, касавшегося этого крайнего средства; в них, наоборот, указывалось, что жители должны защищать город, даже заметно было старание внушить им сознание полной безопасности, уверив их, что враг никогда не войдет в город. Дело в том, что Ростопчин не предвидел, что ему придется вскоре самому выехать из Москвы. По этому поводу он вел продолжительную переписку с фельдмаршалом Кутузовым, главнокомандующим армией; он хотел, чтобы последний совместно с ним выработал меры для сохранения столицы. Фельдмаршал, по-видимому, и не думал посвящать московского генерал-губернатора в свои планы: он уверял, что городу не угрожает никакой опасности, отвечая за целость его своими сединами, и говорил, что французы войдут туда не иначе, как перешагнув через его труп. Но, делая эти заявления, старый фельдмаршал в то же время держал военный совет, где он и все генералы, за исключением одного, начальника генерального штаба *, настаивали на оставлении Москвы.
Однако Ростопчин передавал уверения фельдмаршала жителям, и так как нельзя было заподозрить искренность этих уверений, то никто не подумал о том, чтобы скрыть свое имущество. Москва всегда заключает в своих складах большое количество товаров, предназначенных к отправке в различные губернии империи. Все это осталось и погибло в городе. Только почти накануне вступления французов жители решили бежать и увезти с собой, что можно было спасти. Из 300 000 человек, составляющих население Москвы, там оставалось едва 60 тысяч,14 в момент занятия города французами **.
Наполеон всегда думал, что занятие Москвы не за-
* Это был храбрый, честный Коновницын. Сын его с 1826 г. находился в Сибири. (Прим. автора.)
** Московский полицмейстер, оставляя город, послал императору донесение, и, следуя официальной форме, употребляемой в подобных случаях, которая не позволяет довольствоваться честью при обращении к императору, но требует, чтобы, говоря с ним, всякий раз упоминали о счастье, этот чиновник писал: «Имею счастье известить Ваше Величество, что французы заняли Москву», и т. д. и т. д. (Прим. автора.)
[268]
медлит привести к миру, условия которого будут продиктованы им самим. Эта мысль очень занимала также общественное мнение России и беспокоила того, которого провозгласили впоследствии спасителем страны; ибо, извещая императора об оставлении Москвы, Кутузов особенно настаивал на том, чтобы не вступали в переговоры с врагом. Александр доказал, что он умел быть твердым, когда хотел. Потом рассказывали, что он решился на все испытания, готов был удалиться даже в Сибирь, лишь бы только не вступать в переговоры с Наполеоном.
Война 1812 года имела и другую особенность, которую не могли предотвратить, но которую всячески старались затушевать. Она состояла в следующем.– При виде неприятеля крестьяне, по собственному почину, взялись за оружие. Везде, в чисто русских губерниях, крестьяне вели партизанскую войну и мужественно бились. Когда неприятель удалился,– те из них, которые были крепостными, вполне естественно думали, что такое геройское сопротивление, преодоление стольких опасностей, навстречу которым они храбро шли, стольких лишений, самоотверженно перенесенных ради общего освобождения,– давали им право на свободу. Убежденные в этом крепостные некоторых местностей не хотели более признавать власть своих господ. Русские рабы, как это я докажу в другом месте, не пали так низко, как это обыкновенно, думают в Европе. Поэтому не было ничего удивительного для тех, кто знал их, что они старались сбросить ярмо собственного рабства после того, как с таким успехом способствовали освобождению страны от угрожавшего ей чужеземного ига. При таком положении поведение правительства так же, как и местных властей и самих помещиков, отличалось благоразумием. Вместо того, чтобы прибегнуть к насилию,– этому единственному аргументу рабовладельцев,– они воздерживались от каких бы то ни было действий; они не трогали крестьян, откладывая до более благоприятных обстоятельств возвращение того, что они считали своим правом. Возможно даже, что совесть мешала им свирепствовать против людей, жертвы которых были так велики и поведение столь патриотично. Лишь долгое время спустя, когда первое возбуждение крестьян улеглось само собой, и управление страной вошло в свою колею,– все вернулось к обычному порядку, к сожалению, слишком похожему на тот, который, по заявлению
[269]
одного государственного человека, воцарился в Варшаве после последнего польского восстания.
Если бы русская армия заключала уже тогда в своих недрах элементы прогресса, зародыши которых обнаружились в ней спустя некоторое время, то очень вероятно, что попытки освободиться проявились бы тогда не только среди крепостных,– так живо было в этот момент у русского народа сознание своей силы и собственного достоинства.
Переход через Березину был заключительным звеном кампании. Император прибыл тогда к армии. Фельдмаршал Кутузов, всю свою жизнь отличавшийся двуличностью придворного, как говорят, вышел из этой роли, когда его провозгласили спасителем отечества. Он сознавал власть, которую его имя имело над умами, и его поведение во всех отношениях соответствовало этому сознанию. Но он не долго занимал это славное положение: смерть поразила его вскоре после его последних триумфов.
Говорят, что Александр и, в особенности, его брат Константин,– закоренелый капрал, не искупавший, подобно императору, этой мании выдающимися достоинствами,– были возмущены, найдя армию в нестройном виде, не соответствующем уставу, что, конечно, было неизбежно при тогдашних обстоятельствах. Вообще обмундирование и экипировка русского солдата рассчитываются лишь для потребностей парада. Выступая в поход, солдат должен нести на спине большую часть своей одежды,– кожаные сапоги, штаны, гренадерский плюмаж и т. д. Только что сделанная армией кампания должна была изменить снаряжение солдат. Их находили на границе одетыми и обутыми так, как этого требовали длинные утомительные переходы и суровость времени года. Они были одеты почти так же, как их следовало бы одевать всегда, ввиду службы, которую они несли, и резкости климата; их обмундировка должна была походить до некоторой степени на одежду крестьян. Видя проходивший мимо полк гвардейских стрелков, покрывший себя славой во время кампании, великий князь Константин был оскорблен зрелищем, которое представляли эти солдаты; особенно покоробила его, кажется, их толстая и неуклюжая обувь. Он был также недоволен нестройностью рядов и не мог удержаться от негодующего восклицания: «Эти люди только и умеют, что сражаться!» В устах Константина это было горьким упреком.
[270]
Глава III
МОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В РОССИИ ОТ 1816 ДО 1824 гг.
Из Парижа я отправился во Франкфурт, чтобы закончить там некоторые дела по ликвидации платежей. Приближался конец моей деятельности за границей; я должен был принять решение относительно своего будущего, о котором до тех пор я никогда не заботился. До той поры я шел по жизненному пути, куда толкала меня судьба, не встречаясь ни с какими трудностями; теперь для меня настала необходимость самому выбирать поприще для продолжения службы государству. У меня не было никаких оснований прекратить эту службу; я мог продолжать ее или за пределами России, или вернувшись на родину. Казалось, все побуждало меня к тому, чтобы не возвращаться в Россию. Долгое отсутствие должно было во многих отношениях отягчить для меня пребывание на родине, тогда как ради всех материальных и духовных выгод с моей стороны было бы естественно предпочесть пребывание за границей. Моя семья, жившая в России, зная мои вкусы и образ мыслей, не торопила меня из любви ко мне, вернуться в С.-Петербург. Сам Штейн15, в глазах которого долг был выше всего, говорил мне: «Оставайтесь с нами, вам здесь будет лучше, чем у вас на родине». Увы, я никогда не взвешивал выгод и неудобств, представлявшихся с той или иной стороны. Когда настал час сделать выбор, мое решение было уже принято. Возвращение в Россию было для меня вопросом долга, и потому меня не могли удержать за ее пределами те неприятности, затруднения и даже несправедливости, которым,– как я отлично понимал,– мне предстояло подвергнуться.
Когда я думаю об этом в настоящее время, я вижу, что добровольно отказался от счастья, чтобы броситься, если можно выразиться, в объятия превратной судьбы. Однако, если бы приходилось начинать сначала, всего вероятнее, что я принял бы то же самое решение.
Я вернулся на родину в конце 1816 года. Толчок, данный умам только что происшедшими событиями, или скорее возбуждение, ими произведенное, были очевидны. Именно с момента возвращения русских армий в свою страну либеральные идеи, как говорили тогда, начали распространяться в России. Кроме регулярных войск, большие массы народного ополчения также виде-
[271]
ли заграничные страны: эти ополченцы всех рангов, переходя границу, возвращались к своим очагам и рассказывали о том, что они видели в Европе. Сами события говорили громче, чем любой человеческий голос. Это была настоящая пропаганда.
Это новое настроение умов сказывалось преимущественно в тех местах, где были сосредоточены войска, особенно же в С.-Петербурге, деловом центре, включавшем многочисленные гарнизоны из отборных войск.
В таком государстве, как Россия, где мнения не могут обнаруживаться путем печати, о мнениях публики можно осведомиться не иначе, как прислушиваясь к разговорам, вникая в то, что чаще всего говорится, и внимательно наблюдая за всем, что происходит.
В странах, подчиненных деспотизму, общественное мнение проявляется также с помощью рукописной литературы, вроде той, которая обращалась во Франции, перед 1789 г., в форме сатирических стихов и песен. Эта литература, распространявшаяся контрабандой, указывала на направление и настроение умов в России. Тогда появилось довольно много произведений этого рода, замечательных как по силе сатиры, так и по высоте поэтического вдохновения. Маленькие шедевры, дотоле небывалые, показывали, что дни, когда они расцвели, были эпохой оживления, надежд и, надо прибавить, здравого смысла и глубокой мысли. Периодическая печать также участвовала в этом движении умов. Предметы, до тех пор остававшиеся недоступными для публичного обсуждения, разбирались в серьезных сочинениях. Пресса больше прежнего занималась тем, что происходило в других странах и особенно во Франции, где производился опыт введения новых учреждений. Имена знаменитых французских публицистов были в России так же популярны, как и у себя на родине, и русские офицеры, забывая только что павшего в борьбе великого полководца, сроднились с именами Бенжамена Констана16 и некоторых других ораторов и писателей, которые как будто предприняли политическое воспитание европейского континента *.
* Отдаваясь движению вперед, люди очень склонны забывать отправную точку, Я настолько стар, что помню состояние идей в Европе в ту эпоху, когда публицисты, и особенно французские публицисты, начали дело политического воспитания народов. Все, за исключением англичан, прошли эту школу. Многие вещи, которые кажутся нам теперь почти банальными, принципы, которые в на- (продолжение сноски на стр. 273)
[272]
Я слышал, как люди, возвращавшиеся в С.-Петербург после нескольких лет отсутствия, выражали свое изумление при виде перемены, происшедшей во всем укладе жизни, в речах и даже поступках молодежи этой столицы: она как будто пробудилась к новой жизни, вдохновляясь всем, что было самого благородного и чистого в нравственной и политической атмосфере. Особенно гвардейские офицеры обращали на себя внимание свободой своих суждений и смелостью, с которой они высказывали их, весьма мало заботясь о том, говорили ли они в публичном месте, или в частной гостиной, слушали ли их сторонники, или противники их воззрений. Никто не думал о шпионах, которые в ту эпоху были почти неизвестны.
Правительство, далекое от мысли бороться с тем направлением, которое, видимо, принимало общественное мнение, показывало своими действиями, что его симпатии были на стороне здравомыслящей и просвещенной части населения. Доказательством тому могло служить поведение императора в Польше. В речи, произнесенной при открытии сейма в Варшаве, Александр вполне определенно объявил, что его намерение было даровать также и России представительные учреждения *. Может
(продолжение сноски со стр. 272) стоящее время считаются общими местами, были тогда новы и рассматривались почти как открытия. Идеи и политические правила, провозглашенные во время французской революции, в особенности же бессмертным Учредительным собранием, как будто изгладились из памяти народов в продолжение войн Республики и Империи. Одни англичане, казалось, оставались спокойными при виде этих чудес нового мира идей, открытого континентальной Европой. Не ушли ли они слишком далеко вперед в этом отношении и не принимали ли for granted <уже доказанными>, как говорил сэр Д. Макинтош17 госпоже Сталь18, все прекрасные доктрины, которые проповедовал Бенжамен Констан и другие. В этом отношении особенная заслуга принадлежит в то время Бенжамену Констану. Наделенный душой, чуткой к благу своих ближних, и дивным талантом, он больше всего сделал для политического воспитания не только Франции, но и всей остальной континентальной Европы; он внушил больше всего полезных, здравых и плодотворных истин своим современникам, не исключая, может быть, и тех, которые не находили в своем сердце достаточно великодушия, чтобы за огромные заслуги публициста простить ему слабость человека. (Прим. автора.)
* Вот выдержка из этой речи, произнесенной 15(27) марта 1818 г.: «Образование, существовавшее в вашем крае, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законносвободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений, и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи божьей, распространить и на все страны, про- (продолжение сноски на стр. 274)
[273]
быть, будет нелишним сказать здесь несколько слов о последствиях этих либеральных порывов самодержца.
Дав конституцию царству Польскому19, Александр должен был назначить наместника. Князь Адам Чарторижский20 мог надеяться занять этот пост; по-видимому, была выдвинута также идея призвать немецкого принца; в конце концов этот пост был вверен польскому генералу21. Но рядом с наместником находился императорский комиссар (Новосильцев22), и главнокомандующий польской армией и русскими войсками, стоявшими в Польше. Этим главнокомандующим был великий князь Константин, брат императора. Если назначение комиссара еще могло быть согласовано с конституцией, то появление главнокомандующего уже совершенно ей не соответствовало. Наличность такого главнокомандующего и конституция исключали друг друга, хотя лицо, осуществлявшее это командование, было в то же время в качестве депутата сейма, представителем той Праги, над которой реяли кровавые воспоминания23.
Создание царства Польского и в особенности речь Александра при открытии сейма произвели в России известное впечатление. Нашлись люди, которые, отбрасывая мелкие интересы личного самолюбия и плохо понятого национального чувства, открыто радовались намерениям императора, находя, однако, не особенно лестным, что на их родину смотрели как на страну, не столь созревшую для свободы, нежели Польша. Другие – и, к сожалению, если их было не большинство, то к ним принадлежали люди с наиболее веским голосом,– усмотрели в словах Александра оскорбление, нанесенное России. Дурные страсти всегда сильнее любви к добру и истине в сердце человека – свободный ли он гражданин, или раб. Поэтому генерал Орлов составил нечто вроде протеста против учреждений, которые Александр только что даровал Польше24 , и хотел представить его императору. Он попытался даже собрать подписи нескольких генералов и других влиятельных лиц и успел некоторых склонить к этому. Но этот протест стал известен императору прежде, чем он мог быть ему представлен; усилия генерала Орлова были парализованы, и его попытка не имела никаких последствий. Когда я узнал
(продолжение сноски со стр. 273) видением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». (Прим. автора.)
[274]
об этом, я не преминул упрекнуть Орлова в узком патриотизме, патриотизме раба, продиктовавшем ему этот протест. Он имел благородство согласиться с тем, что я был отчасти прав.
Но дело не ограничилось дарованием Польше конституции. В присутствии различных лиц и, между прочим, дам, с которыми он любил вести непринужденные разговоры, император объявил о своем твердом решении отделить от империи прежние польские губернии и присоединить их к только что учрежденному царству. Когда одна из его собеседниц со слезами протестовала против такого раздробления империи, Александр горячо возразил ей, сопровождая свои слова выразительным жестом: «Да, да, я не оставлю их во владении России! Но,– прибавил он: – почему же вы видите великое зло в отделении от России нескольких губерний? Разве она не будет достаточно велика?»
Император очень хорошо знал, что его взгляды на этот предмет были довольно непопулярны в России; поэтому он не упускал случая засвидетельствовать свое удовольствие тем, кто разделял их. Встретившись однажды со старым офицером, с которым он был лично знаком, и который, как ему передавали, одобрял все, что он сделал для поляков, Александр горячо пожал ему руку и сказал, что знает его образ мыслей относительно Польши и благодарит его.
Историограф империи, человек, бывший тогда в большой милости у императора, Карамзин счел, что его долг не позволяет ему молчать относительно планов Александра, касавшихся Польши *. Историк, казалось, питал еще к полякам ту ненависть, которая одушевляла русских в предыдущие века. Кровавые и долгие войны, которые велись между двумя народами, в достаточной мере объясняют отвращение, которое они чувствовали тогда друг к другу; но это враждебное чувство должно было бы погаснуть у русских после торжества их оружия и несчастий Польши. В своих беседах с императором Карамзин приводил факты из прошлого в доказательство того, что с величием и безопасностью России несовместимо существование независимого и сильного
* Все материальные выгоды от милостей императора сводились для Карамзина к тому, что летом ему отводилось помещение в царскосельском дворце; ибо этот почтенный человек не хотел извлечь для себя никаких выгод из уважения и дружбы, которые обнаруживал к нему император. (Прим. автора.)
[275]
Польского государства. Он настаивал главным образом на том – и это было для русских всегда достаточно сильным аргументом в пользу первого раздела Польши,– что большая часть областей, отнятых у Польши, были русского происхождения и были завоеваны поляками во время бедствий, постигших Россию. Карамзин не ограничился этими беседами: он представил императору докладную записку, которая доказывает, что Александр, по крайней мере иногда, соглашался выслушивать своих подданных, говоривших перед ним сильно и откровенно. В этой записке Карамзин говорил императору, что он не имеет ни малейшего права распоряжаться областями, приобретенными не им, а другим государем; в то же время он давал понять, что Александр должен был сделать для благополучия России нечто иное, чем отнятие у нее части территории, и что за все свое царствование он не предпринял еще ни одной серьезной меры, чтобы улучшить внутреннее состояние своей собственной страны.
Полагая, что он защищает лишь интересы России, Карамзин в существе дела выступал, правда, в защиту императорской власти; и если подобная оппозиция может на мгновение задеть самодержца, то она никогда не рискует долго вызывать в нем серьезное неудовольствие. Поэтому все поползновения Александра присоединить к царству Польскому старые польские области, имели своим результатом лишь образование нового корпуса армии, составленного из солдат, бывших уроженцами этих областей. Если кое-где все кончается песнями, то в России как будто всему суждено кончаться солдатами. С этой целью из всех полков армии набрали людей, родившихся в Литве и других польских губерниях; образовали корпус, который окрестили Литовским; ему было дано особое знамя и форма, отличавшаяся от формы русской армии, и публика усмотрела в этих мерах указание на намерение императора еще более расширить царство Польское.
Через несколько времени император издал указ, который можно было также рассматривать как новое проявление его намерений относительно Польши; причина и цель этого указа были, однако, совсем иные: император подчинил наблюдению великого князя Константина, главнокомандующего польской армией и литовским корпусом, администрацию и даже судебную часть, т. е. решения уголовных судов старых польских губерний. В это
[276]
время все благожелательные намерения относительно Польши уже улетучились; правительство, по-видимому, было озабочено лишь тем, чтобы задушить зародыши либерализма и оппозиции, рост которых наблюдался среди жителей этой страны. Для облегчения задачи император предоставил великому князю высшую власть над всем вообще, что касалось поляков, живших как в царстве, так и в империи. Эта мера имела пагубные последствия для польских губерний. Пошли аресты, некоторые лица были переданы суду и осуждены под самыми неосновательными предлогами. Довольно часто даже не давали себе труда представлять приговоры местных судов на утверждение Сената или же Государственного совета; они приводились в исполнение после того, как были одобрены или изменены волею одного великого князя.
Мне припоминается одно дело, которое по своему характеру должно было перейти на рассмотрение Сената и Государственного совета и действительно поступило в Государственный совет. Рассматривая этот процесс, что же я нашел там? Один молодой человек, преданный суду и осужденный без всяких доказательств, был сослан в Сибирь по распоряжению великого князя. Обсуждение этого эпизода в процессе не входило в компетенцию Государственного совета, который должен был ограничиться рассмотрением лишь некоторых пунктов, выходивших за пределы ведомства великого князя. Тем не менее председатель комитета адмирал Мордвинов со своей обычной добротой сделал все возможное, чтобы обратить внимание Совета и императора на судьбу несчастливого юноши; но это ни к чему не повело.
Случалось иногда, что в обыкновенных делах, не имевших политического характера, Государственный совет кассировал приговоры, уже приведенные в исполнение, и приказывал, объявляя приговоренных невинно осужденными, возвращать их домой из сибирской ссылки. Но в данном случае поляк был осужден братом императора за действительное или предполагаемое политическое преступление, и исправить этот приговор оказалось невозможным.
Как бы ни были преходящи и малосерьезны порывы Александра в пользу старых польских областей, они не теряли от этого оттенка благородства, справедливости и доброты. Император видел, что в материальном отношении царство Польское находится в бесконечно лучшем
[277]
положении, нежели его Русская империя. Польская администрация была гораздо выше всего того, что в России разумелось под этим названием. В царстве Польском законы применялись на деле и суды принимали их к руководству, существовало народное представительство, которое, как бы ни было ничтожно его значение в политическом отношении, не могло, однако, не приносить чрезвычайной пользы для материальных интересов края. Поэтому, выезжая в это царство, император говорил, что он чувствует себя здесь лучше, более удовлетворенным, чем в России. Не говоря уже о необходимости дать удовлетворение национальному чувству населения русско-польских губерний, вполне естественно, что Александр имел намерение даровать им те же преимущества, которыми пользовались их братья в царстве Польском.
Как бы то ни было, именно это предполагаемое намерение императора включить в состав царства Польского старинные области Польши сделало в России непопулярными все мероприятия Александра, направленные в пользу поляков. Не будь страха перед этим, пожалование Польше конституции не возбудило бы в русских того острого раздражения и той зависти, которые охватили русское общество. Возможно даже, что если бы дарование Польше конституции предстало перед глазами русского общества отдельно от других фактов, то единственным результатом этого было бы возникновение у одних и укрепление у других желания увидеть распространение подобных же преимуществ и на свою родину. Что касается меня, то я не принадлежал к врагам всякой конституции и точно также не разделял мнения тех, кто видел в конституционной Польше какой-то упрек, какое-то унижение для рабской России. Я радовался тому, что на свете стало одной конституцией больше, если только можно сказать, что в этом царстве действительно существовала конституция.
Вопрос об отделении польских губерний от России был совершенно особый от вопроса о даровании Польше конституции и представлял совершенно иной интерес с точки зрения будущего империи. Я не помню, выражал ли я когда-нибудь мнение по этому вопросу, так как никогда не принимал всерьез всех намерений или всех порывов, которые публика приписывала в этом отношении императору. Вообще Польша и ее дела не приковывали к себе моего внимания. Меня занимали исключительно
[278]
бедствия русского народа, жестокость, гнусность и нелепость крепостного права.
Мы сказали, что Александр обнаружил намерение даровать также и России представительные учреждения; мы можем прибавить, что он не думал ограничиться простым обещанием. Самодержец действительно велел выработать проект конституции для своей империи25. Этот проект был составлен; он, если не ошибаюсь, был напечатан гораздо позднее в издании, выходившем в течение некоторого времени под названием Portafolio. Составление проекта было возложено на Новосильцева, императорского комиссара в Польше. По мере выработки различных частей, он представлял их для одобрения императору. В главе о выборах членов народного собрания было сказано, что депутаты назначаются избирателями. Что могло быть проще и естественнее этого? Тем не менее, император остановился на этом параграфе и сделал замечание, что избиратели могут назначать таким образом кого им заблагорассудится: «Панина26, например». А как раз Панин, бывший министр иностранных дел, впал в немилость у его величества. Статья была тотчас же изменена, и избирателям решили предоставить лишь право представлять трех кандидатов, из числа которых правительство избирало бы депутата. Что может быть курьезнее такого способа фабриковать конституции!
Еще в тот короткий период либерализма, о котором мы говорили выше, при отблесках этой молниеносной идейной вспышки, если так можно выразиться, некоторые молодые люди задумали дать планомерный толчок новым идеям и способствовать их практическому осуществлению. Находясь в Германии во время военных действий, они слышали о существовании тайных обществ; они усвоили идею этих обществ и решили объединить в союзе, организованном наподобие этих обществ, лиц, проявлявших рвение к общественному благу. Спешу с самого начала поставить на вид, что русское правительство в то время внушало вообще так мало недоверия, казалось даже в такой мере настроенным в пользу благодетельных реформ, что среди основателей общества шла речь о том, не следует ли обратиться к правительству за поддержкой. Лишь из опасения, что их намерения будут не поняты, они решили действовать без помощи и без ведома императора. Если в этом обстоятельстве сказалась неопытность первых основателей тай-
[279]
ных обществ в России, то этим доказывается также их искренность и безобидность их намерений.
Вскоре по возвращении в Россию я издал сочинение «Опыт теории налогов»27.
Я написал черновые наброски этой работы в конце своего пребывания в Геттингенском университете в 1810 и в 1811 гг., а затем отделал и дополнил ее в последующие годы, в свободное от служебных занятий время.
В этой книге я обозначал в общих чертах благодетельные результаты изучения политических наук, и в особенности политической экономии. Я старался доказать, что как экономические и финансовые, так и политические теории истинны лишь постольку, поскольку они основаны на принципе свободы. При всяком удобном случае я старался говорить об Англии, об ее могуществе, ее богатствах, приписывая все эти ее преимущества учреждениям, которыми в то время из всех европейских стран обладала одна она *.
Поэтому, оставаясь в пределах изложения теории налогов, я допускал много экскурсий в более широкие области политики. Подушная подать давала мне случай говорить о крепостном праве, и я не преминул воспользоваться этим случаем. Эти добавления имели в моих глазах гораздо большее значение, чем основной предмет моей работы. Клеймя ненавистное рабство, я делал это в достаточно понятных и сильных выражениях, и, по моему мнению, никогда еще на русском языке не было напечатано о крепостном праве ничего столь же ясного и определенного.
Уже самая новизна темы, совершенно незнакомой русской литературе, должна была привлечь внимание публики. Это было первое сочинение по теории финансов, написанное русским на своем родном языке; но к чтению этой книги особенно располагали те добавочные экскурсы, о которых я только что говорил.
Эта книга создала мне известность в России, где вследствие своего долгого пребывания за границей я сохранял мало связей, и снискала мне расположение всех тех, кто склонялся к усвоению новых идей; а та-
* Действительно, даже в настоящее время, когда, по-видимому, распространена гораздо большая осведомленность относительно теорий организации и управления государств, нигде не наблюдается ничего, что могло бы выдержать сравнение с результатами, давным-давно достигнутыми англичанами. (Прим. автора.)
[280]
ких людей было тогда много. Некоторые из них засвидетельствовали мне свое уважение в периодической печати, и я увидел, что знакомства со мной ищут люди, остававшиеся мне до тех пор совершенно чужими. Но моя книга – и это было неизбежно – создала мне также много врагов *. Все влиятельные по своему положению или по занимаемой должности лица с большим неудовольствием встретили появление подобного сочинения. Особенно мои замечания относительно рабства показались им верхом смелости и безрассудства. Всякий раз, свободно изливая свои чувства в интимном кругу, они не находили другой темы, кроме нападок на меня и мою книгу, видя, что правительство, т. е. императорская власть, не двигается и не мечет своих громов, чтобы уничтожить дерзкого революционера. Самым могущественным человеком в империи после императора был граф Аракчеев, принципам и характеру которого ничто не могло быть антипатичнее этого сочинения; но, несмотря на свою хорошо известную любовь к насилию, он, будучи ловким придворным, довольствовался тем, что восхищался эпохой, когда можно было писать и печатать подобные вещи. Эти трусливые и бессильные проявления недовольства были, признаюсь, еще приятнее мне, чем проявления благосклонности. Однако я допустил бы несправедливость, если бы забыл сказать, что даже среди этих сторонников существующего строя, среди этих сановников нашлись люди, засвидетельствовавшие мне свое уважение и даже признательность по поводу вышедшей книги. Так, однажды один из членов ** учреждения *** , объединяющего наиболее значительных лиц империи, куда я был призван для исполнения обязанностей государственного секретаря, сказал, что моя работа нередко могла бы служить путеводной нитью при исследовании финансовых вопросов и очень помочь их разрешению. Что касается весьма небольшого числа действительно просвещенных и образованных людей, входивших в состав того департамента Государственного совета, при котором я состоял,– вроде адмирала
* Я не говорю здесь о нескольких жалких попытках критики и опровержения, появившихся в прессе и явившихся плодом глубокого невежества и бессильной злобы. В России действительные враги не печатают своих статей; они ведут интриги и действуют тайком. (Прим. автора.)
** Тутолмин28, человек очень отсталый по своим взглядам, но в высшей степени порядочный. (Прим. автора.)
*** Государственный совет. (Прим. автора.)
[281]
Мордвинова и графа Потоцкого29,– то появление в печати моей книги много способствовало моему сближению с ними и завоевало мне полное их доверие,– что, кстати сказать, пошло лишь на пользу целесообразного ведения дел.
Канцлер Румянцев, несмотря на свое отстранение от служебных дел и сосредоточение всецело на изучении истории России, пожелал, однако, при появлении моей книги познакомиться со мной; он выразил мне свой восторг по поводу ясности, с которой мне удалось изложить на русском языке трудные теории экономической науки. «Чтобы достигнуть такой ясности,– сказал он,– необходимо самому хорошо понимать то, что хочешь передать другим». Все удивлялись, что цензура допустила появление в печати подобного рода сочинения. Я был знаком с цензором, которому оно было отдано на просмотр, это был честный, образованный человек, но крайне робкий по свойству личного характера и в силу своих обязанностей. Я принес ему свой «Опыт теории налогов». «Печатание теоретических сочинений,– сказал он мне,– не может встретить никакого затруднения». Я попросил его вернуть мне мою работу как можно скорее. В этой книге заключалась, конечно, не одна теория, и он прекрасно видел это; тем не менее совесть порядочного человека взяла верх над трусостью цензора: он вскоре возвратил мне рукопись, ничего в ней не тронув, но дал мне понять, что ему совершенно ясно, чем он рискует, разрешая печатать эту работу. Однако я убежден, что эта достойная личность никогда впоследствии не испытала никаких неприятностей из-за меня. Тогда ветер не дул в сторону гонений и подавления свободной мысли. Эта терпимость продолжалась очень недолго. Вскоре даже самая крайняя мнительность при цензуровании книг уже не могла защитить этих несчастных чиновников от суровости правительства. За самые безобидные вещи в политических и религиозных вопросах преследовались не только авторы, но и цензоры, которые смещались и объявлялись неспособными к занятию какой бы то ни было государственной должности. После событий 1825 г. моя книга обратила на себя внимание правительства. В это время она всюду разыскивалась властями, и все экземпляры, которые удалось захватить, были изъяты из обращения.
В конце 1819 года ко мне пришел однажды князь Трубецкой30. Я едва знал его по имени. Не пускаясь
[282]
в долгие объяснения, он сказал мне, что после всего того, что он узнал обо мне и о моих убеждениях, он считал своим долгом предложить мне войти в общество и тут же представил мне его устав: то был устав Союза благоденствия, о котором говорится в докладе комиссии, расследовавшей события 1825 года. Он прибавил, что только что обращался с тем же самым предложением к одному поэту, с которым я был очень дружен; но тот отказался. Надо заметить, что князь Трубецкой был знаком с этим поэтом не ближе, чем со мной. Он производил свою пропаганду так открыто и наивно, что не могло быть никаких сомнений, что его намерения не заключали в себе ничего опасного. Я пробежал устав. Общество ставило своей целью служение общественному благу. Его члены должны были подразделяться на различные разряды или секции, из которых одна должна была заниматься народным образованием, другая – юстицией, третья – политической экономией и финансами и т. д. Этот проект как в целом, так и в отдельных частях касался лишь теоретических вопросов; нигде не выступало ясно намерение действовать, произвести какие-либо перемены в государственном строе. Подобный план мало соблазнял меня. Я не верил, что в России какое-нибудь общество могло бы доставить необходимые средства для достижения значительного и сложного результата, к которому стремились в этом предприятии. Для этого требовалось бы появление серьезных писателей, которым были бы хорошо знакомы различные отрасли человеческого знания, требовались бы люди одинаково сильные и в теории и в практике; но Россия почти совсем лишена таких людей. Прибавлю к этому, что в данном случае так же, как и во многих других, я был удручен тем, что среди благих намерений, выраженных в статутах общества, не было ни слова о предмете, который в моих глазах имел главенствующее значение,– об уничтожении рабства. Вообще принятый обществом план обнаруживал недостаток опытности, недостаток зрелости, в нем было даже что-то ребяческое, что мне не нравилось. Тем не менее я решил, что не должен следовать примеру своего друга-поэта. Я полагал, что всякий честный человек должен отбросить мелкие формальные соображения, не бояться личных неудобств и даже опасностей, если бы предстояло им подвергнуться, лишь бы только способствовать по мере сил всякому полезному и гуманному делу. Пробел, о котором я толь-
[283]
ко что сказал, может быть, способствовал принятому мною решению, ибо я тотчас же задумал обратить внимание общества на крепостное право. Я немедленно объявил это моему собеседнику, и, убежденный его словами, что он, подобно своим друзьям, воодушевлен самыми лучшими намерениями по отношению к несчастным русским крепостным, я почувствовал, что в мою душу проникла сладкая надежда видеть, что дело, бывшее постоянным предметом моих забот, двинется вперед.
Объяснение причин, побудивших меня вступить в общество, именовавшееся тайным, может, впрочем, показаться излишним, если принять во внимание безобидный и несерьезный характер этого общества. Если бы, тем не менее, мне пришлось высказаться по этому поводу, я сказал бы, что вообще меня скорее отталкивали, нежели привлекали всякого рода тайные общества; не потому, чтобы я думал, что всякое общество заслуживает порицания, раз только оно тайное: тогда надо было бы обвинять природу, которая подготовляет втайне зарождение всего, что живет и растет на земном шаре; но потому, что я в глубине души убежден в бессилии этих обществ достичь поставленной цели.
Тем не менее, надо признать, что тайные общества, может быть, неизбежны в такой стране, как Россия. Только тот, кто жил в России, может представить себе, какие затруднения приходится встречать здесь для выражения своих идей. Кто хочет говорить свободно и безопасно, тот необходимо должен не только замкнуться в узком кругу, но и тщательно выбирать лиц, к нему присоединяемых. Лишь при этом условии возможен вполне искренний обмен мыслей. Поэтому для нас была исполнена невыразимой прелести возможность говорить на наших собраниях открыто, не боясь быть дурно понятым или истолкованным, не только о политических вопросах, но и о всевозможных предметах. Русский язык, который, несмотря на все свое богатство и красоту, носит тем не менее следы плохого общественного устройства страны,– этот язык казался нам прекрасным орудием для выражения истины, идей свободы и человеческого достоинства. Он облагораживался, выражая благородные и возвышенные мысли.
Очень ошибся бы тот, кто предположил бы, что на этих тайных собраниях только и делали, что составляли заговоры: здесь совсем не было заговорщиков. Если кто-нибудь из участников Союза думал о заговоре, то он
[284]
вскоре должен был убедиться, что какой бы то ни было заговор был там невозможен. Обыкновенно начинали с того, что оплакивали бессилие общества предпринять что-либо серьезное. Беседа переходила затем на политику вообще, на условия, в которых находилась страна, на угнетавшее ее зло, на злоупотребления, действовавшие на нее растлевающим образом, наконец, на ее будущее; ибо даже Россия имеет хотя и очень отдаленное, но лучшее будущее. Делался обзор европейских событий, и мы с радостью приветствовали движение вперед цивилизованных стран по пути свободы. Если я жил когда-нибудь жизнью людей, чувствующих свое назначение и желающих исполнить его, то это было главным образом в течение этих редких минут общения с людьми, которых одушевлял разумный и бескорыстный энтузиазм к счастью своих ближних.
Что касается речей, произносившихся публично теми, кто принадлежал к тайным обществам, то нет ничего удивительного в том, что, держась либерального образа мыслей, они говорили в том же духе. Но говорившие таким образом выражались обыкновенно с достоинством, хотя и без боязни не угодить одним, покоробить других или скомпрометировать себя в глазах властей *. Точно таким же образом они и писали бы, если бы им было это дозволено. Разве их вина, что в глазах испорченных и тупых людей принципы морали слыли за разрушительные и безрассудные призывы? Разве их вина, если голос истины и справедливости пугал наравне с голосом свободы глубокое невежество и злостный эгоизм
* Вспоминая некоторые слова, отчасти достойные порицания, отчасти же плохо взвешенные и случайные, и такие, наконец, которые под пером, писавшим донесение следственной комиссии, могли быть использованы и извращены к большой выгоде для системы обвинения, принятой в этом донесении,– вспоминая эти слова, я вижу, что они исходили от лиц, не участвовавших в тайных обществах. Так, когда мы были раз у ***31, вошел его брат32, который, застав нас за чтением чего-то, сказал нам своим обычным шутливым тоном: «Конспирируйте, конспирируйте. Что касается меня, я в это не вмешиваюсь; но когда понадобится помощь,– прибавил он, протягивая свою руку Геркулеса и сжимая кулак,– то можете рассчитывать на меня». Эта неожиданная выходка заставила нас расхохотаться; однако, принимая во внимание фамилию человека, который произнес эти слова, нельзя отрицать, что они могли навести на размышления. Лучшим доказательством того, что слова эти ровно ничего не значили, служит то, что человек, их произнесший, оказал, как говорят, важные услуги правительству при подавлении военного восстания 1825 г. (Прим. автора.)
[285]
приверженцев status quo? * Тем не менее настанет час, когда и последние перейдут в их лагерь и даже сама власть покорится неизбежному: в Сибирь можно сослать людей, но не идеи.
Вступив в Союз благоденствия, я не нашел там никакой организации. Статуты говорили о разделении членов на различные секции, из которых каждая должна была заниматься особыми предметами; они гласили также, что руководство обществом должно быть вверено верховному совету и т. д. Ничего из всего этого не существовало на самом деле. Члены Союза, близко знакомые между собой частным образом, вполне естественно искали общества друг друга; таким образом я виделся иногда с теми, с кем я и раньше имел сношения. Вожаки или те, кого считали за таковых, были по большей части самыми старыми членами общества. Секретарь служил посредником между ними и другими участниками. Последние состояли почти исключительно из гвардейских офицеров и литераторов. В большинстве юноши, горевшие нетерпением, они не переставали требовать через секретаря указаний относительно того, что им делать, жалуясь на бездействие, в котором их оставляли, и упрекая вождей за недостаток рвения. Затруднительность положения последних равнялась пылу остальных; они не знали, что отвечать на подобные требования. Видя эту потребность действовать, с одной стороны, а с другой – невозможность ее удовлетворить, я решил обратить внимание общества на печальное положение крепостных; и так как не могло быть вопроса относительно несправедливости рабства, то я ограничился тем, что предлагал каждому члену взять на себя обязательство немедленно сделать все от него зависящее, прежде всего для того, чтобы заклеймить институт крепостного права, а затем содействовать его уничтожению.
«Каждый из вас,– говорил я им,– владеет или будет владеть крепостными; если вы в настоящее время владеете ими, то отпустите немедленно на волю своих дворовых и примите меры к освобождению крестьян, обратившись к правительству, так как это разрешено законом. Таким образом, не только станет несколькими рабами меньше, но и власть вместе с обществом увидит в то же время, что пользующиеся уважением помещики хотят, чтобы крепостные сделались свободными людьми. Тогда
* Существующего порядка вещей (лат.).
[286]
идея освобождения крепостных получит силу и умы начнут осваиваться с ней». Чтобы подкрепить свою проповедь примером, я прибавил, что готов дать своим слугам вольную, что и было мною тотчас же сделано *. Мое предложение было принято без труда; но результат далеко не отвечал моим желаниям.
В другой раз, заметив, что некоторые члены общества очень нуждались в политическом образовании, я посоветовал им читать и изучать различные сочинения, старые и современные, казавшиеся мне особенно подходящими для развития и упорядочения взглядов молодых людей на разные предметы. Я рекомендовал им, между прочим, только что появившийся труд, который, по моему мнению, лучше всякого другого мог внушить здравые и верные понятия по бесчисленному множеству вопросов, входящих в обширную область политики: то были «Комментарии» К. Филанджиери33, издание которых предпринял Бенжамен Констан. Первая часть, полученная нами в Петербурге, казалась мне составленной как будто нарочно для достижения моей цели. Достали несколько экземпляров «Комментариев», и некоторые из наших молодых членов прочли их и изучили с поистине достохвальным усердием.
Что касается обсуждения вопросов, касавшихся политической свободы и конституции, то я был слишком поглощен мыслью о рабстве, чтобы иметь возможность много заниматься ими. Если мне можно было сделать упрек в этом отношении, то разве только в том, что я был к ним равнодушен. У меня были, конечно, определенные мнения относительно главных вопросов политической организации народного представительства, свободы печати, равенства перед законом, организации законодательной, исполнительной и судебной власти; я не отказался бы действовать и даже пожертвовать собой, чтобы добиться учреждений, способных обеспечить эти великие интересы, тотчас же после уничтожения рабст-
* Я не могу не привести здесь слов, с которыми обратился ко мне один из этих людей, будучи отпущен на волю: «Я неплохо служил вам до сих пор,– сказал он мне.– Отныне я буду служить вам во сто крат лучше». И он исполнил свое обещание. Вот пример, из тысячи других, ложности так часто повторяемого утверждения, что рабы, когда им хорошо платят и хорошо содержат их, не желают свободы. Эти люди, впрочем, все без исключения, продолжали оставаться у нас на том же положении, как и прежде, причем, как до, так и после их освобождения, мы обращались с ними так же, как и со свободными слугами! (Прим. автора.)
[287]
ва. Но пока оно существовало, мои помыслы были исключительно сосредоточены на том, в чем я видел величайшее зло, требовавшее скорейшего излечения.
Это равнодушие к политическим вопросам было, таким образом, лишь относительным, т. е., по моему мнению, все эти вопросы были подчинены вопросу освобождения крепостных.
Когда я замечал в людях, с которыми говорил, желание политической свободы без освобождения класса крепостных, то негодование овладевало мною, и, видя меня, можно было подумать, что я защищаю абсолютизм. Это редко бывало со мною в беседах с молодыми людьми, которых мне всегда удавалось убедить; но с пожилыми людьми, занимавшими место на вершине общественной пирамиды, которые, будучи более или менее пропитаны аристократическими принципами, мечтали прежде всего о палате пэров и т. д., мне приходилось спорить страстно, прения принимали даже бурный характер, и тогда именно я часто увлекался до того, что превозносил преимущества самодержавной власти в стране, где царствует крепостное право.
Преувеличения моих противников часто доходили до абсурда. Лучший из них, почтенный адмирал Мордвинов, не постеснялся сказать (однако не мне,– передо мною ему было неловко, а другим), что богатая и могущественная аристократия была, безусловно, необходима для России; что для создания ее императору было бы достаточно разделить между знатнейшими родами империи все казенные земли; что палата пэров или лордов, образованная из представителей этих родов, явилась бы могущественным элементом для организации страны и утверждения конституции. Это аристократическое ослепление возмущало меня гораздо больше, чем крайние и утопические заявления некоторых энтузиастов.
Некоторое время спустя, видя, что в обществе все идет по-прежнему, т. е. не идет никак, я задумал издавать газету или, вернее, ежемесячный журнал. Среди нас были люди, обладавшие достаточным образованием и талантом, чтобы быть полезными сотрудниками в этом издании. Я лично никогда не переставал писать по различным политическим вопросам: из-под моего пера выходили то очерк законодательства и администрации, составленный на основании заметок, сделанных при слушании курса лекций профессора Сарториуса34 и различных, как английских, так и французских, сочинений,
[288]
то очерк по уголовному праву, для которого я воспользовался тем, что сохранилось в моей памяти из курса профессора Геде в Геттингене. Издание этих работ казалось мне полезным и уместным, способным обратить общее внимание на те предметы, которых они касались; те, кто заинтересовался бы ими, могли, если бы у них явилось желание, проникнуть глубже в эти вопросы, без труда удовлетворить его чтением сочинений, которые я всегда указывал.
Я рассчитывал поместить в затеваемом мною журнале многочисленные статьи об уголовном процессе и суде присяжных. Мною употреблено много времени и труда на изучение этого последнего предмета. Я даже разработал его в почти законченном сочинении, в котором старался показать преимущества этого института. Хотел изложить также громадные и бесчисленные неудобства письменной судебной процедуры и доказать настоятельную необходимость принять в русских судах устное производство. Для написанных на эту тему статей я пользовался главным образом сочинениями знаменитого профессора Миттермайера, который, по моему мнению, глубоко изучил этот вопрос и дал блестящий критический разбор двух методов судопроизводства, французского и английского, и который с глубокими знаниями сочетал совершенную ясность мысли. Если когда-нибудь в России задумают реформу этого рода, то нельзя будет найти для нее лучшего руководителя, чем Миттермайер35.
Я собрал у себя несколько лиц, из которых одни принадлежали к членам общества, другие были совершенно посторонними людьми, чтобы предложить им издание этого журнала. Мою идею одобрили; каждый взял на себя разработку особого предмета; некоторые взялись за задачи, очевидно, превосходившие их силы, но зато другие доставили очень хорошие, очень полезные статьи, которые, несомненно, должны были произвести впечатление. Этот проект, это благое намерение разделили судьбу многих других, которыми вымощен ад, как говорит португальская поговорка; все ограничилось одними словами. То было, я думаю, последнее усилие, сделанное обществом или скорее одним из его членов, чтобы выйти из того состояния оцепенения, на которое некоторые, конечно, очень жаловались, но с которым, по-видимому, мирилось громадное большинство. Мало-помалу собрания прекратились, и у старых членов Союза обществен-
[289]
ного благоденствия сохранилось, кажется, только воспоминание об объединявшем их ранее обществе. Впрочем, собрания и всегда были очень редки, и, если не считать тех, которые я созывал у себя, чтобы сговориться относительно издания журнала, я, вероятно, присутствовал в других местах не более чем на трех-четырех собраниях.
Что касается количества членов общества, то его никогда нельзя было точно определить. Многие из принятых в него вскоре выбывали. Когда я вступил туда, мне сказали, что к участию в обществе привлечено более двухсот лиц, но что уже давно большинство их и сами основатели потеряли всякую связь с Союзом. Оставшиеся члены находились в С.-Петербурге, где их было больше всего,– в Москве, где они решительно ничего не делали, и в Тульчине, главной квартире второй армии. Утверждали, что в этом последнем месте общество было более активным, но проявлений этой активности в Тульчине было не больше, чем в С.-Петербурге.
Таково было положение вещей,– общество фактически не существовало более,– когда в С.-Петербург* прибыл один из московских членов. Он приехал заявить нам, что не следует оставаться в таком неопределенном положении; что нельзя сказать, существует общество или же не существует вовсе; что члены, рассеянные по всем частям страны, были лишены всякого общения между собой и продолжали пребывать в полном бездействии; что необходимо наконец или распустить общество, или же восстановить его на новых основаниях. Таково было мнение членов, живших в Москве. Нельзя было ничего возразить против этого. Этот призыв и форма, в которой он был сделан, доказывали, между прочим, что значение общества сводилось к нулю. Согласились собраться зимой в Москве и пригласить туда нескольких лиц из второй армии. Личные дела призывали меня в этот город, и я обещал быть там. В условленный момент туда прибыло около двадцати членов общества из различных пунктов страны. Мы устраивали частые собрания, и у меня осталось от них воспоминание, которое до сих пор заставляет меня считать эти минуты счастливейшими минутами моей духовной жизни. В течение этих слишком коротких мгновений я находился в обще-
* Зимой 1820–1821 г. (Прим. автора.)
[290]
нии с людьми, которых я считаю и всегда буду считать добродетельными существами, одушевленными самыми чистыми намерениями, самой похвальной готовностью жертвовать собой ради своих ближних. Конечно, не все были в одинаковой мере достойны похвалы, но разве на земле часто встречается совершенство?
После прений, продолжавшихся почти три недели, признали наконец невозможным создать что-нибудь положительное с помощью тайных обществ, и Союз общественного благоденствия был объявлен распущенным, несмотря на протест некоторых членов, требовавших, чтобы приступили к организации его на новых началах или же к образованию нового общества.
По этому поводу донесение следственной комиссии говорит, что я в качестве председателя провозгласил распущение общества. Я не понимаю смешного пафоса, с которым донесение говорит здесь о моем предполагаемом председательстве, так же как не понимаю всех тех инсинуаций, которые стремятся придать некоторое значение моему имени или моей личности в делах тайных обществ. Значение это, по словам тех, кто хотел моего осуждения, было так велико, что некоторых удавалось привлечь в общество только потому, что там фигурировало мое имя. Вся эта ложь может быть очень выгодна тем, кто, за недостатком веских улик, искал предлога, чтобы погубить меня; но я ищу только истины и говорю ее, рискуя слиться с благородной толпой осужденных в 1826 году и отвергая лестный для моего честолюбия ореол вождя заговора, которым захотела во что бы то ни стало окружить меня дикая и бессмысленная ненависть. Я не был председателем, потому что на наших собраниях никогда не бывало председателя; но когда прения становились шумными или беспорядочными, то кого-нибудь просили руководить ими. Правда, эта задача часто возлагалась на меня; то же самое было на последнем собрании, где было решено распустить общество.
Среди членов, решивших распустить общество, некоторые руководились лишь глубоким убеждением в его бесполезности. К этому убеждению у других присоединялись, может быть, некоторые опасения, происходившие от того, что правительство было, по-видимому, осведомлено относительно существования общества и даже велело наблюдать за лицами, собравшимися тогда в Москве. Эти опасения имели свои основания. Различные обстоя-
[291]
тельства доказывали, что император знал о существовании в России тайных обществ и что ему были известны фамилии нескольких лиц, бывших их участниками. Некоторые высшие чиновники пробалтывались иногда в момент раздражения, и эти обмолвки исключали всякие сомнения. Это не мешало нам, однако, быть совершенно спокойными. Мы видели,– одни относились к этому безразлично, другие с некоторым огорчением,– что мы не представляли из себя абсолютно ничего страшного для кого бы то ни было; мы чувствовали, как и все те, кто не принадлежал к нам, что правительство преувеличивало важность общества. Генерал,***36, ехавший из С.-Петербурга на Кавказ, чтобы принять там командование армией, сказал при своем проезде через Москву некоторым из нас: «Император знает, зачем вы собрались в этом городе, но он полагает, что вы очень многочисленны, если бы он знал, что вас так мало, то он, может быть, решился бы сыграть с вами скверную шутку». Этот генерал часто виделся с императором в С.-Петербурге. Он, по-видимому, считал императора способным иметь такие намерения и думал, что если он не приводит их в исполнение, то исключительно из страха принять суровые меры против большого числа лиц. Я со своей стороны знал уже, что император делал все возможные фантастические предположения и верил в существование заговоров. Я узнал, что различные, сами по себе незначительные обстоятельства, внушали ему довольно серьезные опасения. Сюда относилась бумага, найденная однажды во дворце, в которой какой-то шутник забавлялся, перечисляя все причины недовольства русского народа правительством и угрожая императору народным гневом; она произвела на императора большое впечатление. Я знал также, что император подозревал меня, и меня преимущественно, в крайних мнениях. Но все это казалось мне недостаточным для того, чтобы бояться какого-либо проявления произвола или тирании с его стороны, прежде всего потому, что я был в глубине души убежден, что наше общество, к счастью или к несчастью, далеко не заслуживало гонений. Вот еще доказательство того, что правительство наблюдало за нами. Генерал Михаил Орлов, находившийся тогда в Москве, объявил с самого начала о своем решении выйти из нашего общества. Вскоре он сказал нам, что получил от своего брата37, адъютанта императора, письмо с изложением некоторых соображений относительно на-
[292]
ших собраний, и очень вероятно, что эти соображения способствовали его решению.
В другой раз подписка, открытая нами в пользу несчастных крестьян Смоленской губернии, пораженных тогда страшным голодом, подписка отнюдь не исходившая от нашего общества, показала нам, что правительство тайно следило за нашими собраниями. Некоторые из нас сообщили об этой подписке московскому генерал-губернатору, который поспешил обещать нам свое содействие. Другие написали своим друзьям в Петербург, чтобы заставить их открыть подобную же подписку. Но в этом городе воззвание было иначе понято и оценено: вместо просимой помощи получился совет не вмешиваться в это дело, в том же смысле были посланы инструкции московским властям, и все это потому, что инициатива этой подписки исходила от лиц, казавшихся правительству подозрительными.
Тем не менее, повторяю, надзор, которому мы подвергались, очень мало беспокоил большинство членов общества и не оказал почти никакого влияния на его распущение. Действительно, откуда могли явиться у нас опасения и страхи? Члены общества встречали враждебное отношение тех, кто находил хорошим то, что они считали дурным; но они давно уже знали это, и если они образовали тайное общество, то именно для того, чтобы искать лекарств от тех зол, с которыми их противники так охотно мирились. Они привыкли к неприязни, даже к ненависти тех, чьи мнения и принципы были противоположны их собственным. Может быть, в силу привычки эта ненависть так же мало пугала их, как и удивляла. Тщетность и бесплодность всех предпринятых попыток и усилий привели их к убеждению, что общество не дало и не могло дать никаких результатов, ни в хорошем, ни в дурном смысле,– как же могли они после этого тревожиться по поводу отношения к ним правительства? Разве они не знали, что правительство никогда не в состоянии выдвинуть против них никакой улики по той простой причине, что серьезное обвинение было лишено всякой основы, так как общество не проявило себя никаким актом. В чем можно было с достаточным основанием упрекнуть участников союза, когда сам союз не мог вызвать никаких упреков?
Эти люди ошиблись, жестоко ошиблись: последующие события слишком хорошо доказали это, но благородные души всегда будут впадать в ошибки, пока бу-
[293]
дут существовать люди, одушевленные благими намерениями, с одной стороны, и поборники неправды – с другой.
Я сказал выше, что в обществе господствовали самые строгие моральные принципы. Потребность действовать, скука, происходившая от оцепенения, от которого оно никогда не отрешалось, заставили одного из членов решиться на подозрительное или только двусмысленное предложение; оно было тотчас же отвергнуто большинством голосов. Цель, всегда говорили мы, не оправдывает средств. Этот принцип, что цель не оправдывает средств, противоречил также взглядам тех, которые, видя, что всякое целесообразное действие встречает на своем пути непреодолимые трудности, пытались заставить принять за правило искание членами общества государственных должностей, чтобы они могли, занимая влиятельные посты, действовать с большей плодотворностью. Может быть, скажут, что, руководясь подобными правилами, общество само обрекло себя на бессилие. Я не спорю против этого; но я говорю, что таковы были его принципы и что это подтверждает мое мнение о бесплодности подобных обществ.
Чтобы познакомить отсутствующих членов общества с мотивами его распущения, равно как и с намерениями тех, кто объявил его распущенным, решили изложить их в докладе; насколько я помню, я старался выяснить, что пока в России существует настоящий порядок вещей, общественное благоденствие может достигаться лишь путем усилий отдельных личностей; что ничто не мешает, впрочем, человеку, одушевленному лучшими намерениями, прийти к соглашению с одним или двумя из его друзей, чтобы попытаться заставить принять всякую меру, которую он сочтет полезной для общего блага; что можно даже открыто действовать с этой целью на умы тех, с кем находишься в соприкосновении. Так как я по-прежнему имел в виду освобождение крестьян, то я настаивал на благотворных результатах, которые могли дать частичное освобождение, предпринятое отдельными помещиками. Так как при подобных опытах не было необходимости в тайне и было бы даже невозможно соблюсти ее, то я, естественно, пришел к доказательству того, что деятельность тайного общества, далеко не будучи условием успеха, могла скорее повредить осуществлению благодетельных реформ. В таком духе был составлен мой доклад.
[294]
С него были сняты четыре копии, предназначенные для тех мест, где были сосредоточены некоторые члены только что распущенного общества. Я привез одну из этих копий в С.-Петербург, чтобы показать ее своим товарищам. Некоторые из них объявили, что доклад кажется им неудовлетворительным; другие, желая ответить на настойчивые просьбы некоторых лиц, которые хотели во что бы то ни стало участвовать в каком-нибудь тайном обществе, попросили меня показать им этот доклад. Я уступил их настояниям и передал им его. Впоследствии этот доклад рассматривался, по-видимому, как программа.
С этого времени я не считал себя более принадлежащим каким бы то ни было образом к какому-либо тайному обществу. Я ограничился личными усилиями для распространения тех идей, которые я считал и считаю по-прежнему справедливыми и применял на практике в своей жизни совет, который я давал другим.
Один из членов распущенного общества также сообразовался с этим советом, делая попытки освободить своих крепостных. С этой целью он принял все меры, предписанные законом. Так как местные власти отнеслись недружелюбно к его намерениям, то он приехал в С.-Петербург, чтобы убедиться, не настроен ли министр внутренних дел более благоприятно в пользу этого прекрасного дела. Несмотря на все его усилия, которым и я старался помочь, его план потерпел неудачу благодаря враждебному отношению всех властей, как крупных, так и мелких.
Что касается меня, то мое положение на государственной службе часто давало мне случай действовать в пользу освобождения отдельных лиц и даже целых крестьянских обществ; я не упустил ни одного из таких случаев, и во всех делах этого рода, восходивших в Государственный совет, мои усилия увенчивались успехом. В то же время я составлял в пользу освобождения крестьян как докладные записки, которые должны были быть представлены императору, так и законопроекты для Государственного совета.
Вспоминая заседания департамента, в котором я исполнял обязанности государственного секретаря, я не могу не сказать, что заседания эти напоминали мне иногда собрания Союза общественного благоденствия. В промежутках между делами, которые я докладывал, часто завязывалась беседа на политические темы. Осо-
[295]
бенно часто и порой оживленно мне приходилось беседовать с почтенным адмиралом Мордвиновым, председателем этого департамента, и с графом Потоцким, который был одним из его членов. Для меня главной неисчерпаемой темой было всегда освобождение крепостных. Добрый адмирал не придавал должного значения огромному злу, проистекавшему от рабства. Он хотел политической свободы, и особенно верхней палаты, организованной аристократии; он восставал с благородным и горячим негодованием против всемогущества императорской власти. Я говорил, что, пока крестьяне не освобождены, я готов мириться с этой властью, лишь бы только она была употреблена для освобождения страны от чудовищной эксплуатации человека человеком. «Нет,– возражал адмирал,– надо начать с трона, а не с крепостных, пословица говорит, что лестницу метут сверху». Я отвечал на это: «Хорошо! метите, если можете! но вы не можете этого, поэтому работайте над освобождением крестьян, ибо это в вашей власти. Вы владеете крепостными, постарайтесь освободить их. Разве хорошо ничего не делать, потому что нельзя сделать всего?» Но эти аргументы не действовали на адмирала. Он был высокочестный, добрый, просвещенный человек, и однако, по моему мнению, рабство не достаточно возмущало его. Тем не менее, я убежден в этом, он никогда не отказался бы содействовать освобождению крестьян, если бы правительство серьезно захотело этого. Со своей обычной мягкостью и добротой, он подтрунивал иногда над моим рвением в пользу крепостных. «В ваших глазах, говорил он мне,– все рабы святые, а все помещики тираны». «Почти что так»,– ответил я ему вполне серьезно.
В другой раз разговор заходил о теориях политической экономии, науки, которую адмирал очень любил и основательно изучал. Произведения иностранной литературы время от времени также обсуждались в этих собеседованиях, и тогда граф Потоцкий поддерживал разговор. Это был очень образованный человек, читавший все и на всех языках. Однажды в числе других новинок он принес нам стихотворение Байрона: «The age of bronze *. Я прочел его во время заседания. Государственный совет собирался тогда в императорском дворце, в двух шагах от кабинета императора. Что сказал бы
* «Бронзовый век» (англ.)38.
[296]
его величество, если бы он знал, что лишь одна стена отделяет его от советников, забавляющихся чтением сатиры, где, как известно, не была пощажена его личность? Вот наглядная иллюстрация недействительности цензурных запрещений!
Я начал свою карьеру в Государственном совете с департамента экономии, где обсуждались все финансовые вопросы. Члены этого департамента постоянно проявляли оппозицию министру финансов39, поэтому представленные последним проекты почти всегда подвергались критике или даже отвергались. В общих собраниях Государственного совета эта оппозиция поддерживалась большинством голосов. Адмирал Мордвинов стоял во главе партии, враждебной мероприятиям и системе министра, и последний, насколько возможно, избегал присутствовать при дебатах в Совете, так как в глубине души он чувствовал себя неспособным бороться с адмиралом, который с глубокими познаниями в области экономической науки соединял сильный дар слова и замечательный талант при изложении мыслей. Адмирал часто сам писал доклады по финансовым вопросам. Большая ясность, литературный нервный и даже красноречивый стиль была отличительными признаками этих работ. За неимением газет, которые могли бы воспроизводить мнения адмирала, прочитанные им в Государственном совете, с этих мнений снимались точные копии, распространявшиеся в публике. Некоторые из этих мнений или голосов, как их называют в России, завоевали ему вполне заслуженную известность и популярность. Его речи в общих собраниях Совета отличались крайней умеренностью и деликатностью выражений, причем эта изящная форма нисколько не ослабляла их силы и энергии. Мягкость характера соединялась у него с властью разума, что позволяло ему вполне осуществить правило, рекомендующее соединить умеренность и силу: Suaviter in modo, fortiter in re*.
Однако адмирал, несмотря на поддержку, которую ему оказывало в Государственном совете несомненное большинство, и на опору, которую он находил в общественном мнении,– насколько это возможно в России,– должен был неизбежно пасть в борьбе со своим противником, в качестве министра финансов пользовавшимся
* По способу мягко, а по существу жестко (лат.).
[297]
большим влиянием на императора. Главным доводом министра было: «Если вы мне откажете в каком-то новом налоге или в принятии такой-то меры, то я буду не в силах удовлетворить требования военного министра для поддержания армии в ее теперешнем состоянии». Весьма вероятно, что он прибегал к тому же средству в разговоре с императором, которому такой аргумент, конечно, должен был казаться неотразимым. Эта борьба между Государственным советом и министром финансов, благодаря поддержке, которую император оказывал последнему, могла привести лишь к изъятию из серьезного рассмотрения Советом важнейших финансовых дел. Так действительно и случилось. Когда министр имел в виду предложить какую-нибудь значительную меру, он представлял ее прямо на утверждение государя и затем вносил в Совет, облеченную монаршим одобрением. Таким образом, функции Государственного совета свелись почти всецело к простому регистрированию финансовых указов.
Эта борьба должна была повлечь за собою и другое последствие. Наиболее значительные члены департамента экономии, видя тщетность своих усилий, ушли из него, и, когда адмирал, бывший его председателем, попросил дать ему отпуск для поездки за границу, этим случаем воспользовались для того, чтобы сместить его. Его преемником был назначен граф Головин. То был старый друг министра финансов. Было время, когда к нему весьма благосклонно относились при дворе, но, не имея достаточной гибкости для сохранения этой благосклонности, он стал держаться в стороне от двора, и поэтому друзья покинули его. В России, теряя милостивое расположение двора, теряют все, и прежде всего привязанность лиц, живущих в придворной атмосфере. В то время, о котором я говорю, граф снова вошел в милость у государя.
Граф Головин далеко не отличался просвещенностью и знаниями своего предшественника; это был знатный вельможа со всеми достоинствами и недостатками людей этого рода. Тем не менее он не переставал заявлять о своей независимости и о своем твердом решении действовать не иначе, как согласно велениям своей совести. Я думаю, что действительно все его намерения были хороши и что его характер был чужд всякого холопства. Приступая к исполнению своих обязанностей, он находился в довольно затруднительном положении, так как
[298]
не искусился в делах, подобно старому адмиралу. Он не был высокого мнения о своих коллегах, к тому же самые значительные из них покинули департамент экономии и были замещены другими; мне он несколько не доверял, как он сам признался в этом впоследствии, видя, что я чрезвычайно предан прежнему председателю, которого он не любил. Однако по прошествии короткого времени он пришел ко мне, рассыпался в любезностях, изъявлениях дружбы и оказал мне полное доверие. Будучи знатным вельможей, он тем не менее откровенно сказал мне по поводу первого же серьезного дела, которое нам предстояло рассмотреть, что он мало понимает в этом деле, но будет делать то, что я ему скажу. «Бог вас накажет,– сказал он мне,– если вы меня подведете. Ответственность за мое мнение и мой голос ляжет на вас». «Я согласен на это,– ответил я ему,– продолжайте относиться ко мне с доверием, вы никогда в этом не раскаетесь, и все будет идти как нельзя лучше».
Действительно, текущие дела пошли по-прежнему. Что касается важнейших дел, бюджета, новой организации финансов, установления новых налогов и т. д., то они так же, как и раньше, вносились в Совет уже решенными, т. е. одобренными императором.
Граф Головин не удовольствовался встречами со мной в Совете; он захотел во что бы то ни стало ввести меня в свою семью, что было нелегко, ибо тогда я жил уединеннее, чем когда-либо, почти совсем забросив мои немногие знакомства в свете. Однако он добился своего, уведя меня однажды, чуть не силой, обедать к себе после заседания Совета. Это был, как я уже сказал, знатный вельможа, один из последних русских знатных вельмож. Его дом был, думается мне, единственным в то время, где ежедневно дверь была открыта для всех. Граф, наподобие старых бояр, не приглашал обедать в определенный день; он говорил просто: «У меня обедают в таком-то часу». Каждый день ставилось двенадцать приборов для такого же числа гостей, всегда встречавших самый радушный прием. Французская кухня графа была изысканна, вина превосходны, все подавалось в изобилии и самого лучшего качества.
Во время моей службы в Государственном совете министр финансов предложил мне через своего зятя, графа Нессельроде40, вступить в его министерство. Я был призван туда при моем первом возвращении
[299]
в Россию *. Граф Нессельроде был немного знаком со мной: после отставки Штейна, я направлял к нему мои доклады относительно результатов погашения платежей, которые были мне поручены в Германии; он представлял их императору, сообщая мне его решения. Я мог только гордиться тем расположением, которое граф проявлял ко мне всегда, когда мне приходилось иметь с ним дело. Когда он мне сказал о горячем желании его тестя видеть меня на службе в своем министерстве, я вполне естественно ответил ему, что так как политическая экономия и финансы были до сих пор главным предметом моих занятий, то я готов принять предложенное место. Это было место начальника министерской канцелярии, в которой сосредоточивались все дела, касавшиеся как внутреннего, так и внешнего кредита.
На следующий день граф сообщил мне, что министр очень просит меня прийти к нему и ждет меня. Я явился на зов. Я не имел ничего против министра финансов и не мог забыть того хорошего приема, который он оказал мне при моем первом возвращении из-за границы. Однако министр, по-видимому, думал, что у меня осталось некоторое недоброжелательство к нему, ибо, когда я вошел, он встал, чтобы обнять меня, и сказал мне, несколько расчувствовавшись, что надо забыть старое. Я ответил ему, что мне решительно нечего забывать. Он поговорил со мной о текущих делах моей канцелярии, остановившись подробнее на тех особенно важных работах, которые он просил меня взять на себя. Мое назначение было утверждено императором, и я тотчас же вступил в отправление своих обязанностей.
При этом первом свидании с министром финансов я заметил, что при моем появлении он читал или делал
* По прибытии в Петербург в 1812 г. я был назначен секретарем ученого комитета. Главным членом этого комитета был профессор политической экономии, служивший сильнейшим орудием министра при всех его нововведениях, часто столь роковых для интересов казны. В состав комитета входил, кроме того, бывший профессор политической экономии Галльского университета, приглашенный для занятия профессорской кафедры в один из русских университетов. Немецкий профессор был человек теории, науки и, несомненно, мог бы быть полезен своими знаниями, если бы умели извлекать из них пользу. Другой член работал без устали над кучей проектов; его шарлатанство с самого начала чрезвычайно не понравилось мне, я при всяком случае давал ему почувствовать. Он пожаловался министру, пожелавшему восстановить между нами доброе согласие, но тем временем я был прикомандирован к Штейну. (Прим. автора.)
[300]
вид, что читает номер «Минервы»4I, столь интересной тогда благодаря статьям Бенжамена Констана. Я нашел это вполне естественным, хотя бы и для русского министра. В настоящее время, вспоминая различные эпизоды из той поры, я не могу не думать, что министром руководило не только желание читать «Минерву», но главным образом желание показать мне, что в часы досуга он читает это издание.
Сколько раз мне приходилось слышать от высокопоставленных лиц, с которыми меня сводил случай, такие речи, которые не могли мне не нравиться! Один принимался восхвалять конституции свободных стран, другой – и этим он всегда окончательно завоевывал меня – с негодованием говорил о крепостном праве. Однажды одно из таких лиц, вельможа, с которым я не был лично знаком, узнав, что я выразился с осуждением о его решении продать одно из своих поместий и, следовательно, людей с землей, счел своим долгом написать мне в свое оправдание письмо на четырех листах, где он доказывал, что не мог поступить иначе; вслед за тем он пришел ко мне объясняться.
Вот другой эпизод такого же рода. Один аристократ, отличавшийся честностью и благородством характера, человек, умевший на трудном посту посланника при Наполеоне, после Тильзитского мира, сохранить все свое достоинство, граф Ч.42, находясь в 1815 году в Нанси и разговаривая со мной о Хартии, получившей новое и полезное развитие благодаря созданию кабинета министров, принялся хвалить представительный строй и выразил желание видеть, наконец, тот момент, когда благодеяния конституционного порядка избавят нашу страну от абсолютизма и произвола, которые так долго господствовали в ней. Я не забыл ни его слов, казавшихся мне искренними, ни его личности, к которой я всегда относился с величайшим уважением и неподдельной симпатией. Впоследствии он запятнал свое имя, будучи одним из судей в процессе 1826 года! Что приходится думать о том строе, под влиянием которого такие почтенные люди оказываются, сами того не подозревая, виновными в подобной низости?
Я не могу сказать того же о великом князе Константине, который неприятно поразил меня, говоря со мной о том, как надо обращаться с солдатами. Случилось так, что он прибыл в Карлсбад во время моего там пребывания. Я со всеми остальными русскими отправился к нему
[301]
представиться. Я видел его в первый раз вблизи; репутация, которой он пользовался, конечно, делала для меня этот визит довольно тягостным. Не имея в своем распоряжении солдат для муштровки, он, должно быть, очень скучал в Карлсбаде, куда он приехал ради своей жены. Князь иногда подходил ко мне по вечерам, в то время, как я сидел на скамье у двери своего дома. Я в конце концов стал говорить с ним довольно откровенно, насколько это возможно с таким человеком, и был изумлен, встретив в нем очень мало запальчивости и найдя его умеренным и рассудительным в интимных беседах. У него, конечно, не было недостатка в уме. Но удивление, казалось, было взаимным, ибо он, в свою очередь, по собственному его признанию, был очень доволен познакомиться со мной и убедиться, что я вовсе не такой страшный революционер, как он предполагал. Правда, впоследствии он изменил свое мнение и в 1826 году испытывал или обнаруживал свое величайшее сожаление по поводу того, что я не был повешен!
Что означали эти проявления вежливости, это желание нравиться? Я думаю, что это было просто действие привычки и жизни при дворе. Те, кто долго жил в этой атмосфере, естественно, стараются нравиться, когда это их ни к чему не обязывает. Может быть, также этим путем дурные страсти лицемерно отдают должное противоположным чувствам и эгоизм платит дань бескорыстию. Принужденные властью своей совести признать, что свобода, достоинство, честь – прекрасные и великие идеи, придворные высказывают это в разговоре с человеком, в котором они предполагают любовь к этим идеям и преклонение перед ними.
Но вернемся к моей канцелярии. Под моим начальством было сорок чиновников. Часть их ведала сношениями с иностранными государствами по делам финансовым; другие были заняты делами, касавшимися внутреннего кредита. Одна отрасль дел этого рода только начинала тогда организовываться: то были дела о ссудах, данных правительством в разное время частным лицам по распоряжению императора. В этих делах царствовала тогда величайшая путаница. Чтобы привести их в порядок, решили объединить их в одном ведомстве и ускорить таким образом, насколько возможно, возвращение ссуд. Я, составив нечто вроде списка этих долгов, доходивших до ста с лишним миллионов рублей, старался вернуть в казну недоимки и другие подлежавшие возвра-
[302]
щению суммы, но было почти невозможно добиться этого. Должники, пользовавшиеся достаточным доверием императора для получения ссуд, сохраняли его в достаточной мере и для того, чтобы избавиться от необходимости их возвращения. Бывало также, что ссуды давались с нелепой целью поощрять устройство разного рода фабрик и мануфактур, и фабриканты, как это часто случается, разорялись на своих предприятиях; при таких условиях казалось слишком жестоким со всей строгостью взыскивать потерянные таким образом суммы. Самыми аккуратными должниками, всего точнее выполнявшими свои обязательства, были крестьяне, которым император выдал ссуд на четыре или пять миллионов рублей для выкупа от крепостной зависимости.
Несмотря на очевидные потери, которые терпела казна от этих ссуд, просьбы о них и разрешения на выдачу их не переставали возобновляться. При всем своем влиянии министр ничего не мог поделать. Обращались прямо к императору, который никогда не умел отказывать. Так, при мне из казны было отпущено несколько миллионов князю Р., бывшему посланнику в Вене, и на различных конгрессах под залог, притом совершенно недостаточный, его поместий. Но, по крайней мере в этом случае, было откровенно оговорено, что проценты подлежат уплате, а капитал – возвращению только после смерти заемщика.
Я имел случай сделать довольно любопытное наблюдение над тем, как составлялись эти просьбы. Вспоминаю, как я получил однажды два письма, адресованных одной знатной дамой, – одно императору, а другое – министру. Дама ходатайствовала о ссуде в два миллиона рублей для уплаты долгов своего мужа, который был генерал-адъютантом императора. В письме, адресованном императору, проявлялась некоторая гордость в выражениях, подходившая к характеру этой дамы. Письмо, адресованное министру, было, наоборот, более чем почтительно, оно было почти униженным. Будучи умной женщиной, ловкая просительница писала каждому в том тоне, который обещал ей успех.
В числе сумм, проходивших через мою канцелярию, находились те, которые Франция уплачивала тогда союзным державам в счет военной контрибуции. Министр всегда очень внимательно следил за сроками различных платежей по этим суммам. Это был новый источник чрезвычайного дохода; при правильном ведении госу-
[303]
дарственного хозяйства этот доход должен был бы обратиться на какой-нибудь также чрезвычайный расход для удовлетворения общественных нужд, или же, по примеру Австрии,– на погашение военных издержек *. Между тем я с прискорбием видел, что эти чрезвычайные суммы тратились на покрытие текущих расходов и что ими затыкались дыры, делавшиеся в бюджете ради удовлетворения своих прихотей или швыряния деньгами. Значительная часть этих сумм была употреблена на покупку в Англии сукна для обмундирования императорской гвардии, другая часть была истрачена на обстройку, или вернее на украшение, царства Польского и города Варшавы. В общем русская казна ежегодно вносила для этой последней цели семнадцать миллионов в польскую казну. Поэтому я предвидел, что министру очень трудно будет удовлетворить все требования императора с того момента, как деньги перестанут притекать из Франции. Мне кажется, что я не ошибся, так как одной из причин падения этого министра была медлительность, которую он обнаружил при доставлении миллионов, необходимых для посылки в губернии, охваченные голодом, или скорее невозможность идти в этом отношении навстречу желаниям императора.
Через некоторое время после моего вступления в министерство финансов министр обратился ко мне с просьбой принять на себя составление проекта правил взимания косвенных налогов и гербового сбора, которые он уже с давних пор желал установить на новых началах. Это никаким образом не входило в круг ведомства моей канцелярии. Но именно для таких работ и хотели меня иметь в министерстве финансов. Министр сообщил мне с этой целью различные материалы, заключавшие сведения по этим предметам, добытые из нескольких стран, некоторые частные работы, касающиеся этой области государственного дохода, и даже наброски проектов. Я принялся за работу. Материалы, сообщенные мне министром, были, несомненно, полезны, в особенности, поскольку они касались собственно России; но вскоре я убедился, что должен почерпнуть самое существенное для своего труда, главным образом из французского
* Самая главная часть (50 миллионов флоринов) фонда погашения, предназначенного для уплаты государственного долга, составилась в Австрии из сумм, уплаченных Францией в силу трактата 1815 г., которые австрийское правительство с самого начала сознательно употребляло на усиление этого фонда. (Прим. автора.)
[304]
законодательства. Я стал поэтому добросовестнейшим образом изучать его. Точность и ясность текста французских законов таковы, что те, кто занимается в России реорганизацией различных частей административного механизма или законодательства, всегда предпочитают делать заимствования из Франции, а не из Германии. Германия, конечно, могла бы так же, как и Франция, доставить русским хорошие образцы для подражания, но немецкая форма изложения не так увлекательна, не так проста или легко усвояема, как французская. Сами немцы, которых русское правительство употребляло для этих работ, вместе с нами отдавали предпочтение французским источникам.
Этот труд очень утомил меня и расстроил мое здоровье; однако я, несмотря на значительность этого труда, мог в продолжение самого короткого времени довести его до конца благодаря тому, что располагал большим числом чиновников для изысканий и наведения справок. Одна из глав вырабатываемого устава стоила мне особенно много бессонных ночей, головоломной работы, забот; все это делалось для того, чтобы моя рука не написала гнусных слов, которые возмущали меня, и без всякой надежды, что мой труд в этом отношении будет иметь какие-нибудь практические результаты. Дело заключалось в следующем.
Ценность помещичьих земель исчисляется в России по количеству поселенных на них крестьянских душ *. Она, без сомнения, исчисляется также по количеству земли и по доходу, который последняя приносит или может принести, но эти расчеты происходят лишь между продавцом и покупателем и, кроме того, даже исчисляя доход, обыкновенно определяют цену имения по количеству душ, повышая или понижая ее в зависимости от количества и качества земель и в соответствии с общей доходностью имения. Таким образом, вместо того чтобы сказать, что какой-то помещик имеет такой-то доход, в России говорят: такой-то помещик владеет таким-то количеством душ. Казенные банки, выдавая ссуды землевладельцам, следуют той же самой системе исчисления: они ссужают под залог недвижимости по столько-то рублей на душу. Не будучи в состоянии искоренить это чудовищное зло, я, однако, не хотел допу-
* В эту эпоху закон определял стоимость души в 400 руб., была установлена подать в четыре рубля на душу. (Прим. автора.)
[305]
стить его в составленный мною устав; я испытывал угрызения совести при мысли о внесении этого позорного выражения в свой проект. Мне хотелось поэтому установить оценку переходящих из рук в руки земель по их действительной стоимости, которая определяется скорее землей, доходом, ею приносимым, чем людьми, которые ее населяют. Чтобы положить конец оценке имений по душам и сделать ее излишней, я хотел в основу всякой оценки положить нечто вроде кадастра43, или, скорее, третейской оценки, установляемой не правительством, а, насколько возможно, самим краем, соседями, жителями волости, уезда, губернии, сообразно местным условиям. Излишне говорить, что в России нельзя серьезно думать о введении кадастра в том виде, как он существует в других странах.
Преимущества почти точной оценки поместий вскоре показались мне чрезвычайно важными во многих отношениях. Самая неотложная из всех финансовых реформ в России, без всякого сомнения, состоит в уничтожении подушной подати и в перенесении ее на землю; первой заботой всякого министра финансов должна была бы быть замена подушной подати поземельным налогом: и ничто в такой мере не облегчило бы этой меры, как точное установление действительной ценности имений.
Для достижения различных этих преимуществ я старался заинтересовать в осуществлении этого права самих помещиков. Я хотел убедить их в том, что они сами заинтересованы в оценке своих имений, и притом по действительной их стоимости, не только на случай перехода земли из рук в руки, но ради многих других целей.
Согласно моему проекту во всех главных пунктах губернии учреждались оценочные комитеты. Эти комитеты должны были состоять из представителей от землевладельцев. Правительство должно было иметь в этих комитетах лишь комиссара или прокурора для наблюдения за правильностью производимых операций. Впрочем, во многих случаях, эти операции могли производиться созываемыми каждое трехлетие собраниями землевладельцев от уездов или от главных пунктов губернии.
Я хотел, чтобы первая оценка недвижимой собственности была факультативной для владельцев; он мог обращаться в комитет и, доставляя ему все необходимые документы, требовать оценки своего имения, требовать в случае надобности экспертизы, принимать участие в обсуждении и давать, наконец, свое одобрение уста-
[306]
новленной таким образом оценке. Многие помещики закладывают свои земли в казенные банки, но они вынуждены соблюдать при этом многочисленные и обременительные формальности: я освобождал от этих формальностей помещиков, которые согласились бы подвергнуть свои земли оценке, и требовал от них лишь представления удостоверения, выданного оценочным комитетом с указанием действительной стоимости имения. Таким путем помещик не только освобождался от излишних трат и утомительной волокиты, связанной с соблюдением теперешних формальностей, но он, кроме того, мог бы получать в случае займа более крупную сумму: число душ давало лишь очень ненадежную руководящую нить при определении ценности земель, и поэтому банки были вынуждены для ограждения себя от возможных убытков чрезмерно понижать размер ссуды на душу. Таким образом, если, с одной стороны, помещик при продаже своего имения продолжал находить выгоду в оценке его ниже его действительной стоимости, так как это уменьшало крепостные пошлины, то, с другой стороны, он выигрывал от более высокой оценки, намереваясь сделать заем в казенных банках. И так как случаи займа в банках являются по меньшей мере столь же частыми, как и случаи продажи, то следовало ожидать, что в общем оценки не будут сделаны ниже действительной стоимости имений. К тому же поземельные налоги могли бы со временем распределяться согласно этим оценкам, и, следовательно, общий интерес землевладельцев требовал, чтобы владения каждого были оценены правильно.
Что касается периода, в течение которого оценка имения, сделанная согласно установленным правилам, должна была сохранять свою силу и значение, то я полагал определить его не менее, чем в пятнадцать, и не более, чем в двадцать пять лет.
Как это обыкновенно бывает, чем больше я работал над развитием своей идеи относительно этого вида кадастра, тем больше я открывал новых средств для приведения в порядок и улучшения финансового положения страны. Мне казалось даже, что, установив мало-помалу ценность всех имений в империи, можно будет подумать об успешном введении налога на недвижимую собственность или подоходного налога, который во всех странах может заменить с выгодой для фиска44 и для плательщиков все те хлопотливые и разорительные сборы, зна-
[307]
чительная часть которых поглощается расходами по взиманию их.
Чтобы упростить преобразование подушной подати в поземельный налог, можно было бы на первых порах определять гуртом общую сумму этого налога для каждой губернии или области, исходя из сумм, доставляемых подушной податью. Допустим, что данная губерния платит миллион рублей подушной подати; вместо того, чтобы взимать этот миллион по числу голов или душ, можно было бы распределить его между населенными имениями по их стоимости, признанной оценочным комитетом; его уплачивали бы, таким образом, те, кто до тех пор вносил подушную подать. Не принадлежавшие к дворянству землевладельцы, которых было, впрочем, немного, могли бы оценивать свои имения так же, как и помещики из дворян. Крестьяне, жившие на казенных землях, могли бы быть представлены для оценки делегатами или чиновниками, управляющими этими землями; прокурор и казенная палата должны были бы следить за соблюдением интересов этих крестьян. Что касается плательщиков подушной подати, проживающих в городах, равно как и горожан в настоящем смысле слова, то было бы легко обложить их другим налогом, например, патентным сбором, соответствующим уничтоженной подушной подати.
Налог, взимаемый в настоящее время казной в форме подушной подати, был бы гораздо менее тяжел, если бы он распределялся таким образом. Этот способ распределения поддается усовершенствованию, тогда как существующий способ обложения душ не может быть изменен к лучшему. Поземельный налог мог бы даже с течением времени повыситься до такой цифры, которой никогда не могла бы достичь подушная подать. Нищета беднейших плательщиков ставит предел увеличению подушной подати с тех, кто легко мог бы выдержать это усиление обложения.
Независимо от преимуществ, ясных для всякого, это преобразование обещало бы много других выгод, вытекающих из местных условий и не лишенных важного значения. Так, уничтожение подушной подати облегчило бы передвижение отдельных лиц, ибо при настоящем порядке вещей земледельцы, будучи облагаемы лично, часто встречают много препятствий, когда хотят покинуть свой очаг, чтобы идти работать в другом месте. Кроме того, и на это надо обратить особенное вни-
[308]
мание, упразднение подушной подати устранило бы одно из могущественнейших препятствий, задерживающих осуществление великого дела освобождения крестьян.
Я хорошо знал, что все, что я задумал ввести в устав, с точки зрения так называемых практиков, должно было представлять не более как утопию и, может быть, даже нечто худшее; поэтому я приложил все старания к тому, чтобы изложить свои идеи в возможно более простой и приемлемой форме со всевозможными оговорками, диктуемыми обычаями страны. К счастью, городовое положение Екатерины II45, которое могло бы иметь гораздо больше значения, чем оно имеет на самом деле, весьма облегчило мне эту задачу.
Эта часть моего плана, которую я разрабатывал с особенной любовью, в том убеждении, что я работаю для осуществления священного принципа, в конце концов очень разрослась; она составила почти треть всего проекта о гербовом сборе и косвенных налогах. Весь мой труд был разделен на две части: первая заключала перечень облагаемых предметов и цифру налога, вторая определяла способ взимания и содержала инструкции, которые должны были быть даны назначенным для этой цели властям. В этой форме с некоторого времени составлялись в России все новые уставы.
Я сказал министру, представляя ему свой проект, что я оставил пустым параграф, где, согласно существующему порядку вещей, могла идти речь об установлении цены на крепостные души; я просил его заполнить этот параграф как ему угодно, и прибавил, что мною приготовлен особый труд для заполнения этого параграфа. Одновременно с этим я представил ему свою работу. Министр, желавший добиться положительных результатов, выразил свое удовольствие относительно главного проекта и, казалось, не вполне понял мотивы, заставившие меня сделать к нему добавление.
Не имея никакой надежды, что этому добавлению будет дано движение, и не придавая большой цены главному проекту, который, в сущности, имел своей задачей лишь доставление денег казне, я не думал больше ни о том, ни о другом, но, разговаривая однажды с одним из чиновников министерства, я узнал, что ему также поручено министром составить проект гербового сбора и косвенных налогов и что с этой целью ему были сообщены все предшествующие работы, в том числе
[309]
и моя. Мое авторское самолюбие не было бы уязвлено этим обстоятельством, если бы я не узнал в то же время, что министр начал разбирать мой проект с некоторыми из своих приближенных. Между тем министр, поручая мне эту работу, сказал мне, что, когда я ее окончу, она будет рассмотрена в моем присутствии, в кругу его советников, состоявших обыкновенно из трех-четырех лиц, которых он мне назвал. Видя, что он начал это рассмотрение, не предупредив меня, я усмотрел в этом поступке несоблюдение данного слова. Я, конечно, не мог предполагать в министре расположения к своей особе; очень вероятно, что он хотел иметь лишь большую уверенность в успехе этого труда, доверяя его последовательно нескольким лицам, так как он сам не имел ни времени, ни необходимых знаний для того, чтобы дать ему личную оценку. Я не был, впрочем, в курсе того, что происходило в кабинете министра: раз в неделю я подносил ему для подписи бумаги своей канцелярии; я видел его, кроме того, когда он требовал меня к себе для представления ему некоторых спешных дел. Что касается многочисленных чиновников его различных канцелярий, то у меня с ними не было ничего общего; никаких даже самых далеких отношений не могло установиться между нами; у них были свои принципы, своя манера действовать,– у меня свои. Как бы то ни было, я усмотрел в этом поступке если не личное оскорбление, то, во всяком случае, большое легкомыслие. При первой же встрече с министром, я по окончании обычного доклада подал ему прошение об отставке. Он казался удивленным и даже возражал, но, вскоре овладев собой,– сначала на его лице можно было заметить выражение досады,– он спросил меня, не мои ли занятия в Государственном совете мешают мне оставаться в министерстве финансов. Я ответил ему, что нет. Он не задавал дальнейших вопросов относительно побуждений, заставивших меня принять такое решение, и я счел ниже своего достоинства сообщать их ему, так как он меня о них не спрашивал. «Хорошо,– сказал он,– я пошлю ваше прошение императору».
Я расстался с ним, и на этот раз навсегда.
Публика не могла объяснить себе моего шага. Чиновники не понимали, как я мог с таким легким сердцем бросить место, которое многие другие с таким удовольствием занимали бы при самом могущественном из министров,– человеке, который, не забывая самого себя,
[310]
не переставал осыпать наградами близких к нему подчиненных и испрашивать для них у государя разные милости. Граф Нессельроде, узнав настоящую причину моей отставки, заявил, что министр не имел ни малейшего намерения поступать вопреки моему желанию, что он даже не подозревал мотива моего поступка, но что, видя мое высокомерие, он захотел, в свою очередь, выказать гордость. Он прибавил, что вся вина падает на окружающих, так как они обязаны были, приступая к рассмотрению моего проекта, предупредить министра, что мое присутствие необходимо.
Я, конечно, оставил министерство финансов без особого удовольствия. В материальном отношении это было, бесспорно, жертвой. Но, будучи человеком, неспособным на сделку со своей совестью, я особенно ревниво следил за соблюдением долга в своих служебных отношениях с начальством: я всегда и везде исполнял свои обязанности с величайшим усердием и аккуратностью. Я легко мог заметить, что мои начальники больше нуждались во мне, чем я в них. Малотребовательный, даже слабый по отношению к своим подчиненным, я хотел, чтобы мои начальники относились ко мне с тем уважением и вниманием, какого я, по их мнению, заслуживал. В этом пункте я никогда не делал ни малейшей уступки, никогда также не выносил ни от одного из них ни малейшего порицания, ни одного недовольного взгляда.
Как я только что сказал, я не без некоторого сожаления бросал финансовую карьеру, но я далеко не предвидел, какие пагубные последствия должен был иметь для меня мой поступок. Министр был всемогущ у императора, как все министры финансов у самодержцев; он занимал, кроме того, высокое положение в том верхнем слое общества, который называется высшим светом. Его дом был почти первым в С.-Петербурге; там ежедневно собирались придворные, дипломаты, высшие чиновники. Его жена46, очень искусно поддерживавшая влияние своего мужа, была своего рода властью, которую нельзя было не признать, не подвергаясь опасному неудовольствию. Ее дочь, бывшая замужем за графом Нессельроде, была известна влиянием, которым она пользовалась не только в обществе, но и в иных сферах.
В России, где все является делом интриги и окутано тайной, где солнце гласности освещает лишь результаты, никогда не проникая до причин, репутация человека
[311]
в меньшей степени зависит от него самого, чем от тех, кто берется в том ему содействовать. Моя общественная деятельность давала, конечно, достаточно оснований для того, чтобы выставлять меня либералом, другом крепостных, но, несомненно, она не могла представить никаких поводов к распусканию слухов о том, что я неистовый якобинец. Тем не менее, искажая факты, меня изобразили именно в таком виде, и этой услугой я обязан главным образом деятельности женской половины обоих министерских семейств.
Одно обстоятельство возбудило и довело до крайней степени эту ненависть, которой семья министра финансов не переставала меня с тех пор преследовать. При одном упоминании обо мне весь их придворный патриотизм как будто начинал клокотать. По словам членов этой семьи, никто не мог быть опаснее и революционнее меня. Вот что особенно вооружило их против моей личности.
Несколько времени спустя после моего ухода из министерства финансов проект гербового сбора и косвенных налогов был представлен в Государственный совет. Я поспешил предупредить председателя департамента, в котором он должен был рассматриваться, что я не могу делать о нем доклада, ни так или иначе участвовать в его обсуждении. Я сообщил им тогда мотивы, заставившие меня оставить министерство, и, предвидя, что проект министра не встретит благоприятного приема в департаменте, в особенности со стороны его председателя, адмирала Мордвинова *, я объявил, что не могу присоединиться к тем, кто был расположен его критиковать, тем более что он заключал почти те же самые принципы, как и мой собственный. Действительно, проект в основе не отличался от того, который я выработал; только тарифные ставки были выше, предметы, обложенные пошлиной, многочисленнее, и взимание сопряжено с большими строгостями; к нему прибавлены были также несколько фискальных мер, изобретенных последним редактором. Эти-то добавления и вызвали особенно резкую критику Государственного совета. Лишне говорить, что параграф, который я оставил пустым, был заполнен
* Адмирал Мордвинов был в это время председателем департамента гражданских дел. Проект был рассмотрен двумя соединенными департаментами: только что названным и департаментом государственной экономии. (Прим. автора.)
[312]
без труда и что добавление, сделанное мною к проекту, было опущено и о нем не поднималось и речи.
Мордвинов прекрасно понял причину моего отказа и объявил, что берет на себя доклад по делу. После нескольких заседаний, посвященных чтению и довольно поверхностному рассмотрению проекта, было решено его отвергнуть. Доклад или, как говорят в России, журнал, выражавший мотивированное мнение департамента, отвергал проект во всех его частях. Адмирал не мог возражать в принципе против гербового сбора и явочных пошлин, так как эти сборы уже существовали, но он горячо нападал на чрезмерное увеличение налога, на распространение его на те предметы, которые до тех пор были изъяты от обложения, в особенности же на способ его взимания, имевший в некоторых случаях возмутительный характер. Он не ограничился критикой в пределах проекта: он напал на всю систему финансового управления, которой держался министр; он говорил сильно и даже красноречиво. Слушая чтение этого доклада, нельзя было не дивиться этому кроткому почтенному старцу, который с благородным и страстным негодованием восстал против неумелого ведения дел министром, столь пагубного для государственных интересов. Другие члены департамента голосовали вместе с Мордвиновым. Только граф Потоцкий, находя, что адмирал заходил в своей критике иногда слишком далеко, не пожелал подвергнуться всем неприятностям, которые она могла навлечь на департамент, и представил особое мнение; он старался смягчить критику финансовой системы в ее целом, но все-таки отвергал проект, как заключающий статьи узкофискального характера. Это мнение было составлено на французском языке; граф Потоцкий просил меня перевести его по-русски, чтобы его можно было присоединить к журналу, но я счел своим долгом отказать ему в этой маленькой услуге, желая остаться совершенно в стороне от хода этого дела.
Наступил день обсуждения проекта в общем собрании Совета; министр был приглашен на это заседание. Он не мог от этого уклониться. На обязанности секретаря или того, кто исполнял секретарские функции, лежало чтение перед общим собранием докладов или журналов комитета, при котором он состоял. Я легко мог бы добиться назначения вместо меня одного из своих коллег, но, охотно сохраняя безусловный нейтралитет при рассмотрении проекта в моем департаменте, я не хотел,
[313]
чтобы создалось впечатление, что я боюсь прочесть перед министром едкую критику его управления. Итак, я прочел доклад. После этого чтения, во время которого министру было, видимо, не по себе, он попытался пробормотать несколько замечаний. Гнев в еще большей степени, чем неспособность, позволил ему произнести лишь две-три несвязные фразы; но в заключение он не забыл дать пинка революционным принципам, все более и более распространявшимся в Европе, которые вызывали необходимость в существовании многочисленных армий, требовавших, в свою очередь, новых средств, чтобы стоять на должной высоте. Я хорошо понял, по чьему адресу была направлена эта реакционная тирада, но, не имея голоса в Совете, я не мог надлежащим образом ответить. Я был, однако, далек тогда от предположения, что министр может считать меня способным принять какое бы то ни было участие в отвержении его проекта; я надеялся, что все, и он более чем кто-либо, должны быть лучшего мнения обо мне. Тем не менее, как вы сейчас увидите, дело обстояло иначе. Как только министр кончил говорить, т. е. после того как еле пролепетал несколько слов, ибо последняя его фраза осталась неоконченной, адмирал Мордвинов попросил слова, и в речи, полной ума и умеренности, прибавил несколько соображений в развитие мнения департамента. Приступили к голосованию. Проект был отвергнут большинством голосов. Министр вернулся к себе взбешенный и обрушился на Государственный совет. «Я знаю,– сказал он,– кто виновник всего этого. Это Тургенев. Он своими интригами добился отвержения проекта. Это он составил доклад». Один чиновник, состоявший при министре, прочтя доклад, без труда узнал стиль адмирала и попытался объяснить это министру. Но, по-видимому, министра ничто не могло разубедить. Может быть, ему казалось удобнее обрушиться на меня, чем затевать войну с большинством Совета и адмиралом, хотя он хорошо знал о глубокой антипатии последнего к своей особе и своей системе управления.
В том же свете дело было представлено императору. Поэтому несколько дней спустя, Государственным советом был получен довольно суровый рескрипт, в котором самодержец осуждал Совет за то, что тот отверг без всяких оговорок проект министра. Одновременно с этим повелевалось образовать специальный комитет, составленный из министра финансов, генерала Аракчеева, го-
[314]
сударственного контролера, Сперанского47 и других членов, назначенных из числа лиц, не принадлежавших к Совету. Этот комитет должен был изыскивать новые источники доходов для казны. Насколько я помню, на его рассмотрение был передан отвергнутый проект, получивший впоследствии силу закона. Этот закон вызвал большое недовольство и в конце концов должен был подвергнуться изменениям.
Объявляя таким образом выговор всему Государственному совету, император отдал приказ первому государственному секретарю, докладывавшему ему о положении дел в Совете, передать мне, «что он весьма недоволен мною и что хотя он очень терпелив, но, наконец, может потерять терпение». Когда эти слова были переданы мне, я ответил, что непременно объясню в своем докладе все свое поведение и докажу его безупречность во всех отношениях, причем заранее прошу моего собеседника соблаговолить представить этот доклад императору. Через два дня доклад был представлен ему. Не знаю, каково было действие доклада; во всяком случае, вскоре после этого воспользовались каким-то предлогом, чтобы переместить меня в другой департамент: гражданских и уголовных дел48.
Департамент, управление которым было вверено мне, имел очень важное значение, судя по массе дел, которые в нем рассматривались. В принципе гражданские и уголовные дела должны были окончательно решаться в Сенате или же быть представляемы с его мнением министром юстиции на утверждение императору. Согласно новой организации Совета, дела, вызывавшие необходимость толкования текста закона, равно как и те, которые не находили формального разрешения в существующих законах, должны были восходить в Государственный совет. Именно в этом смысле было принято за правило, что решения Государственного совета должны иметь силу закона. Это правило могло бы оказаться чрезвычайно полезным, но оно не соблюдалось, подобно всем другим, установленным при новой организации Совета. Правительство, имевшее поползновение создать путем организации Государственного совета устойчивое и правильно функционирующее учреждение, где сосредоточивались бы все важнейшие дела империи и откуда главным образом должны были бы исходить все законодательные мероприятия, очень скоро стало, видимо, тяготиться учреждением, которое могло стеснять произвол
[315]
министров и вносить некоторый порядок в ход дел. Сначала было освобождено от контроля Совета военное министерство, для которого создали в Совете особый департамент, затем наступил черед финансового ведомства, дела которого, однако, довольно долгое время продолжали восходить на рассмотрение Государственного совета, но в конце концов, как мы видели, были изъяты из круга его обсуждений.
Общее законодательство, для которого в Совете также имелся специальный департамент, почти никогда не доставляло для него достаточного количества работы. Таким образом, оставались только гражданские и уголовные дела, которыми зато Совет был завален. Все дела, представлявшиеся до тех пор министром юстиции непосредственно императору, мало-помалу стали переноситься для предварительного рассмотрения в Государственный совет.
По окончании своего отпуска адмирал Мордвинов был, как мы сказали, назначен председателем департамента гражданских и уголовных дел, так что я еще раз оказался в служебных отношениях с этим почтенным человеком. Вскоре, однако, он был заменен другим председателем, князем Куракиным49, братом прежнего русского посланника при Наполеоне. Это была полная противоположность адмиралу. Насколько тот был просвещен и гуманен, настолько этот был лишен образования, суров, не способен ни на какое человеческое чувство в уголовных делах. Однако он не мог пожаловаться на недостаток природного ума. У него были учтивые манеры светского человека, но я никогда не замечал в нем сколько-нибудь возвышенных чувств.
Тем не менее со мной случилось то, что происходит обыкновенно с искренними и трудолюбивыми людьми. Новый председатель, так же как и его предшественники, обладавшие столь различными характерами, отнесся ко мне с полным доверием, и я в конце концов стал отлично ладить с ним. Меня особенно располагало в его пользу то обстоятельство, что он всегда соглашался со мной, когда разбирались тяжбы между крепостными, требовавшими своего освобождения, и помещиками, которые ими владели. Во всех этих процессах без исключения председатель Куракин высказывался за освобождение крестьян, иногда даже бывало, что в департаменте никто не поддерживал его мнения. Тогда я составлял
[316]
для него особое, подробно мотивированное мнение общего собрания Совета. Там сторонники освобождения крестьян находились еще в меньшинстве. Но когда резолюция Совета вместе с мнением князя Куракина восходила к императору, то последний неизменно решал дело в пользу несчастных крепостных, утверждая иногда, таким образом, мнение меньшинства.
Эти успехи чрезвычайно льстили самолюбию председателя. Он не упускал случая обращать мое внимание на разочарование некоторых членов большинства и никогда не забывал приобщить меня к своим триумфам. Решения императора, конечно, доставляли мне большое удовольствие, но я предпочел бы, чтобы виновником их был адмирал Мордвинов, а не князь Куракин, ибо этот последний голосовал за освобождение только из желания угодить императору; даже в его добрых поступках сказывался лишь простой царедворец.
Если бы искренность желания Александра уничтожить в своей империи рабство вызывала сомнение, то пример этого старого придворного, всегда голосовавшего против своего убеждения в пользу освобождения крестьян, должен был бы рассеять всякие сомнения. Из всех членов департамента этот постоянный борец за освобождение был, бесспорно, дальше всего от всякого подобия либеральной идеи или какого-нибудь сочувствия несчастному простому народу. Его характер, его инстинкты толкали его к укреплению ярма рабства, но придворный брал верх над человеком.
Что касается меня, то, как только дело заходило об освобождении крепостных, я отбрасывал всякую мысль о согласовании дела с общими основами законодательства, как я это делал в других случаях; вопрос всегда был решен для меня заранее, и мне оставалось лишь искать в обширном арсенале существующих законов таких постановлений, на которых я лучше мог бы основать свое мнение в пользу освобождения крестьян. Я всегда был на своем посту, и ни один из тех, кто добивался освобождения, не проигрывал процесса. Случалось даже, что мне удавалось изменить предшествующие решения департамента, враждебные делу освобождения.
Здесь я также не могу не отдать должного почтенному старцу, о котором я так часто упоминаю. При вступлении в должность я нашел в департаменте гражданских дел несколько решений этого рода, уже подписан-
[317]
ных и предназначенных для представления в общее собрание Государственного совета; я заметил среди подписей подпись адмирала Мордвинова, и мне удалось легко убедить его, что он впал в ошибку, отказывая в освобождении несчастным, домогавшимся свободы: тогда, в момент представления мною дела на рассмотрение общего собрания, он вставал и признавал свою ошибку, называя того, кто ее указал ему, и в заключение высказывался в противоположном своему первому голосованию смысле. Объяснения этого рода, данные с такой благородной откровенностью, всегда убеждали большинство Совета, и дела несчастных крепостных оказывались выигранными.
Мне нет нужды объяснять мотивы, по которым в вопросах, касавшихся освобождения крестьян, я стремился прежде всего намечать свою цель и уж потом пользовался как средством, каким-нибудь законом или указом, применимым к обстоятельствам дела. Несомненно, «не существует права против права». Но в России рационалистический способ решения процессов может оказаться очень полезным при разборе всякого рода дел. Один из самых просвещенных членов Государственного совета, человек большой опытности, граф Потоцкий, сказал мне однажды, что он сам принял за правило в гражданских делах решать a priori*, какая из двух сторон права или не права. Решив вопрос согласно голосу своей совести, он искал законов, в которых он мог бы найти опору для своего мнения. Кто знает, какой запутанный лабиринт представляет русское законодательство, тот поймет, что это может быть самое надежное средство избежать ошибки.
Чисто гражданские дела или тяжбы, проходившие через мой департамент, были весьма многочисленны и часто затрагивали весьма важные интересы. Я не помню, чтобы мне приходилось когда-нибудь в делах этого рода встречать сопротивление князя Куракина. Он был генерал-прокурором в царствование императора Павла; пост этот до создания министерств соответствовал должности министра юстиции и председателя Совета; потом он почти всегда занимал верхние ступени бюрократической лестницы, он был даже министром внутренних дел. У него было поэтому много опыта и рутины. Хотя дела этого рода интересовали меня гораздо менее
* заранее (лат.)
[318]
уголовных дел и тех, где речь шла о личной свободе, я тем не менее употреблял все усилия, чтобы решения департамента сообразовались с требованиями справедливости. Что касается уголовных дел, то председатель либо отягчал приговоры, произнесенные Сенатом, либо обычно избирал наиболее строгие из них. Не будучи в состоянии победить его упрямство, я в этих случаях встречал поддержку не только в других членах департамента, иногда поддававшихся моим убеждениям, но и в членах других департаментов, которые говорили тогда в общем собрании в пользу снисхождения*. Адмирал Мордвинов и граф Потоцкий и здесь были лучшими защитниками несчастных обвиняемых; добрый и благородный князь Александр Салтыков50 приходил им также на помощь, по крайней мере подачею голоса. Особенно первый, душа которого была полна милосердия и доброты, не переставал защищать ту мысль, что Государственный совет не может, не роняя себя, изменять решения, принятые Сенатом, иначе как в смысле смягчения наказаний, и что отягчать их было бы не только несправедливостью, но и нелепостью.
Этот принцип, сам по себе безусловно верный, должен был, однако, по моему мнению, допускать исключения, и из-за этих исключений мне часто приходилось спорить с адмиралом, не желавшим делать их ни для кого. Менее добрый, менее терпимый человек, чем он, мог бы в конце концов рассердиться на меня, но он жаловался лишь в мягкой форме на чрезмерность моей антипатии к крепостному праву. Когда я вспоминаю теперь эти, иногда очень горячие споры, я не могу не признать, что достопочтенный старец был, может быть, прав, а я ошибался. Он защищал справедливый и священный принцип, я же лишь преследовал гнуснейшее из преступлений. Вот те исключительные случаи, о которых я говорю.
Среди дел, поступавших в Совет, часто попадались уголовные процессы, возбужденные против владельцев крепостных за злоупотребление властью. Эти процессы вскрывали такие чудовищные деяния, что их едва можно
* Читатель, пожалуй, не поверит, если я скажу, что как среди членов Совета, так и среди моих коллег находились лица, которых раздражали мои попытки спасти некоторых несчастных или смягчить угрожавшие им кары. «Пускай он начиняет своими теориями, сколько ему угодно, членов своего департамента,– говорили они,– но пусть он не старается влиять на голосования общего собрания». (Прим. автора.)
[319]
представить себе. Во время предварительного следствия, так же как и при последовательном разборе дела уголовными судами и Сенатом, помещики всегда находили больше средств для самозащиты, чем несчастные жертвы для подтверждения своих жалоб. В Сенате дела этого рода разбирались, конечно, более беспристрастно, чем в низших судах: тем не менее приговоры были по общему правилу и, насколько это допускалось обстоятельствами, благоприятны для помещиков. Министр юстиции, хотя и не был на своем месте, отличался добросовестностью и не щадил виновных. Когда эти дела переходили в департамент, я всегда был склонен желать утверждения самых строгих приговоров. Адмирал, наоборот, принимал на себя защиту даже тех, кто доходил до жестокого злоупотребления властью, настолько гнусной по самой своей природе, что всякий не совсем дурной человек с отвращением пользуется ею даже в умеренных размерах.
В этих именно случаях Мордвинов всегда говорил мне, что в моих глазах все крепостные святые, а все господа – чудовища. Это не мешало мне вербовать в общих собраниях Совета мнения, противоположные мнению адмирала. Однажды, по моему настоянию, один из членов Совета, генерал Канкрин, впоследствии министр финансов, представил мотивированное мнение, чтобы добиться пересмотра следствия и возбуждения нового процесса против помещика, виновного в возмутительных по своей жестокости деяниях, но благодаря своему общественному положению (он был отставным генералом) едва не избегшего возмездия. Император одобрил ходатайство генерала Канкрина, который пошел против всего Государственного совета.
Хотя я не был членом департамента законов, мне было поручено однажды представить для обсуждения в Государственный совет проект торгового устава; часть его была уже составлена мною в то время, как я находился в комиссии по составлению законов. Сперанский, в качестве члена департамента законов, и в особенности как специалист во всем, что касалось кодификации, очень хотел привлечь меня к участию в этом деле. Мы составили вместе доклад этого проекта Совету. Я мог тогда познакомиться с мнением Сперанского относительно Государственного совета и относительно того, как должны вестись в России дела этого рода. «Все это обсуждение в Совете,– говорил он мне,– простая фор-
[320]
мальность. Эти люди ничего в этом не понимают. Мы с вами сделаем все, что найдем нужным». Я не разделял ни этого презрения Сперанского к Совету, некоторые члены которого своей просвещенностью и знаниями, конечно, не уступали этому деятелю, ни особенно, этой циничной самоуверенности. Я хотел обсуждения, я находил его полезным во многих отношениях. Не говоря о лучшем освещении вопроса, которое могли дать образованные и цивилизованные люди, или даже просто люди опыта, оно могло доставить самим докладчикам случай к проверке своих идей или внушить им новые мысли. Это обсуждение проекта торгового устава продолжалось в течение некоторого времени и затем было оставлено без всякого разумного основания.
Работа в департаменте в конце концов изнурила меня; мое раньше столь крепкое здоровье расшаталось. Я должен был подумать о перемене занятий. До своего вступления в этот департамент я употреблял свои досуги на разработку вопроса о суде присяжных. Уголовные дела, проходившие тогда через мои руки, вдвойне заставляли меня желать реформы уголовного судопроизводства в России. Я продолжал посвящать этому труду немногие свободные минуты, остававшиеся у меня от моих занятий в Государственном совете, и, рассматривая суд присяжных, задался целью изложить нечто вроде теории уголовного следствия, причем развил принципы и правила, которые, по моему мнению, необходимо должны соблюдаться во всех стадиях следственного производства. Я старался на примере законодательства в этой области других стран показать русскому читателю многочисленные и огромные недостатки соответствующих законоположений нашей страны. Я имел намерение по окончании этой работы составить устав уголовного судопроизводства подобно тому, как я уже выработал отчасти проект торгового устава. Это было моей мечтой, осуществление которой беспрестанно занимало мою мысль. Все мои научные занятия были с той поры направлены к этой цели. Судьба не позволила мне довести до конца ничего из моих начинаний.
Чтобы основательнее познакомиться с вопросом о суде присяжных и уголовным судопроизводством вообще, я задумал ехать изучать их в Англию. Простое английское судопроизводство казалось мне более подходящим для России, чем французское судопроизводство, более упорядоченное, но более сложное и требовавшее следо-
[321]
вателей с большей научной подготовкой. Я узнал случайно, что вскоре должно было освободиться место русского генерального консула в Лондоне, и решил, что, получив это место, попаду в самые благоприятные условия для достижения своей цели. Не зная, каким путем мне действовать, чтобы получить это место, и будучи притом вполне убежден, что, прося о нем, я не мог подать повода к обвинению в нескромности или честолюбии, я сказал об этом Сперанскому. Он посоветовал мне обратиться с прошением прямо к императору. Я последовал этому совету. В очень коротком письме я доводил до сведения императора, что вследствие плохого состояния здоровья мне необходимо удалиться от дел, которыми я был обременен, и говорил, что, узнав о скором освобождении места генерального консула в Лондоне, я прошу его величество назначить меня на этот пост.
Через два дня я получил от графа Аракчеева приглашение явиться к нему. Он сообщил мне полученное им приказание сказать мне, что мои услуги необходимы в Государственном совете, что к тому же пост, о котором я просил, не мог быть предоставлен мне, так как он гораздо ниже того, которого я заслуживал; что, наконец, император, хорошо зная мои труды и будучи очень доволен ими, знал также, что получаемый мною оклад совершенно недостаточен и что в этом отношении я могу просить у него что угодно; его величество готов для Вас на все жертвы: таково было выражение, которое употребил граф Аракчеев, плохо владевший как словом, так и пером. Я ответил на это сообщение, что если императору угодно, то я останусь по-прежнему в Государственном совете, но что касается денежных наград, то я попросил графа сказать его величеству, что я желал получить место генерального консула, а не деньги. Император через несколько дней сказал Сперанскому, что мой ответ очень ему понравился, особенно в своей последней части. Меня это не удивило: император не часто наталкивался на подобные отказы.
Итак, я принялся за дела с новым жаром, но по прошествии года я увидел, что не в силах больше заниматься ими. Доктора объявили мне, что если я буду работать таким образом, то в конце концов надорвусь, и что карлсбадские воды необходимы для восстановления моего расшатанного здоровья. На этот раз я не писал им-
[322]
ператору, а попросил у своего начальства дать мне отпуск. Но, как и в первый раз, я получил от графа Аракчеева приглашение явиться к нему. Он объявил, что император поручил ему сказать мне, что он охотно дает мне просимый отпуск и, желая подтвердить мне свое благоволение, повышает меня в чине. К этому император присоединил денежную награду, приказав оплатить мои путевые издержки. Я сохранял также оклад, соответствующий тому посту, который я вынужден был покинуть. После этого официального извещения граф прибавил, дружески обнимая меня: «Император поручил мне взять с вас слово, что вы примете совет, который он дает вам не как государь, а как христианин: держаться за границей настороже. Вас, конечно, будут окружать люди, которые только и думают что о революции, они попытаются увлечь вас. Не доверяйте этим людям и будьте осторожны». Я мог ответить только улыбкой, хотя и был тронут проявленным ко мне интересом и не сомневался в искренности этих слов.
Я много говорил о тайных обществах, но нахожу нужным еще раз здесь вернуться к ним. В течение того времени, которое я провел в С.-Петербурге, начиная с распущения Союза общественного благоденствия и до моего отъезда из этого города, я слышал иногда, что тайные общества продолжают существовать, или вернее, что идет работа над их созданием. Убежденный на основании собственного опыта в почти полной бесполезности подобных обществ, я не придавал никакого значения, не обращал даже никакого внимания на эти слухи, которые к тому же отличались крайней неопределенностью. Впрочем, существующий порядок вещей в России исключает всякую гласность и самые безобидные собрания легко могли быть рассматриваемы предубежденными людьми как тайные общества. Таким образом, чисто литературные общества, состоявшие из людей, неспособных заниматься чем бы то ни было, кроме литературы, и собрания в интимном кругу, имевшие целью лишь дружественную и непринужденную болтовню, слыли среди публики за тайные общества. Я сам участвовал в одном литературном обществе51, которое могло считаться и действительно считалось некоторыми лицами почти политическим. Я присутствовал на заседаниях этого литературного общества гораздо чаще, чем на заседаниях Союза общественного благоденствия. Прения и беседы, не всегда ограничивавшиеся здесь литературой, могли бы до-
[323]
ставить достаточно материала человеку такой же честности и добросовестности, как составитель донесения следственной комиссии52, чтобы представить их в извращенном виде и придать им значение каких-то политических дебатов. Идя по тому пути, по которому пошел автор «донесения», было бы легко изобразить эти заседания точь-в-точь в таком же свете, в каком он представил собрания Союза общественного благоденствия, и извлечь отсюда подобные же выводы. Чтобы составить правильное представление о собраниях Союза общественного благоденствия, докладчику надо было только вспомнить заседания того литературного общества, самым деятельным, а главное, самым болтливым членом которого был он сам.
Однако два эти общества оставили во мне различные воспоминания. Тогда как одно из них было проникнуто духом самоотвержения, жаждой лучшего будущего, другое общество, литературное, врезалось мне в память своим крайним легкомыслием. Это литературное общество было основано для нападения на приверженцев нашей старой литературы и осмеяния их. Всякий новый член при своем вступлении должен был произнести шутовскую оду в честь одного из членов русской Академии, главного убежища литераторов старой школы. Это называлось похоронить академика. Непричастный к этим литературным спорам, и благодаря своему долгому отсутствию из России, и по своим вкусам, которые влекли меня к серьезным предметам, я не мог особенно интересоваться тем, что происходило в этом обществе. Я находил все же удовольствие присутствовать на его заседаниях, так как беседы не всегда сводились к фривольным предметам. Но, я должен в этом признаться, удовольствие это никогда не бывало полным, ибо я не мог вполне приспособиться к духу критики и язвительным насмешкам этих господ. Дух этот особенно резко обнаруживался в неистощимой болтовне человека, на которого было впоследствии возложено составление торжественного акта и который, вместо того чтобы исполнить свой долг и составить этот акт исключительно в интересах справедливости, по-видимому, предпочел излить в нем всю желчь своего сердца.
В конце моего пребывания в С.-Петербурге мой тогдашний друг, генерал Михаил Орлов, вступил в это литературное общество53. Но вместо того чтобы согласно установленному обычаю произнести в шутовском стиле
[324]
эпитафию какому-нибудь из находящихся в живых академиков, он выступил с серьезной речью54, в которой указывал обществу, как мало вяжется с достоинством разумных людей занятие пустяками и литературными спорами, когда положение страны открывало такое широкое поприще для приложения ума всякого человека, преданного общему благу. Он заклинал своих новых собратьев бросить свои детские забавы и направить свое внимание на благородные и серьезные предметы. Эта речь произвела впечатление, все почувствовали справедливость упреков и советов вновь вступавшего члена. Но если с тех пор легкомыслие и безрассудство уменьшились, то все же разумное и полезное мало выиграло от этого.
Правительство весьма способствовало своими подозрениями и мелочными мерами предосторожности укреплению ходивших слухов о тайных обществах; ему все казалось подозрительным. Когда в одном гвардейском полку, шефом которого был император, вспыхнуло нечто вроде восстания55, правительство решило, что в основе этого события, вызванного грубым и нелепым поведением нового полковника56, которого только что поставили во главе этого полка, лежит деятельность какого-нибудь общества. Нет никакого сомнения, что таково было его убеждение, так как двое офицеров, в ротах которых раньше всего обнаружилось возмущение, были преданы военному суду и осуждены57 не только без всяких доказательств, но даже и без точного определения того преступления или поступка, за который они судились. В действительности эти два офицера никогда не принадлежали ни к какому тайному обществу.
Какому-то слепому англичанину приходит в голову мысль сделать кругосветное путешествие и напечатать описание его. Он прибывает в Петербург, проезжает через Россию, отправляется в Сибирь. Там его принимают за шпиона, и вскоре из Петербурга приходит приказ выслать бедного путешественника за границу. В это время правительству казались подозрительными даже благочестивые протестантские миссионеры, отправлявшиеся проповедовать со своим обычным рвением Евангелие среди диких племен: им помешали продолжать их святую проповедь, которую они хотели производить в самых отдаленных и наименее цивилизованных областях империи. Власть усмотрела в них эмиссаров европейского либерализма.
[325]
Публика со своей стороны неизменно принимала видимость за действительность: это свойство толпы во всех странах. Сколько раз до этого периода и в продолжение его можно было видеть людей, обращавшихся к лицам, которых считали вождями тайных обществ, с настойчивой просьбой принять их туда! В армии офицеры низшего ранга обращались с тем же к своему начальству; старые генералы искали покровительства своих молодых подчиненных, чтобы удостоиться той же чести. Напрасно говорили тем и другим, что не существует никакого тайного общества: умы тревожно ждали политических событий, воображали, что готовится произойти какая-то великая перемена, и никто не хотел оставаться в стороне.
Большой минус этих обществ состоит в беспокойном любопытстве, которое они возбуждают. В этом виноваты, конечно, в меньшей степени эти общества, чем те лица, которые судят о них по слабым и обманчивым внешним признакам, или скорее это вина политического строя, который делает тайные общества, если не необходимыми, то, во всяком случае, неизбежными. Но это тем не менее серьезное неудобство, и только гласность может устранить его: мужественная и открытая деятельность свободного человека заменяет с пользой для дела ухищрения и агитацию раба.
Однако в ту эпоху, о которой мы говорим, отдельные лица могли агитировать в разных направлениях, но ни малейшего результата отсюда не получалось. Но если бы существовало что-либо похожее на организованное тайное общество, то как мог бы я не знать этого, будучи знаком с некоторыми из так называемых либералов? Я приведу еще одно доказательство, гораздо более убедительное, чем мое свидетельство: это слова Пестеля, человека, которого правительство обрекло на гибель на эшафоте не потому, что он совершил какое-либо политическое преступление, но потому, что его считали самым влиятельным из тех, кто должен был принимать участие в тайных обществах.
Пестель находился в С.-Петербурге в тот момент, когда была решена моя поездка на воды. Он пришел повидаться со мной; Пестель с сожалением говорил мне о распущении Союза общественного благоденствия. «У нас (во второй армии),– сказал он мне,– это распущение не имеет сторонников, оно многих обескураживает… Верят, что мы сильны и многочисленны; пусть ве-
[326]
рят, по-моему, незачем разрушать эту иллюзию. Но что сказали бы, если бы знали, что нас всего пять-шесть человек во всем обществе?» В заключение он посоветовал мне отказаться от моего путешествия или по крайней мере вернуться как можно скорее, чтобы снова взяться за покинутое дело. «Я хорошо вижу,– сказал он мне,– что здесь не останется больше и следа от старого общества, но у нас и в других местах продолжают верить в его существование, ваш отъезд ослабит эту веру». Я объяснил ему прежде всего, что состояние моего здоровья вынуждает меня отстраниться от дел, и затем высказал ему свое убеждение в нецелесообразности тайных обществ. Он как будто сдался на мои доводы; соглашался даже, что я, может быть, прав в этом последнем пункте; словом, если он говорил еще о тайных обществах, то скорее по привычке, чем в силу убеждения.
Впрочем, его внимание было захвачено другим: то были социальные теории, выработанные им и некоторыми из его друзей. Пестель ожидал найти во мне нового прозелита58. Он был изумлен и смущен, не найдя его во мне. Эти теории, усвоенные столькими людьми с пылкой фантазией, доказывают, без сомнения, прекрасные намерения, даже энтузиазм, но почти не обещают никаких осязательных результатов. Гениальность, или нечто похожее на нее, у Фурье, рвение Оуэна, утопии многих других могут вербовать прозелитов и возбуждать восторг в некоторых приверженцах, но мечты этих людей останутся мечтами, хотя они возносятся иногда на самую вершину. Но если осуществление этих теорий невозможно, то все же они могут сослужить службу человечеству, направляя внимание и энергию серьезных умов на некоторые предметы, важность и полезность которых без них не были бы в достаточной мере созданы. Но для этого мало одной фантазии. Один из основных пунктов теории Пестеля и его друзей состоял в обобществлении земельной собственности, причем порядок ее эксплуатации и должен был определяться правилами, установленными высшей властью. Во всяком случае, они предлагали предоставить пользование обширными казенными землями всем безземельным59. То, что закон королевы Елизаветы гарантировал всякому англичанину право получать пропитание, за неимением других средств к существованию, с помощью налога в пользу бедных, они хотели гарантировать, предоставляя каждому обладание, или
[327]
скорее пользование, известным количеством земли для удовлетворения своих потребностей.
Я пытался опровергнуть их аргументы. Это было нелегко: опровержение некоторых теорий трудно; есть такие, самая нелепость которых делает их неопровержимыми. В конце концов я заметил, что Пестель и его друзья были гораздо более недовольны моим несогласием с их социальными теориями, чем моим мнением относительно тайных обществ.
Через несколько дней по получении от императора отпуска, разрешавшего мне ехать за границу, я оставил 24 апреля 1824 г. С.-Петербург. По мере того как я приближался к границе, все, что проходило у меня перед глазами: поля, рощи, луга,– приобретало для меня какую-то особую прелесть; гнетущая тоска охватывала меня: внутренний голос говорил мне, что все бывшее у меня перед глазами я вижу в последний раз.
СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА СКАЛОН
(1797–1887)
В сборнике «Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век» (М., 1988) уже публиковались отрывки из «Записок» С. В. Скалон. Там же сообщены основные о ней сведения. Повторим их кратко.
С. В. Скалон – младшая дочь автора знаменитой комедии «Ябеда» и многих известных стихов В. В. Капниста (1758–1823). Росла она в отцовском имении Обуховке Полтавской губернии, ставшем одним из замечательных «дворянских гнезд», где слились воедино потоки русской и украинской культуры. А всюду, где возникает подлинно интеллектуальная среда, неизбежны и вольнолюбивые веяния. Недаром отец мемуаристики писал в «Оде на рабство»:
Мать автора «Записок» была родной сестрой жены Г. Р. Державина, который часто гащивал в Обуховке. В 1816 г. он вписал в альбом Софьи Васильевны (тогда еще Капнист) четыре строки:
[329]
В той части «Записок», которые публикуются в настоящей книге, С. В. Скалон рассказывает о своих дружеских и родственных связях с декабристами, братьями Муравьевыми-Апостолами, а также с Н. И. Лорером. С ним был у нее девический роман, прервавшийся его арестом и «долгим отсутствием». В 1833 г. она вышла замуж. Однако с Лорером они встретились в 1850-х годах, и Лорер многое рассказал С. В. Скалон о декабристах, их сибирской и кавказской эпопеях. Это нашло отражение в последующих главах ее мемуаров. Хорошо знала мемуаристка и других участников восстания – М. С. Лунина, М. П. Бестужева-Рюмина, П. И. Пестеля. По делу декабристов был, как увидит читатель, привлечен и брат ее, А. В. Капнист. Трагические события жизни своего семейства Софья Васильевна передает с подкупающей простотой, со сдержанным волнением. Да и немудрено, что ей удалось, внешне по крайней мере, обуздать свои чувства. Ведь воспоминания создавались четверть века и более спустя после описываемых событий. Муж ее, Василий Антонович Скалон, служил в Петербурге, и она тосковала по родной Полтавщине. «Живя более трех лет на севере, – пишет она, – в мрачном туманном краю, в той столице, которая богатством зданий, гранитными набережными и великолепием дворцов и храмов своих изумляет каждого, но где все дышит сыростью и холодом, наполняющим не только воздух, но и души жителей, я чаще, чем когда-нибудь, переношусь мыслями и чувствами на родину мою, в благословенный край Малороссии, где я провела самые счастливые дни моей жизни. Все здесь, на севере, наводит тоску, стесняет сердце, и если бы не семейство мое, в котором я так счастлива и спокойна, которое нежными заботами своими и попечением согревает душу мою, то, конечно, ничто не удержало бы меня здесь более.
Приближаясь к старости и желая, пока еще силы и слабое зрение мое позволяет, изложить, единственно в память детям моим и близким сердцу моему, некоторые очерки жизни моей и родных моих, я решилась приступить к этому делу».
Важной страницей в жизни С. В. Скалон была дружба ее самой и всего ее семейства с Н. В. Гоголем. Она знала его с детства, вовсе не предполагая будущей его славы. Мемуаристка приводит следующий любопытный эпизод: «Ехавши в Петербург, он (юный Гоголь) заехал к нам и, прощаясь со мною, он удивил меня следующи-
[330]
ми словами: «Прощайте, Софья Васильевна. Вы или ничего обо мне не услышите или услышите что-нибудь очень хорошее». Слова эти встретили общее удивление, так как в молодом человеке не видели и не предполагали ничего особенного». Гоголь писал Капнистам, неизменно передавая поклоны Софье Васильевне; последнюю весть от нее он получил в 1851 г., когда, выехав на свадьбу сестры, Гоголь в Калуге почувствовал себя плохо и поворотил назад. Софья Васильевна написала ему тогда: «Прискорбно мне очень, что здоровье ваше лишило нас всех истинного удовольствия видеть вас в Малороссии. Мы все ожидали вас с нетерпением…» Скромно задуманные и скромно написанные, мемуары Софьи Васильевны Скалон представляют собою, однако, не только важный документ эпохи, но и примечательное литературное произведение. Дочь В. В. Капниста обладала своеобычным литературным даром. Хотя записки ее не принадлежат к числу самых популярных в нашем мемуарном наследии и более полувека не издавались, они, несомненно, заслуживают читательского внимания.
ЛИТЕРАТУРА
Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1–2.–М., 1931.
Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1.– М.-Л., 1936.
<…> Между тем меньшой брат мой Алексей1 продолжал службу свою в гвардии; он был всеми любим и считался в полку отличным офицером, но, чтобы быть поближе к нам, он поступил в адъютанты к генералу Н. Н. Раевскому, который любил его как сына и в семействе которого он был истинно как самый близкий родной.
Живя в Киеве, он, к большой отраде нашей, мог часто приезжать к нам, и приезд его обыкновенно оживлял и утешал всех, особенно мать2, которая чрезвычайно как любила его.
Он умел ее развеселять разными рассказами и добрым открытым характером своим.
В то же почти время брат Петр Николаевич Капнист3 после смерти своего отца и Матвей Иванович Муравьев-Апостол поступили адъютантами к генерал-губернатору Полтавской губернии князю Репнину4, который был всегда в дружеских отношениях с моим отцом и вместе с ним работал для блага Малороссии.
Матвей Иванович Муравьев-Апостол недолго оставался адъютантом, вскоре вышел в отставку и жил совершенно один в своей деревне, как отшельник; он никуда не выезжал, кроме Обуховки, и, несмотря на большое состояние отца своего5, жил очень скромно, довольствуясь малым, любя все делать своими руками: он сам копал землю для огорода и для цветников, сам ходил за водою для поливки оных и не имел почти никакой прислуги. В то время, конечно, он не предчувствовал, что вскоре жестокая судьба бросит его в мрачную и холодную Сибирь и что там-то он будет истинным тружеником и страдальцем в лучшие годы своей жизни.
Брат его, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, иногда приезжал к нему из Бобруйска, куда после несчастной истории лейб-гвардии Семеновского полка6 в 20-м году был сослан за излишнее стремление его к добру, за человеколюбивые поступки его с солдатами, вверенными ему правительством, и, конечно, более еще за преданность и любовь их к нему, как к доброму начальнику своему.
Несмотря на то, что он, будучи в Бобруйске, лишен был права не только выйти в отставку, но и проситься в отпуск, он тем не менее довольно часто приезжал
[332]
и к нам, и к брату своему, с которым с детства был очень дружен.
Вот в это-то время я имела случай узнать этого достойного человека и в полной мере оценить и ум, и благородство, и возвышенные чувства его. Я и теперь с ужасом представляю себе его жестокое в то время положение.
После службы в гвардии, где умели узнать его достоинства, где все его любили, отдавая полную справедливость его уму и добрым качествам души его, он брошен был в Бобруйск, в страшную глушь, в полк к необразованному и почти всегда пьяному полковому командиру, которого никак не мог он уважать, и потому в отпуск даже ездил всегда без его ведома.
В Бобруйске он был совершенно один, без родных, без товарищей, окруженный каторжными в цепях и в диких нарядах, получерных и полубелых, с головами, наполовину обритыми, народом несчастным и угнетенным, на который нельзя смотреть без ужаса и без страдания.
После этого немудрено, что он всегда был в каком-то раздражительном положении; все его томило, все казалось ему в черном виде, и все ожидал он чего-то ужасного в будущем.
Но несмотря на это, когда бывал он в нашем кругу, то сердце его как бы отдыхало, он оживлялся, и тогда разговор и суждения его были до того увлекательны и поучительны, что когда он умолкал, то все хотелось бы еще его слушать.
Обыкновенно он был серьезен и более молчалив, но когда говорил, то лицо его оживлялось, глаза блестели, и в те минуты он был истинно прекрасен. Ростом он был не очень велик, но довольно толст; чертами лица, и в особенности в профиль, он так походил на Наполеона I, что этот последний, увидев его раз в Париже в политехнической школе, где он воспитывался, сказал одному из своих приближенных: «Qui dirait, que ce n'es pas mon fils» *.
Пылкость благородного характера его и желание добра, быть может, и ошибочное, погубили человека, который по уму и сердцу своему мог бы быть истинно полезным отечеству.
* Кто скажет, что это не мой сын (фр.).
[333]
Жалею душевно, что не могу поместить здесь писем его7 из Петропавловской крепости к отцу своему, особенно же чрезвычайно интересное письмо, писанное им накануне своей смерти к брату Матвею Ивановичу. Копии с этих писем долго сохранялись у меня, как драгоценность, но, к большому моему сожалению, кто-то похитил их у меня.
Характер брата его Матвея Ивановича был совсем другой. Всегда живой, веселый и разговорчивый, он обыкновенно присутствием своим оживлял общество. Но, будучи немного легкомыслен, он не имел твердости характера брата своего, увлекался иногда мнением других и потому часто менял свое собственное. Сергей Иванович имел над ним большое влияние, и он-то и увлек его в несчастную историю 1825 года, в чем и сознался, для оправдания брата своего, в последнем письме своем к отцу из Петропавловской крепости.
Матвей Иванович любил страстно брата своего, гордился им и всегда сердился за то, что он был молчалив и не любил выказывать себя. Приезд Матвея Ивановича в Обуховку был для меня всегда истинно праздником. Он обыкновенно привозил мне читать что-нибудь интересное, в беседах с ним пролетали незаметно часы, и приятные минуты, проведенные с ним в нашем уединении, сохранятся всегда в памяти моей.
С Сергеем Ивановичем приезжал иногда к нам и друг его, Бестужев-Рюмин, образованный молодой человек с пылкою душою, но с головой до того экзальтированною, что иногда он казался нам даже странным и непонятным в своих мечтах и предположениях. Дружба его с Сергеем Ивановичем была истинно примерная, за него он готов был броситься в огонь и воду; но впоследствии время доказало, что дружба эта была вредна как для одного, так и для другого и, можно сказать, довела обоих до гибели.
Меньшой брат Муравьевых, Ипполит Иванович Муравьев-Апостол8, воспитывавшийся в Одесском лицее и только что определившийся в то время в Петербурге в гвардию, узнав об участи брата своего, Сергея Ивановича, в 1825 году, немедленно поскакал к нему в Бобруйск, чтобы разделить с ним его участь, и пожертвовал, так сказать, братской любви жизнью своею, будучи убит в известном сражении под Васильковом.
Я забыла сказать, что в 1823 году судьба старшего брата моего, Семена9, решилась: он предложил свою ру-
[334]
ку младшей дочери Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, Елене Ивановне, и, получив общее согласие, был в совершенном восторге, ибо находил в будущей спутнице жизни своей все, чего желал и что составляет семейное счастие; хотя она не была красавицей, как старшие сестры ее, но душа ее была прекрасна, и она впоследствии оправдала в полной мере общее мнение о себе,– была отличной матерью, доброй женой и истинно добродетельной женщиной.
Выбор брата не мог нас не радовать, хотя отец этого семейства и был, как я выше сказала, честолюбив, страшно несправедлив к детям первой жены своей, хотя собственные либеральные идеи его имели пагубное влияние на сыновей. Но для нас он был очень хорош, был искренно привязан ко всему нашему семейству, и мы были истинно рады породниться с ним.
Но радость наша не была продолжительна; в конце того же года милосердному богу угодно было поразить нас жестоким ударом – смертью доброго, несравненного отца нашего! Одно воспоминание об этом ужасном времени стесняет душу мою и как бы затмевает рассудок мой.
В начале года и в продолжение лета отец мой был совершенно здоров.
Жизнь наша по-прежнему текла приятно и покойно; отец в это время занимался постройкой нового дома, которая подходила уже к окончанию, и вырубкой аллеи, которая шла от семейного кладбища прямо вниз к реке. Эта мысль его была для нас непонятна. Мы жалели деревья, которые он для этого рубил без пощады, и совершенно не понимали, для чего он, который не мог терпеть никогда прямых аллей, вздумал прорубить эту аллею, и впоследствии только увидели, к чему она послужила, и что он делал это, быть может, по какому-то тайному предчувствию. Но мы были в то время совершенно счастливы и покойны и не ожидали, что страшное несчастие грозило нам…
17 сентября того же года, в день моих именин, отец мой до того был здоров и весел, что участвовал в играх наших и даже, как теперь помню, танцевал со мной экосез10, а 28 октября он не существовал уже более11…
В половине октября отцу надо было ехать в Манжелею к Петру Николаевичу, чтобы дать ему некоторые советы насчет его раздела имения с сестрой Софией Николаевной12 после смерти их отца.
[335]
Я и сестра Надежда Николаевна13, которая проживала в то время у нас, отправились вместе с ним. Мы приехали туда благополучно, и отец был совершенно здоров; но, проживя там несколько времени в довольно сырых и холодных комнатах, он простудился; у него сделался сильный насморк, но он не обращал на это никакого внимания, остался там еще несколько дней, потом спешил ехать, чтобы проездом заехать к Д. П. Трощинскому к 8 октября, ко дню освящения его домовой церкви.
Дорогой отцу стало хуже, нос у него покраснел, и на нем сделалась опухоль; он беспрестанно закрывался от воздуха, ему казалось, что со всех сторон кареты дует; мы с сестрой закладывали окна и все щели, чем только могли, но он чувствовал все какой-то холод.
Когда он приехал в Кибинцы, то у него оказалась рожа на лице; он лег в постель и начал лечение. Через неделю рожа совсем сошла, и он, полагая, что скоро будет совершенно здоров, послал меня в Обуховку, чтобы уговорить мать приехать к 26-му числу, к именинам Трощинского, в Кибинцы, и привезти с собой двух сирот, внучек его, проживавших у нас, для того чтобы их повеселить во время этого праздника.
У меня и теперь сохраняется та записка, в которой он своеручно написал тогда, чтобы привезти ему к этому дню мундир, шпагу, шляпу и проч.,– так далек он был от мысли, что вскоре жестокая смерть сразит его…
В это самое время заехала в Кибинцы моя сестра с мужем, едучи из Крыма, от дяди Петра Васильевича14. Отцу моему было уже лучше, рожа с лица совсем сошла; ему следовало бы еще оставаться в своей комнате, но, обрадовавшись прибытию дочери, которая приехала только на несколько часов, он вышел обедать с ними вместе в довольно холодную залу и тут-то, к несчастию, опять простудился.
Между тем я все собиралась в Кибинцы с моими племянницами, но мать моя, будучи слабого здоровья, не могла ехать; в то самое время, когда все было готово к отъезду, приехал нарочный от Муравьева-Апостола с известием, что отцу нашему стало хуже и чтобы мы как можно скорее спешили ехать к нему. Мы тотчас же с братом Семеном отправились, по дороге заехав к Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу, где и невеста брата Семена, и все семейство ее встретили нас с грустными лицами, говоря, что нам надо спешить ехать,
[336]
что отцу нашему очень худо и что их доктор поехал туда на консилиум.
Приехав и войдя в комнату отца моего, я почти не узнала его – так он изменился! Доктора, коих было там четыре, сказали мне, что он, вышед из своей комнаты слишком рано после болезни своей, простудился вновь, вследствие чего у него сделалось воспаление в левом боку и сильная нервная горячка. Мы застали его в безнадежном положении. Он иногда узнавал нас, но более был в беспамятстве. К брату Алексею в Киев немедленно послали эстафету. Он приехал, но отец уже не узнал его.
Брат Иван15 был в то время в нашем имении в Екатеринославской губернии, и – странная вещь – именно в день кончины нашего отца, 28 октября, он видел его во сне умирающим. Сон этот его сильно встревожил, он немедленно выехал, скакал день и ночь, но уже не застал его в живых, приехав после похорон.
К Трощинскому между тем начали съезжаться гости со всех сторон к 26-му числу. Он, конечно, на этот раз не радовался их приезду, но делать было нечего, к празднику все готовилось по-прежнему.
Ночь 25-го числа была для нас страшная. Отец находился в безнадежном положении, и мы не видели средств спасти его, ибо доктора терялись, несколько дней почти не давая лекарств.
Мы в молчаливом отчаянии окружали его. Он иногда приходил в себя, начинал говорить и опять впадал в беспамятство. Я решилась наконец идти сама ночью к медикам, чтобы заставить их действовать.
В минуту прихода моего был у них консилиум; говоря при мне на латинском языке, они решали, что ему дать. Во все время болезни он принимал лекарства только от меня. И теперь я с трепетом подошла к его постели, чтобы попросить принять лекарство.
Он быстро посмотрел на меня, тихо проговорив: «Знаешь ли ты, что даешь?» Вероятно, он узнал по запаху, что это был мускус. Я отвечала, что знаю, и он принял лекарство. Ему стало как бы лучше; он велел себя приподнять и, подозвав нас к себе, обратился к брату Алексею, сказав: «Назови мне по именам всех тех, которые после меня остаются».
И когда брат назвал всех, он сказал: «Хорошо, прощайте, я умираю». Потом, немного погодя, прибавил: «Но это ничего! Старайтесь забыть меня первое вре-
[337]
мя»,– и еще раз повторил: «Да, говорю, первое время!» Потом опять впал в беспамятство.
Описать, что происходило в душах наших, невозможно! Страшно, страшно не только писать, но и подумать об этом!
26-го утром ему было лучше, он вспомнил, что это был день именин Трощинского, подозвал меня, велел наряднее одеться и пойти поздравить старика. Потом опять впал в беспамятство, которое и продолжалось почти сутки. Мускус все еще ему давали, но он принимал уже его без всякого сознания.
28-го утром, в страшный день кончины его, ему стало так хорошо, что мы с сестрой Надеждой Николаевной были в восторге и не переставали благодарить бога за милость его к нам. Но как же поражены мы были в минуту спокойствия нашего, когда вдруг отворилась дверь, вошел племянник Трощинского и за ним вслед священник с чашею в руках; у меня закружилась голова, потемнело в глазах, и я не помню уже, кто и как оттащил меня в верхние покои.
После причастия, говорили мне, ему сделалось опять лучше, он начал смотреть во все стороны и, наконец, спросил: «Где Соня?» Меня позвали; я с ужасом подошла к его кровати и, чтобы он не заметил моих заплаканных глаз, поспешила стать у него в голове, но он, увидя меня, сделал знак рукою, чтобы я стала против него. Я перешла, и он, не говоря ни слова, с минуту посмотрев на меня пристально, опять закрыл глаза и как бы задремал.
Через несколько минут он очнулся и, увидя сидящего доктора подле себя, которого очень любил (это был домашний доктор Муравьева-Апостола), крепко схватил его за руку и сказал: «Cher ami, m-r Lan»*. Потом через минуту с глубоким чувством проговорил: «Pauvre m-r Lan, dans une pays étranger et siz enfants» **.
Доктор залился слезами, тронутый до глубины души этими словами, свидетельствовавшими в предсмертную минуту о любви, живом участии и сострадании к ближнему. Растроганный доктор поспешил выбежать из комнаты.
Когда подошел к нему Д. П. Трощинский, вероятно, чтобы проститься, он схватил его руку, громко и с чув-
* Дорогой друг, месье Лан (фр.).
** Бедный месье Лан, в чужой стране и шестеро детей (фр.).
[338]
ством начав благодарить его за постоянную дружбу. Это были его последние слова, голос его задрожал, он склонил голову на подушку и, казалось, в изнеможении уснул. Тогда братья, уверив меня, что ему лучше и что надо дать ему покой, отвели меня наверх и, уложив в постель, просили, чтобы я, если можно, хотя немного отдохнула.
В совершенном изнеможении я крепко заснула.
Через несколько времени брат Алексей вошел ко мне. Пробудясь внезапно, я спросила, что с папа. Он молчал; я еще спрашиваю; он продолжал молчать. Тогда страшная мысль о смерти поразила меня…
Что было дальше, я не знаю; добрые хозяева не пускали меня ни на шаг от себя, доктора, чтобы меня успокоить и заставить уснуть, дали мне на ночь опиума и очень дурно сделали, ибо средство это, вместо того чтобы успокоить, привело меня в такое раздражение, что я при усиленной дремоте, беспрестанно пробуждалась в исступлении и с каким-то ужасным чувством, которого не могу никогда забыть.
Вечером 28-го числа подвезли карету к крыльцу, чтобы ночью, уложив в нее тело покойного отца нашего, перевезти его в Обуховку. Мне после говорили, что брат Семен до того потерялся в ту минуту, как надо было отправлять драгоценный для нас прах отца, что, несмотря на мороз и на страшный холод, бегал, как безумный, с открытой головой вокруг экипажа до тех пор, пока Алексей, крикнув на него, не привел его в память.
На другой день мы уже были в Обуховке; встреча наша с матерью и старшей сестрой была ужасная; описать ее и трудно и тяжело. Чтобы сколько-нибудь сберечь и не тревожить бедную мать, тело покойного отца привезли прямо в любимый его павильон, что на берегу Псёла, и поставили гроб в той самой комнате, которую он так любил и в которой обыкновенно отдыхал в летние знойные дни.
Двое суток мы все, из сторонних – Сергей Иванович Муравьев и доктор Lan, которые любили и уважали его как самого близкого им человека, и толпа рыдавшего народа окружали гроб его, сделанный по его приказанию из досок любимого им береста. Когда надо было взнесть его на гору, к могиле, то другого средства не было, как пронесть именно по той аллее, которую он незадолго до смерти своей прорубил, как я выше говорила, от кладбища прямо к реке и по которой никто из
[339]
нас еще не проходил, ибо она была не кончена и на ней лежали местами срубленные ветви, целые деревья и корни их.
Тогда только мы увидели, для чего и, быть может, по предчувствию своему, он так старался провести эту аллею, несмотря на все затруднения.
Священный прах его похоронен на том самом месте, которое описал он в своих стихах, говоря об Обуховке, с следующей надгробной надписью, которую он приготовил для себя:
Горькое воспоминание о болезни и кончине незабвенного отца моего до того расстроило душу и мысли, что я долго-долго не в состоянии была писать и только теперь решаюсь взять перо и продолжать рассказ мой.
Можно легко представить себе, как изменилось все в Обуховке после смерти доброго и незабвенного отца моего! Какое уныние и какая мрачность окружили нас всюду!
Мать моя была неутешна, припадки болезни ее усилились, и, чтобы ее сколько-нибудь развлечь и успокоить, надо было, стесня душу, принимать иногда на себя вид и спокойный, и веселый. С минуты несчастия нашего вся жизнь моя была ей посвящена, я не оставляла ее ни на минуту, спала в ее комнате и страдала всегда душой, видя бессонные ее ночи. Для меня она иногда тушила свечу и, полагая, что я сплю, опять зажигала ее, вставала с постели, ходила в беспокойстве по комнате, молилась или читала Евангелие. Таким образом влачила она тяжкую жизнь свою не только первое время после смерти отца моего, но девять тяжких лет. В продолжение этого времени она постоянно читала любимые проповеди ее св. Августина и не только читала их, но имела терпение переписать эту книгу собственноручно пять раз в память каждому из нас. Особенно часто говорила она с таким восторгом, с таким восхищением о смерти и будущей жизни, в таких чудных видах представляла нам ее и так одушевлялась в ту минуту, что я смотрела на нее, истинно как на святую, благоговела перед ней, дивилась и завидовала ее чистым, святым убеждениям.
[340]
С наступлением весны Обуховка наша опять оживилась. С блеском и теплом солнца ручьи с гор потекли, река быстро выступила из берегов своих и зеркалом покрыла опять на несколько верст луга свои. В короткое время показалась везде свежая зелень, цветы зацвели, жаворонки и соловьи запели, но вместо прежней радости вдыхали какую-то тяжкую, безотрадную грусть в душу мою,– мне казалось, что с чувствами моими должно бы и все измениться в природе, и я невольно пеняла ей за ее постоянство!
Одно утешение осталось для меня – заниматься музыкой, и играть любимые пьесы доброго отца моего, и ходить иногда при лунном свете на его могилу, молиться там и вспоминать беседы наши с ним.
В 1824 году старший брат мой приехал к нам с молодой женой своей из Москвы (я, кажется, писала, что он женился на дочери Муравьева-Апостола). Присутствие их оживило несколько добрую мать нашу и наше уединение. Частые приезды сестры, невестки нашей, А. И. Хрущевой, и умных и образованных братьев ее, Матвея Ивановича и Сергея Ивановича, о коих я писала выше, были истинно целебным бальзамом для скорбных душ наших.
В особенности беседы и суждения последнего были так умны, так ясны, нравственны и увлекательны, что оставляли после всегда самые приятные и полезные впечатления. Я всякий почти раз, пришед к себе, записывала их в мою памятную книгу, которую, к большому сожалению, по некоторым обстоятельствам в 1824 году должна была сжечь.
Я забыла сказать, что после смерти отца нашего брат Иван не оставлял уже нас и взял на себя труд управления всей экономией, тогда же мать моя поручила мне все домашнее хозяйство, вначале это казалось мне несколько трудно, но впоследствии я свыклась и душевно радовалась, что могла чем-либо быть полезной семейству нашему.
В начале ноября 1824 года нас обрадовал нечаянным приездом Николай Иванович Лорер16. Он был все тот же милый, веселый и разговорчивый, но нельзя было не заметить, что его проникала в то время какая-то таинственная мысль, которую, казалось, ему было тяжело скрывать от меня, друга его детства. Он был озабочен, говорил, что у него есть некоторые поручения от полко-
[341]
вого командира, Пестеля, к Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу.
Вынимая при мне письма и бумаги из своего портфеля, он показал мне разные переписанные им конституции. Взяв в руки письмо Пестеля, я невольно обратила внимание на печать, где изображен был улей пчел с надписью: «Nous travaillons pour la même cause»*.
Я спросила у него, что это за печать. Он улыбнулся и сказал: «Это теперь общий наш девиз».
Все это казалось подозрительно, и я без всякой особенной мысли пеняла Николаю Ивановичу за его неосторожность и легкомыслие, как бы предчувствуя несчастие, ожидающее его в будущем.
Съездив к Муравьеву-Апостолу и проживя у нас еще несколько дней, он с каким-то особенно грустным чувством простился с нами, как бы на долгую-долгую разлуку. По отъезде его я нашла на столе моем написанные его рукой следующие стихи:
Предчувствие его не обмануло: через год он был со слан в Сибирь на двадцатипятилетнее заточение. Но об этом горестном происшествии буду говорить после.
Свидания наши с семейством Д. П. Трощинского продолжались; по обыкновению к Троицыну дню17 они приезжали к нам, все устраивалось по-прежнему: те же прогулки по окрестностям, те же катания по воде, но все чего-то недоставало, все было как-то натянуто, тяжело, грустно; все видели, что недостает души общества – незабвенного, доброго отца моего. Каждый, в свою очередь, с горем вспоминал о нем.
* Мы работаем для одной цели (фр.).
[342]
В ноябре 1825 года мы отправились, не помню к какому празднику, к Д. П. Трощинскому. Съезд был большой, обед великолепный, все готовились веселиться вечером. Музыка загремела; старик по обыкновению открыл бал польским. Все пустились в танцы. В числе молодых людей были там Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы и друг их Бестужев-Рюмин.
Все трое собирались к нам на несколько дней в Обуховку к 26 ноября, ко дню рождения матери нашей, и именно в ту минуту, как они говорили мне об этом их намерении, дверь кабинета Трощинского растворилась, старик вышел в залу с каким-то тревожным, таинственным видом и тихо объявил некоторым особам известие о внезапной смерти государя Александра I.
Музыка утихла; все замолкло. Потом начался всеобщий говор, разные толки: отчего он умер? Что за болезнь? Кто сожалел, кто радовался.
Но трудно описать положение братьев Муравьевых и Бестужева-Рюмина при этом известии, они как бы сошли с ума, не говорили ни слова, но страшное отчаяние было на их лицах, они в смущении ходили из угла в угол по комнате, говоря шепотом между собой; казалось, не знали, что делать. Бестужев-Рюмин, более всех встревоженный, рыдал, как ребенок, подходил ко всем нам и прощался с нами как бы навеки.
В таком положении все разошлись по своим комнатам, и только утром мы узнали, что в эту ночь Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин поспешно уехали, но неизвестно куда.
В непродолжительном времени мы поражены были известием, что братья нашей невестки Елены Ивановны, Матвей и Сергей Ивановичи Муравьевы-Апостолы, были схвачены и в цепях отправлены в Петропавловскую крепость, вследствие возмущения целого полка, батальоном которого командовал Сергей Иванович, и вследствие известного сражения под Васильковом, на котором пал жертвой братской любви и самоотвержения младший брат их Ипполит.
Итак, бедная невестка наша потеряла разом трех братьев своих.
О, как тяжело, как горько было нам ее видеть, страдать вместе с нею! Но этого испытания, верно, мало было для нас…
Младший мой брат, Алексей, служивший адъютантом у Н. Н. Раевского, получив впоследствии батальон
[343]
в одном из армейских полков, и стоявший в то время со своим батальоном в Глухове, приехал к нам в 1825 году, накануне 1826 года. Но на этот раз против обыкновения он был задумчив и мрачен. Его думы меня сильно беспокоили; я несколько раз спрашивала о причине его тоски, но он скрытничал и, прожив у нас самое короткое время, поспешил в Киев к генералу Раевскому, который любил его, как сына, и принимал всегда живое участие во всем, что до него касалось. Вскоре после его отъезда я узнала от одного молодого человека, Менгеса, жившего у нас, что ночью приезжал чиновник от генерал-губернатора, князя Репнина, отыскивать с жандармами брата Алексея со строгим, однако ж, приказанием не тревожить нашу мать, исполнив поручение как можно тише и осторожнее.
Не нашед его в доме и напугав страшно Менгеса, который в страхе, на вопрос их: кто он? – старался произнести фамилию свою сквозь зубы так, чтобы они никак ее не поняли; они отправились обратно, а мы, с ужасом узнав об этом утром на другой день, старались всячески скрыть от матери это страшное происшествие. Легко представить, с каким ужасом ожидали мы вследствие этого вестей от брата Алексея! Вскоре дошла до нас роковая весть, что 14 января он был взят в Киеве и отправлен в Петербург.
Как описать, что происходило тогда в душах наших? Мысль, что он, как преступник, отправлен, быть может, в цепях пешком и с куском ржаного хлеба в руках, не давала мне покоя ни день, ни ночь. К тому еще надо было скрывать это несчастие от матери нашей, которая, будучи в преклонных летах, болезненна и слаба, конечно, не могла бы перенести этого удара. Она нежно любила брата Алексея и беспрестанно спрашивала, где он и что значит, что она не имеет от него никакого известия. Мы иногда не знали, что ей отвечать и чем ее успокоить, к тому еще вид несчастной невестки нашей, Елены Ивановны, потерявшей в одно время трех любящих ее братьев, раздирал душу мою. Часто, сидя за обедом и вспомнив, что несчастный брат мой, быть может, нуждается в куске хлеба, я не могла ничего есть, слезы катились у меня градом, и, когда нежная и добрая мать спрашивала меня, отчего я плачу, я только и отговаривалась тем, что не могу равнодушно смотреть на бедную сестру Елену Ивановну, которой несчастие, истинно, было ни с чем не сравнимо.
[344]
Мы узнали, что брат, к счастью, был отправлен не пешком и не в цепях, но с фельдъегерем и в сопровождении знакомого и приятеля, Егора Петровича Врангеля18, бывшего в то время адъютантом у генерала Красовского19. Этот добрый человек, вовсе не зная нас, единственно из дружбы к несчастному Алексею, а еще более из сострадания, писал к нам о нем с дороги и из Петербурга.
Чрез несколько времени к нам возвратился из Петербурга слуга брата Алексея, служивший ему несколько лет, столь любивший его и привязанный к нему, что от душевной тревоги в это несчастное происшествие он в одни сутки совершенно поседел. О, как тяжело нам было видеть этого доброго человека! Сколько горечи, сколько отчаяния было в его рассказах! Хотя он был уволен от всех работ, награжден нашей матерью как нельзя больше, но недолго жил и вскорости умер,
Обуховка сделалась для нас каким-то мрачным и горестным жилищем. В эту страшную эпоху все как бы чуждались нас, никто нас не навещал, вероятно, чтобы не навлечь на себя подозрения.
Все знали, что брат Алексей был взят, что Елена Ивановна разом лишилась троих братьев и что мой старший брат Семен как зять Муравьева-Апостола был под тайным присмотром полиции. Немудрено, что все близкие нам люди и добрые знакомые страшились, посещая нас, себя компрометировать.
Брату было позволено из крепости писать к нам, конечно, открытые письма и получать от нас такие же. Из писем его мы могли видеть только, что он жив. Но и за это мы благодарили бога.
Мать наша наконец до того начала тревожиться неизвестностью о нем (нужно заметить, что ей не говорили об аресте Алексея), что все более стала слабеть и падать духом; часто, не веря уже нам, с горечью опрашивала любимую собаку: «Орест, скажи хоть ты мне, где твой барин?»
Вцдя ее страдания и опасаясь за ее жизнь, мы решились просить несчастного брата, чтобы он для утешения своей матери испросил позволения написать к ней письмо из крепости, как из города Глухова, где стоял его полк; ему позволили, и он написал длинное и самое веселое письмо, совершенно успокоившее мать.
Надо было видеть, с каким восторгом говорила она и нам и всем сторонним, что наконец она получила
[345]
письмо от своего Алеши. Он же напутал в нем всего, говоря, что он не писал долго оттого, что занят был ученьями, смотрами, что провожал тело императора Александра I и тому подобное. Она всему этому поверила и, к большой радости нашей, совершенно успокоилась.
Но нам не легче было, и тем еще более, что брат Иван, живший в то время с нами в Обуховке, возвратясь из Полтавы, куда ездил по своим делам, сказал по секрету, что, быть может, и он будет взят, ибо князь Репнин, показав ему зашнурованную уже переписку братьев Муравьевых, найденную в деревне их Хомутце, указал в ней то место, где они, говоря о брате Иване, назначали его в случае удачи своего дела членом временного правления.
Поэтому князь Репнин и предупреждал брата Ивана, что и его, может быть, потребуют в Петербург. Это не слишком тревожило брата как человека, вовсе не причастного к тайному обществу и никогда не имевшего с его членами никаких сношений; он просил только нас, чтобы мы не тревожились, если это случится, и берегли нашу мать.
Известие это нас страшно поразило и прибавило горечи к горькому уже и без того нашему положению. Как часто, проснувшись утром и спрашивая у людей, где брат Иван, я верить не хотела, когда мне говорили, что он уехал на охоту, полагая, что от меня скрывают и что он, конечно, уже взят и отправлен в Петербург. В таком тревожном расположении духа тяжело и горько было показывать иногда спокойный и веселый вид в присутствии бедной матери нашей. Как часто в это тяжкое для нас время мы радовались, что отца нашего, которого смерть мы так сильно оплакивали, не было уже с нами и что он избавился от тяжкого испытания, которое перенесли мы в течение этих трех месяцев.
14 апреля 1826 года мы были обрадованы известием, что брат Алексей наконец оправдан20, освобожден и что вскоре возвратится. В конце месяца разбудили меня рано утром известием, что он приехал, и когда я спросила, где он, то мне сказали, что он, встав из экипажа, побежал на могилу отца нашего. Я без памяти, надев один только чулок, башмаки и пудермантель21, полетела к нему, и тут же на могиле отца совершилась радостное свидание после тяжкой разлуки и горького трехмесячного заключения.
[346]
Как описать радость матери, ее страх, ужас и слезы при известии, что он был в Петропавловской крепости в числе государственных преступников. Подобной сцены я в жизни моей, конечно, никогда не встречу. Мать и плакала и смеялась в одно время, повторяя всем и каждому: «Вообразите, Алеша был в крепости»,– крепко прижимая его при этом к своему сердцу.
Когда все утихло и все успокоились, он, по нашему желанию, рассказал нам следующую историю своего заточения.
Будучи взят 14 января 1826 года в Киеве, из дома генерала Раевского, он через несколько дней был привезен в Петербург на главную гауптвахту. Здесь было уже так много привезенных, что все комнаты были заняты, и его ввели в большую залу, где он встретил многих знакомых, также привезенных. Когда они начали было разговаривать, бывший комендант дворца Башуцкий22, потеряв совсем голову, страшась ответственности за сношения между ними, не зная, что делать, в страхе и суете ставил с поспешностью между одними стол, между другими диван, приговаривая: «Между вами нет никакого сообщения!»
При этой сцене, говорил брат, он не помнит, чтобы когда-нибудь в жизни столько смеялся. Через сутки его с жандармами перевезли на придворную гауптвахту, где просидел он больше трех дней, под стражею солдат с обнаженным оружием. Тут хотя хорошо кормили, но не давали ему ни ножей, ни вилок. На четвертый день, посадив его в сани с теми же вооруженными солдатами, быстро повезли его через Неву в Петропавловскую крепость.
Тут у него сердце сжалось. Он явился к коменданту, который повел его по серым и мрачным коридорам казематов, то спускаясь вниз, то подымаясь наверх. Наконец, поднявшись выше, комендант остановился у двери одного каземата и, отомкнув со скрипом замок, ввел брата в довольно большую комнату, с двумя забеленными и под железной решеткой окнами на Неву и, указав на печь, сказал: «Вот вам и печь». Брат подумал: что за радость ты мне сулишь? «Кажется, вам будет хорошо,– продолжал он,– вы можете, когда захотите, звать к себе сторожа». Сказав это, он раскланялся и ушел.
Сначала, оставшись один, он ходил, как безумный, скорыми шагами по пустой комнате, где, кроме бедной
[347]
соломенной постели, стола и стула, ничего не было; у него при входе в каземат отобран и чемодан, и все его вещи.
В отчаянии и в тоске он звал несколько раз в течение дня часового, единственно только затем, чтобы видеть, что дверь отворяется и что к нему входит живое существо. Обедать ему давали щи, кашу, кусок жаркого и рюмку простой водки. От скуки он вымерил шагами каземат и ходил в нем всякий день по семь верст.
Печь ему служила тоже большим развлечением; он сушил сырые дрова, потом сам топил ее, тогда только поняв выражение коменданта о печи и мысленно благодаря его за нее. Целые часы сидел он перед огнем, размышляя о всем, что с ним случилось, о матери своей, о нас всех и о горьком своем положении.
Хотя в душе он был уверен в своей невинности, но по ходу дела не мог угадать, чем оно кончится. Впоследствии он узнал, что при допросах Матвей Муравьев-Апостол наделал ему много вреда, что, напротив, Сергей Муравьев-Апостол совершенно его оправдал и что, быть может, ему он обязан своим освобождением.
Сколько тяжких бессонных ночей проводил он в своем заточении! Как страшился, чтобы в ответах своих на заданные ему комиссией письменные вопросы не замешать и не повредить кому-либо! В самые затруднительные минуты он, не зная, что сказать, и не полагаясь на себя, прибегал всегда к Евангелию и, открыв его, писал свои ответы, почти всегда с большой удачей.
Сколько раз в самые тягостные и затруднительные минуты, засыпая от утомления, он бывал разбужен утешительными словами отца, коего голос слышался ему и по пробуждении, и как благословлял он его в эти сладостные минуты!
Вскоре после заключения он просил письменно тетку свою, Дарью Алексеевну Державину23, прислать ему Библию, что она и исполнила; и он в продолжение трех месяцев прочел ее трижды от доски до доски. Потом он просил ее же прислать ему трубку и табаку, что она и пополнила, испросив на это позволения. Тогда и заточение казалось ему легче.
Во время похорон императора Александра I, когда тело перевозили через Неву в Петропавловский собор24, от пушечного выстрела в каземате брата разбились стекла, чему, натурально, он очень обрадовался, ибо мог видеть всю церемонию похорон.
[348]
Обыкновенно, не спав целую ночь от разных дум и душевных тревог, он крепко засыпал утром; его будил всегда несносный голос сторожа, стучавшего в дверь и спрашивавшего, здоров ли он, т. е. жив ли он.
Натурально, что он, с досады, отправлял его всегда к черту.
Таким образом он просидел три месяца в разных казематах, ибо его переводили из одного в другой, что мы видели из его писем.
В конце третьего месяца дела запутались: отвечать на запросы день ото дня становилось труднее, и он начинал страшиться за свою будущность, как вдруг в ночь 14 апреля к нему явился часовой с приказом идти к коменданту. Это его встревожило, он был уверен, что его засадят еще куда подальше, и потому не совсем равнодушно явился к коменданту.
Каково же было его удивление и вместе с тем радость, когда комендант сказал ему: «Капнист, поздравляю тебя, ты свободен!»
Брат говорил, что нельзя объяснить, что происходило в его душе. Сначала он не хотел верить, но, когда комендант повторил ему радостную весть, он бросился бежать из крепости, несмотря на то, что это было в 12 часов ночи и что комендант предлагал ему переночевать у себя.
Он ничего не хотел слушать, прибежал к Неве, сел в лодку и не хотел верить, что он точно свободен и может ехать, куда хочет. Переехав реку, он спешил в дом к тетке своей, Державиной; пройдя несколько пустых комнат, он остановился у дверей маленького кабинета, где она сидела; увидав его, она испугалась и закричала: «Алеша, это ты?» Он, будучи всегда веселого характера и любя пошутить, и тут не мог удержаться и поспешно отвечал ей: «Тетенька, я бежал». Она в первую минуту испугалась, но потом несказанно обрадовалась, от души благодаря бога за его освобождение.
Через два дня он должен был явиться к государю Николаю Павловичу, и тот, увидев его, весьма хладнокровно спросил: «Что, Капнист, не правда ли, что здесь лучше, чем там?»
Холодный вопрос этот доказывает одну жестокость души его. Ибо, знавши, что он оправдан, что невинно страдал три месяца в заточении, что этим самым заставил страдать всех близких его сердцу и рисковал
[349]
жизнию нежно любившей его матери, он мог бы, смягчив сердце свое, оказать ему что-нибудь более утешительное.
Таким же образом были взяты и оправданы сыновья генерала Раевского, да и сколько было невинно пострадавших и пожертвовавших или своею жизнью, или жизнью близких сердцу их в эту ужасную эпоху!
Не стану говорить об ужасном положении семейства Муравьева-Апостола. Всякий легко может понять его. Кому неизвестна страшная участь, постигшая несчастных декабристов! Чья душа не содрогнулась от негодования при известии о кончине некоторых из них! И как описать, что происходило в семействе нашем в течение почти целого года, в какой страшной неизвестности находилась бедная невестка наша об участи несчастных братьев своих, сколько пролитых слез, сколько томления!..
Не зная совершенно, чем кончится несчастная история эта, именно в день смерти несчастного Сергея Ивановича, рано утром, я видела во сне, что стою у какой-то балюстрады, держась обеими руками за нее, и внезапно проснулась от прикосновения к ним двух холодных мертвых рук его. Этот странный сон так поразил меня, что долго я была в нервной лихорадке, с судорогами в руках, но сна моего никому не сказала, записав только час и число, которое и было роковым числом его страдальческой смерти.
Долго бедная Елена Ивановна не знала о настоящей смерти несчастного брата своего Сергея Ивановича и только в одном обществе нечаянно услышала роковое слово: «Повешен!» Пораженная ужасом, она упала без чувств, и ее долго не могли привести в память.
Спустя несколько времени после смерти брата она получила письмо от своей сестры, Е. И. Бибиковой25, которая писала, что, с соизволения государя, она была у несчастного брата накануне его смерти; он знал уже, что его ожидало, и, несмотря на это, был совершенно готов на все, и показал в последнее свидание с ней столько твердости, столько религии и столько самоотвержения, что не только не нуждался в утешении, но сам поселил в ней твердость для перенесения этого несчастия.
Духовник его тоже был поражен твердостию его характера; когда он пришел к нему для того, чтобы приготовить его к смерти, С. И. в ту минуту писал послед-
[350]
нее письмо свое к старшему брату своему, Матвею Ивановичу.
Увидя священника, он с спокойным видом просил его сесть и с твердостию духа продолжал оканчивать письмо свое.
Этот священник говорил после, что во всю жизнь не встречал человека, с такими возвышенными религиозными чувствами и с такой твердостию духа ожидающего минуты смерти своей. Тут же Екатерина Ивановна описывала и трогательную сцену последнего свидания и прощания отца с несчастными сыновьями; получив повеление выехать за границу, он тогда же испросил позволения увидеть сыновей своих и проститься с ними.
С ужасом ожидал он их прихода в присутственной зале; Матвей Иванович, первый явившись к нему, выбритый и прилично одетый, бросился со слезами обнимать его; не будучи в числе первых преступников и надеясь на милость царя, он старался утешить отца надеждой скорого свидания. Но когда явился любимец отца, несчастный Сергей Иванович, обросший бородой, в изношенном и изорванном платье, старику сделалось дурно, он, весь дрожащий, подошел к нему и, обнимая его, с отчаянием сказал: «В каком ужасном положении я тебя вижу! Зачем ты, как брат твой, не написал, чтобы прислать тебе все, что нужно?»
Он с свойственной ему твердостию духа отвечал, указывая на свое изношенное платье: «Mon père, cela me suffira!», т. е., что «для жизни моей этого достаточно будет!» Неизвестно, чем и как кончилась эта тяжкая и горестная сцена прощания навеки отца в преклонных летах с сыновьями, которых он нежно любил и достоинствами коих так справедливо гордился! <…>
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ПОДЖИО
(1798–1873)
Итальянец по происхождению, Александр Поджио всю жизнь провел в России, изведав и тюрьму, и ссылку, и нищету. Но когда на старости лет попал во Флоренцию, то написал: «Что за роскошь, что за рай! И мечтал ли я, что когда-нибудь увижу все это собственными глазами? Но не думайте, любезный друг, что я желал бы здесь закрыть навеки мои глаза и быть похороненным в этой чудной и живописной могиле; нет, я желал бы умереть в России и там остановить мои кости…»
В последней четверти XVIII в. когда Европа приближалась к революционным бурям, отец будущих декабристов, братьев Иосифа и Александра Поджио, был владельцем небольшого имения в верхней Италии и жил безбедно. Приятель-легитимист, спасавшийся от кары революционеров, сманил Виктора Поджио в Россию, где они присоединились к первым устроителям славного города Одессы – герцогу (дюку) Ришелье, де Рибасу, Ланжерону. Роль Поджио-старшего, впрочем, была скромной: подлекарь в Одессе, лекарь в Херсоне, потом штаб-лекарь, потом секунд-майор. Этого было достаточно не только для того, чтобы выстроить дом в Одессе, но и завести имение в Чигиринском повете Киевской губернии – 398 душ. Оба сына родились в России. Между прочим, в одесском доме Поджио не раз останавливался А. В. Суворов, в семье даже создался своего рода культ русского полководца. Старший сын (1792 г. р.) отправлен был в учение в Петербург, младший, о котором рассказываем, долгое время оставался при матери. Затем, вслед за братом, вступил портупей-прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк и к 1816 г. стал прапорщиком. С 1819 г., как говорил он, начался «мой
[352]
ропот», с 1820 г.– вольнодумство. Последняя временная граница определялась сближением с «заговорщиками».
Итальянцу Поджио, несмотря на все его «обрусение», небезразличны были революционные события на родине отцов (Неаполь, Пьемонт). Да и внутренние дела России, где разрушалась торговля и промышленность, вводились бессмысленные и жестокие военные поселения, волновали его. Больно ударил отказ Александра I прийти на помощь грекам. Поджио писал: «Довольно известно всегдашнее покровительство правительства нашего к единоверцам нашим, угнетенным грекам. Со времени Екатерины II сие покровительство не прерывалось по 1820 год…»
Братья Поджио, отличавшиеся красотой, изяществом манер, рыцарским благородством, южной живостью характера, вскоре стали желанными гостями в любом петербургском обществе, где обсуждались жгучие вопросы века. Много было там говорено о свободе, о переменах в государственном устройстве, да и о личности монарха, конечно.
Иосиф Поджио, правда, скоро женился, отдался семейным хлопотам. Александр перешел из гвардии в армию – в Днепропетровский (? – Д.Т.) пехотный полк. Там он, так оказать, уже формально стал членом Южного общества. В его лице Общество приобрело «пламенного члена, неукротимого в словах и суждениях». Эта оценка вполне точна, хотя и принадлежит делопроизводителю следственной комиссии А. Д. Боровкову. Страстная натура Поджио порой уводила его мысль «в сторону»: то он собрался за границу – даже паспорт в Америку выправил,– то решил выйти в отставку (и осуществил это намерение, достигнув чина подполковника), то готов был по согласованию с Пестелем готовить цареубийство, но во всех колебаниях он оставался предан идеям свободы и товарищам по Обществу. Свидетельством тому – сохранившиеся сведения о его долгом двухдневном разговоре с Пестелем о формах будущего правления в России, о предпочтительности республики перед конституционной монархией, о готовности к цареубийству. Известно также, что Пестель читал ему отрывки «Русской правды».
Поджио был членом Каменской управы Южного общества, ближайшим сотрудником Пестеля, сторонником самых крайних мер, обсуждавшихся в кругу декабристов. Не раз ездил он гонцом от «южан» к «северянам».
[353]
В 1823 г. привез Пестелю конверт с важными бумагами от Никиты Муравьева. Когда был арестован Пестель, Поджио предлагал силой освободить его, но не успел: после одного из совещаний в имении Н. Н. Раевского Грушевке Александра Викторовича арестовали. И начался его «крестный путь», этапами которого стали Петропавловская крепость в Петербурге, Кексгольм и Шлиссельбург, Чита, Петровский завод, поселение под Иркутском, а потом еще 17 лет скитаний по Руси в поисках хлеба насущного и житье за границей…
На следствии Поджио не только не пытался выгородить себя, но рассказывал все до мельчайших подробностей. При этом он, увы, называл многие имена, открывал намерения и поступки разных лиц. Не легче будет, если мы напомним, что так поступали многие декабристы. Причины разнообразны: вера в справедливость своего дела, за которое не жаль и на плаху пойти; искреннее заблуждение, будто правительству и так все известно и запирательство смысла не имеет; иезуитские методы следствия, когда Николай I и его помощники искусно стравливали арестованных между собою, добиваясь взаимных оговоров. Правда, по мнению исследователей декабризма, Александр Викторович играл со следствием «свою игру». Буквально на одной и той же странице протокола он называет предложения Пестеля «несбыточным бредом» и говорит, что этот человек «обольстил его своим умом и неопровержимыми доказательствами». То Поджио сознается в намерении совершить цареубийство и подробно обрисовывает все обстоятельства, с этим связанные, то, наоборот, утверждает, что замысел этот был несерьезен, о нем, мол, говорилось «шутя» и т. п. Как бы то ни было, показания Поджио и все его следственное дело дают богатейший материал для истории декабризма, для психологических портретов первых дворянских революционеров, для характеристики деятельности самой следственной комиссии.
Прямо надо оказать, что изобличающий Поджио материал, собранный следственной комиссией, оказался «богатым». В протоколе говорится: «При переговорах Южного общества с Северным обществом о принятии республиканской цели е истреблением царствующего до-
[354]
ма, не только сам одобрял сию меру, но передавал другим и говорил, что им должно начать приступ к действию. Он считал с Пестелем особ царской фамилии, обрекаемых на жертву. Он по арестовании Пестеля намеревался начать возмущение, письмом склонял к тому кн. Волконского и говорил с другими членами, предполагая напасть на Тульчин и арестовать первых лиц Главной квартиры 2-й армии, потом надумал отправиться к С. И. Муравьеву-Апостолу в надежде, что тот начнет действия. Собирался ехать в Ригу за союзниками и в Петербург для умерщвления государя-императора…»
Александр Викторович Поджио был отнесен к I разряду злоумышленников и приговорен к смертной казни отсечением головы. При утверждении приговора казнь была заменена 20 годами каторжных работ. 12 октября 1827 г. вместе с И. И. Пущиным и П. А. Мухановым Поджио был отправлен в Нерчинские рудники. Закованные в кандалы, сперва в телегах, потом в санях, они к середине декабря добрались до Иркутска. Дорога была необыкновенно тяжела для Поджио, но он ее стойко выдерживал и утешал других.
Те, кто видел Поджио после его выхода из тюрьмы на поселение в 1839 г., поражались его неординарной, сразу же останавливающей внимание внешностью. Вот одно из описаний: «Длинные черные волосы, падавшие густыми прядями на плечи, красивый лоб, черные выразительные глаза, орлиный нос, при среднем росте и изящной пропорциональности». Есть и другое: «Одежда его своеобразна, он носит длинные волосы наподобие наших священников; красивая черная борода и красивые усы подчеркивают его итальянскую физиономию, его костюм – русский полуказакин; все это составляет нечто необычайное и чудное и поражает вас, когда вы слышите его французский говор и любезности с дамами».
Однако вовсе не одна внешность привлекала к нему людей. Казалось, «теплолюбивый» итальянец мог бы возненавидеть холодную сибирскую пустыню, где лучшие годы правел в тюрьме и ссылке. Но нет! Напротив, он словно хотел согреть этот «рай неусыпными трудами и теплом души. В деревне Усть-Куда под Иркутском было у него огородное и полевое хозяйство на арендованных участках. Не только яблоки на сибирской земле (даже до поселения – у тюремной стены) выращивал, но и дыни, которые, как рассказывали, сделали бы
[355]
честь и петербургскому столу. Декабрист А. Е. Розен вспоминал: «Из различных пород овощей почти все были неизвестны за Байкалом; сажали и сеяли только капусту и лук. Товарищ наш А. В. Поджио первый возрастил в ограде нашего острога огурцы на простых грядках, а арбузы, дыни, спаржу и цветную капусту и кольраби в парниках, прислоненных к южной стене острога».
Там же, в Усть-Куде, выстроил он дом, где летом жил со своими учениками – сыновьями местного купца Белоголового. Зимою занятия русским языком, историей, географией продолжались в купеческом доме Белоголовых в Иркутске. Один из учеников, врач Н. А. Белоголовый, навсегда стал верным другом Поджио. Его воспоминания остаются важнейшим источником сведений об этом удивительном «итальянце в России». Многие годы спустя доктор Белоголовый писал о декабристах-поселенцах: «Они сделали меня человеком, своим вниманием разбудили во мне живую душу и приобщили ее к тем благам цивилизации, которые окрасили всю мою последующую жизнь. Более всех из них я обязан своим пробуждением Александру Викторовичу Поджио».
В 1851 г. Поджио женился на классной даме Иркутского девичьего института Ларисе Андреевне Смирновой – москвичке, которую необходимость заработать на хлеб насущный занесла далеко от родных мест. Была у них единственная, горячо любимая дочь Варенька. В последние годы ссылки Поджио увлекла работа на небольшом золотом прииске на речке Элихте в 3000 верстах от Иркутска. Некоторое время он надеялся на успех этого предприятия и вложил в него свой скромный капитал. Он увлеченно, с итальянской страстностью, как пишет Белоголовый, рассуждал о породах, шурфах и шлихах, но испытал полное разочарование: прииск постепенно разорял его. Однако он долго не терял надежды на успех и, не воспользовавшись указом 1856 г., выехал из Сибири только в 1859 г.
«Вольный» период его жизни, сложившийся нелегко, заслуживает подробного рассказа, выходящего за рамки нашего очерка. Здесь напомним только, что самыми близкими друзьями Поджио в Иркутске были Мария Николаевна, Сергей Григорьевич Волконские и все их семейство. В доме Волконских Поджио шутя называли «дядькой»1. Дети Волконских Елена (Нелли) и Михаил
1 Между ними существовало дальнее родство, точнее – свойство. Брат А. В. Поджио был женат на двоюродной сестре Волконской.
[356]
заботились о «дядьке» до конца его дней. После смерти Марии Николаевны (1863) Поджио, похоронив ее в имении дочери – селе Воронки Черниговской губернии, выехал в Швейцарию. «Для него,– вспоминал Н. А. Белоголовый,– это было то же самое, что переход из темного заточения в ярко освещенный зал, потому что в ту пору Женева была самым ярким местом русской эмиграции, и все, что в ней предпринималось, имело отзыв и среди молодежи внутри России. Поджио достиг уже того возраста, когда имел право считать свою песню спетой, и относился к бурлившей вокруг него борьбе в качестве стороннего, не деятельного, хотя вовсе и не бесстрастного наблюдателя и свидетеля. Равнодушным и бесстрастным он не мог быть потому, что продолжал горячо любить Россию и свято хранить свои либеральные убеждения, вошедшие у него в плоть и в кровь». А. И. Герцен, познакомившийся с Поджио в последние годы жизни «русского итальянца», отзывался о нем с большим уважением.
Для еще одних горестных похорон пришлось ему в ноябре 1865 г. выехать в Россию – скончался С. Г. Волконский. Поджио писал тогда: «Вот и доплелся за вами живыми до 1866 года. Плетусь и переживаю при этом многое и многих. Пережил и доброго старика моего Сергея Григорьевича…» Белоголовый навещал его в Женеве, ездил вместе с ним в Италию и не уставал удивляться свежести его чувств. Он так определяет удивительную личность Поджио: «Никогда не думать о себе, о своем покое и отдавать себя в жертву там, где он мог сколько-нибудь облегчить чужую нужду». Дочь Поджио обручилась с русским офицером и готовилась к возвращению на родину – это было отрадой для старика.
В 1873 г., почувствовав, что крутая стезя его подходит к концу, он попросил отвезти его в Черниговскую губернию, чтобы найти успокоение рядом с М. Н. Волконской. Последнее желание Поджио осуществилось. После кончины Александра Викторовича доктор Белоголовый получил от семьи своего учителя несколько тетрадок, найденных в его архиве. В них Поджио набросал первые черновики своих записок. Копия их хранилась у дочери, по мужу Высоцкой, и была передана ею в Румянцевский музей. Поджио писал: «Много, много нам будет испытаний, но мы их вынесем победно. Наши верования не ослабеют, а окрепнут, мы останемся вер-
[357]
ными себе и России <…> Есть начала, есть истины, не поддающиеся порче, и как проводники, хотя и схороненные, остаются истинными. Будет и им их время». Как бы причудливо ни складывалась история, все же был он прав.
ЛИТЕРАТУРА
Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи.– М., 1897.
Поджио А. В. Записки декабриста.–М.–Л., 1930.
Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1–2.–М., 1931.
Попова О. История жизни М. Н. Волконской.– В кн.: Звенья HI-IV.– М., 1934.
[360]
<…> Десятого июля 1826 года1, часов в 11 утра, явился ко мне плац-адъютант с обыкновенным словом «Пожалуйте!». Этим словом выражалось приглашение являться в комитет. Такое приглашение в необычный час (в комитет нас всегда водили ночью, с какой-то таинственностью, набрасывая на голову платок) меня несколько удивило; но вскоре, взойдя по боковому крыльцу в одну из комнат дома коменданта Сукина2, я и товарищи, которых я там нашел, догадались, что дело наше приходило к концу. За нами вводились и другие, незнакомые для меня лица; наконец, захлопнувшаяся дверь возвестила нам, что число наше ограничится присутствующими. Здесь находились: Трубецкой, Оболенский3, Барятинский4, Якубович5, Вадковский6, близкие мне друзья, и кроме них – члены Славянского общества, для меня вовсе неизвестные, именно: братья Борисовы7, Горбачевский8, Спиридов9, Бесчасный10. Предполагая по данному ходу дела, что Трубецкой и Оболенский были обвиняемы более многих других, мы удивились встрече с людьми, действия которых были нам совершенно неизвестны, а что еще более нас сбивало в наших догадках, это отсутствие главных членов общества, т. е. Пестеля, Сергея Муравьева и некоторых других.
Едва успели мы обняться и передать друг другу наши догадочные заключения, как растворилась противоположная дверь и взошел к нам со спокойным видом священник Божанов11. Протянув горячо руку Трубецкому и Оболенскому, которых он так часто посещал в темнице, принося им утешение в вере, он сказал: «Господа, вам будет читаться приговор, но будьте спокойны, государь не хочет смертной казни, сердце царево в руце божией». После этих слов он поспешно удалился, имея, вероятно, передать поручение и в другие комнаты, где также были собраны члены общества по категориям, как мы узнали это впоследствии. Нельзя не смутиться при мысли, что, забыв святость сана священника, его же употребили быть вестником такой гнусной лжи, как впоследствии оказалось при казни пятерых.
Вскоре потребовали нас в соседнюю комнату, из которой мы могли слышать какие-то громкие, прерывающиеся слова, которых смысл объяснился нам после, прочтением приговора смертной казни над пятью лица-
[359]
ми, осужденными на смерть. То были: Пестель, Сергей Муравьев, Бестужев-Рюмин, Рылеев и Каховский.
Когда все смолкло, нас начали вызывать поименно и ввели по одному в комендантскую залу, вытянули вдоль по стене в стройную шеренгу, имевшую по бокам у каждой двери и у каждого сзади нас окна по два павловских гренадера с ружьями у ноги. Павловские гренадеры, вроде потешных и позже лейб-кампанцев, были в ходу. Построение нас в шеренгу при застрельщиках направо и налево и при мерах такой вызванной безопасности должно было быть крайне одобрено фрунтовиками-судьями. Здесь-то наконец стала выясниваться вся эта таинственная задача, более любопытная, чем мучительная. До того все эти движения, передвижения и все неожиданности подстрекали наше вдруг воскресшее чувство к жизни. Все это так неожиданно представившееся зрелище нас не только не смутило, а скажу, напротив, вновь оживило какими-то уснувшими у нас силами. Правота дела, все наши убеждения, верования как будто опять ожили, расшевелились, воспрянули при виде такого бесправия, беззакония и насилия назначенного над нами суда, неизвестного для нас. Как! Самоуправная власть назначает суд, произвольно назначает судей, облекает их чудовищным правом жизни и смерти над ста двадцатью подсудимыми, и эти подсудимые не знают, не ведают даже о таком назначении. И первый, и последний произвол его существования, его действий выразился смертным приговором. Спросите хоть одного из этих поддельных заказных судей, ужели, прежде чем обмакнуть свое перо в кровавую чернильницу, не дрогнула его совесть и не почувствовалось ее угрызение? Ужели до того забиты были в нем все чувства человечества, что не пришло ему на ум для своего же успокоения выслушать, прослушать хотя бы одного из нас? Ведь знали же они, все, что подсудимые не имели никаких ограждений для своей защиты, что все почти обвинения основывались более на словах, чем на действиях, и ни один из них не отозвался в пользу всех этих чудных юношей, обреченных заранее на явную гибель. Спрашивается, какой судья решится приговорить к смерти самого лютого убийцу, разбойника, не выслушав его и не проверив следствия? Спрашивается, ужели предсмертный, великий возглас Рылеева не поколебал более чем совесть одного, если бы этот великий гражданин, достойный другого времени и поприща, был допущен
[360]
лично к оправданию или защите своей перед судом? Нет, суд этот, при глубоко заданном себе чувстве какого-то зверства, не только не умел, не хотел руководствоваться первоначальными понятиями о справедливости, но как будто ругался ими, даже не сохраняя и приличия, требуемого правосудием, хотя бы и искаженным произволом. Здесь я не говорю о тех ограждениях, с которыми защищались подсудимые во всех хотя несколько благоустроенных государствах; не говорю я уже о свободе слова и печати, о защите законного ходатая – нет. Положим, что эта роскошь права для России лишняя, но можно ли было пренебрегать, отвергать самые первоначальные понятия о процессе и можно ли было этому суду основать все свои приговоры на решениях одной следственной комиссии, представившей все показания наши за подписью нашей!
Просмотрим теперь вкратце, насколько эта комиссия заслуживала к себе такого, слепого доверия, какое оказал ей Верховный Уголовный Суд. Начнем с состава лиц.
Председателем был назначен военный министр граф Татищев12. Если выбор для такого места должен был пасть на человека, вовсе чуждого к исследованию дела, то, конечно, лучшего назначения для этой цели не могло и быть. Всегда безмолвный и, вероятно, углубленный в свои министерские дела, он равнодушно смотрел и на нас, и на все бешеные выходки.
Чернышев – главный двигатель всего следствия. Пообок его заседает… кто же?
Михаил Павлович!13
Несмотря на его, так скажу, истинно рыцарские выходки относительно Пестеля, Кюхельбекера и в особенности меня, нельзя не подивиться встретить его в деле столь близком как для него, так и для всего своего семейства. Вопрос главный был чисто династический, и он, неслыханное дело, был, как говорят французы, juge et partie, т. е. судья в собственном своем деле! Какое ограждение для виновника, чтобы не встретить здесь непримиримое пристрастие!
Александр Николаевич Голицын14, человек quasi-духовный и выдвинутый из опалы, он должен был заглаживать грехи старого усердия грехами нового.
Дибич, всегда военный, как он это воображал, редко являлся и заявлял всегда свое присутствие, ударяя не на центр, который находился в крепости, а во фланг
[361]
дела, растянутого по России. Так он допытывался всегда об участии Николая Николаевича Раевского и Ермолова, лавры которых лишали его сна. Влияние его на ход следствия было одностороннее, рассматривая его в отношении лишь военном.
Александр Христофорович Бенкендорф – плоть и кость династическая – не способен был отделять долг привязанности личной от долга к родине, хотя для него и чужой.
Павел Васильевич Кутузов15, бывший забулдыга и, что еще ужаснее или достойнее, как хотите, заговорщик и на этот раз успешный в убийстве отца16, должен был, конечно, оправдываться, заявлять себя поборником его сына. Когда Кутузов заметил Николаю Бестужеву, обвинявшемуся в умысле предположенного цареубийства, говоря:
– Скажите, капитан, как могли вы решиться на такое гнусное покушение?
– Я удивляюсь,– отвечал ему Бестужев с обычным и находчивым своим хладнокровием,– что это вы мне говорите.
Бедный Кутузов почти что остолбенел. Сын убитого отца17 был здесь. Как бы то ни было, Кутузов за успешное убийство достиг всех почестей русского мира, а Бестужев умер в изгнании!.. Там была une révolution de serail*, переворот гнусного царедворца, переворот личного побуждения, здесь – переворот целый, общественный. Но об этом в другом месте.
Был еще г-н Потапов18, всегда сдержанный, благородный, также имевший слабое влияние на тот же ход следствия19.
Итак, двигатель и, можно сказать, единственный всего дела, был кто же? – Чернышев! Достаточно одного этого имени, чтобы обесславить, опозорить все это следственное дело. Один он его и вел, и направлял, и усложнял, и растягивал, насколько его скверной, злобной душе было угодно! Нет хитрости, нет коварства, нет самой утонченной подлости, прикрытой маской то поддельного участия, то грозного усугубления участи, которых бы не употреблял без устали этот непрестанный деятель для достижения своей цели. Начавши дело с самого Таганрога и ведя его сам лично, он знал, что только с нашей погибелью он и мог упрочить свою заду-
* Революция в серале (фр.).
[362]
манную им будущность. Он так далеко зашел, успел так увлечь за собой Николая, подготовленного и весьма способного к восприимчивости системы и казней и гонений во всем ее объеме, что пятиться назад было невозможно и необходимо было идти вперед по верно проложенному кровавому пути. И этот путь прокладывать где же? – по России! По этой подобострастной смиреннице, чуждой всяких тех потрясений, которыми отличаются от нее все государства Европы.
И каким образом все эти судьи, зародившиеся при Екатерине и возникшие при Александре, не были проникнуты духом кротости этих двух царствований, чтоб так скоро, внезапно отказаться от всего прошедшего и броситься, очертя голову, в пропасть казней и преследований! Каким образом решились они так быстро, необдуманно перейти эту черту, так резко отделявшую правление милосердное, человеколюбивое от правления жестокого, бесчеловечного! Скажите, где и когда они видели во всю свою долголетнюю жизнь и эти виселицы, и эти каторги в таком числе и в таком размере? Что могло их подвинуть к такому резкому перелому всей нашей правительственной системы? Положим, что по оказавшимся мнениям, как видно из дела, были затронуты их собственные интересы, что цель ограничения монархической власти лишала их важной для себя опоры; что с введением представительного правления и вообще выборного начала по всем отраслям управления значение их и всей господствующей единобюрократии весьма ослабело бы; что с предположенным уничтожением рабства они были задеты в самом жизненном условии; что последний вопрос касался их ближе всякого другого. Но одни ли мы так думали, и все эти, наконец, всплывшие по времени вопросы, взятые вместе, не требовали ли тогда же обсуждения, необходимо здравого, хладнокровного, долгого, чем одним почерком пера убить не только тех, но и дух, их оживлявший! Убили и что же? – Власть при Александре, хотя и была дремлющая, но при Николае она сделалась притеснительною и, достигши до высшей степени своевластия, она тяжко и непробудно залегла смертельным гнетом на все мыслящее в России! И мы ли не слыхали, еще в отдаленной Сибири, слабые отголоски забитого слова и печати, все жалобные отзывы о подавленном развитии всех сил России. И когда понадобились для нашей России эти силы, оказались ли они где и в чем-нибудь?
[363]
Бездарность, бессилие, неспособность высказались повсюду, и Николай могучий, всеобъемлющий сделался метой всех упреков, всех нареканий, причиною всех причин.
Николай, нет, не он один был виновник всего пройденного, а виновники были именно те судьи, перед которыми я стоял и от которых я на время отклонился, чтобы возвратиться к ним с большим знанием дела.
Перед судом истории Николай стоять будет не один, стоять будут и все эти государственные чины, присутствовавшие при зарождении его царства. Николай был не более и не менее, как бригадный командир; свыкшись с таким скромным званием, мог ли он в пределах своих действий приобрести опыт в делах высшего управления, мог ли он, имел ли он малейшее влияние на тогдашние умы, к какому кругу или сословию они ни принадлежали? Мог ли он усвоить все те привычки, слабости и даже страсти, которые не врожденны в нас, а приобретаются при данных условиях и при данной среде? Вы приняли скромного бригадного командира в свои объятья, возвели его на престол и своим низкопоклонством, потворствуя положенным, закравшимся уже дурным наклонностям, дали им развиться, упрочиться и дали возможность сделать из него того Николая, который так долго тяготел над Россиею, над вами самими. Николай был, повторяю, вашим творением, в нем отражаются ваши опасения, надежды и проч. Трудно решить вопрос, кто из вас кем руководил, он ли вами или вы им; дело в том, что вы шли с ним рука об руку; путем произвола дошли до бесправия, до бессилия, до бесславия России и собственного вашего и его. Иди он с нами, отдайся нам или возьми нас с собой путем права, мы повели бы его к славе России и всех нас вместе. Мы хотели ограничения его власти, вы же – ее расширения. Вы начали его отравление, упрочив его власть, он покончил его. Вашим путем он медленно пошел на смерть, нашим же пошел бы он к бессмертию и остался бы незабвенным при другом значении.
Но вы кончили свой путь земной и к вам я лично не злопамятен и прощаю за себя, но не прощу за выключенных славных людей из числа живых и не прощу вам за Россию, вами отданную безответственно Николаю. <…>
Мыслим ли был Александр таковым, как мы его видели впоследствии? Мирный, кроткий, почти юноша,
[364]
чуждый порывам честолюбия или власти (все это было за ним), вдруг превращается в какого-то несозревшего воина и ищет славных приключений. Осторожность его уронила в глазах собственных и в глазах соотечественников. С тех пор заронилась в нем та пагубная страсть к военному делу, обратившаяся со временем в неотразимую манию. Тут же Александр, по несчастию, осуществляется и делается жалкою действительностью не только для России, которую он бросил, но и для Европы, которую он думал и усмирить, и устроить и пр. Он дважды пойдет еще на противника, удалит еще Сперанского, сдаст Москву, взойдет в Париж. Целый год свободничает, велит хилому Бурбону дать Франции конституцию, слушает лекции Вилльмена20, едет в Лондон, слышит оппозиционную речь Брома21 (Brougham), поздравляет его, жмет ему руку, обещает немедленно завести и в своем государстве оппозицию (он ее и встречает в Чугуевском бунте22 и в других местах), едет на Венский конгресс, поражает всех своими свободолюбивыми речами, 13-я статья конгресса вся в сущности его; присваивает себе Польшу и только под могучим своим влиянием склоняет противников согласиться на право, требуемое им неуклонно, дать этой Польше конституцию. <…>
В отступлениях моих я не ищу оправдания в неправильном изложении мыслей. Я нисколько не думал и не думаю себя стеснять заданным себе предметом в таких-то формах или границах. Нет, я пишу на особенных правах человека, вынесшего на себе все следы болезненного воображения. Печать темницы не изглаживается и память сердца сильнее всякой другой. Вы слышали, как заточение отзывается на умственных способностях узника. Как часто он падает в борьбе и нисходит на степень бессмыслия? Иначе и быть не может. Человек при жизни не может не жить, т. е. не мыслить. Убить, так сказать, эту способность, пока я жив, не может та сила, которая думает меня на ходу остановить. При данном допущенном движении мысли никакие затворы не воспрепятствуют ее духовному действию. Темница, заключая человека в вещественное бездействие, не только не притупляет способность мышления, а как бы служит возбуждающим, более усиленным средством к ее деятельности. Мысль собственно, питается действием; действие есть тот условный клапан, без которого снаряд наш мозговой не может правильно и дей-
[365]
ствовать. При отсутствии такого клапана два неминуемые следствия: или же этот снаряд должен непременно лопнуть, или же при меньшем напоре мыслей даст скважины, сквозь которые они будут просасываться, отделяться болезненной сукровицей. Увы, и самая мысль имеет свое вещественное и свойство и начало, а с мыслями соприкосновенна и душа, явление которой так сбивчиво при одних или других условиях ее непременных действий. Я говорил о неминуемых следствиях заключения на умственные способности узника и заявил два главные из них, а именно: или снаряд нашего мышления лопнет, или станет неправильно, судорожно действовать. Эти два вида резко выразились в нашем деле на первых же порах. Я не стану обращаться к тысяче других примеров. Кавалергард Поливанов23, замешанный по нашему делу, вскоре по содержании в крепости впал в такое умственное расстройство, что из приличия к благоустроенному Петропавловскому заведению перевезли его в военную сухопутную больницу, где он и скончался. Этот юноша, полный жизни, превосходных душевных качеств, при блестящей общественной обстановке, умер жертвою какого-то алчного, ни на чем не основанного преследования!
О Чернышев!!
Несчастный Булатов24 подвергся той же участи! Не вынес он одиночного заточения, предался в своем раскаянии до такого неистовства, что вздумали было успокоить его присутствием детей. Малютки, при виде страшного, изнуренного лица, заросшего бородой, вскрикнули, зарыдали, и несчастный, при настроенном воображении ко всему чудесному, увидел здесь перст божий, и грешник возопил: «Господи, даже дети мои меня отвергают и не узнают!» Он вскоре скончался23.
И вот случай заметить, кстати, насколько разнится мужество гражданское от военного! Насколько он был блистательно храбр в поле, настолько был мрачно малодушен в темнице. Как одно, так и другое – дело убеждения! В этих наскоро взятых примерах мы видим взрывы целого снаряда,– есть и другие примеры, относящиеся до другого явления, т. е. когда снаряд, хотя еще и в целости, но явно повреждается от невместительности напора мыслей без выхода. К этому разряду можно отнести то число ознаменовавших себя разными неестественными приемами к лишению себя жизни. Некоторые глотали пуговицы, ели стекло, бились головой об стену,
[366]
морили себя голодом и, наконец, вешались – и все попытки смерти не удавались, а только более распаляли воображение! Но то были временные лишь проявления невыносимого подчас состояния ума; но были припадки другого рода, припадки, независимые от нас и как бы вызванные извне, припадки, обнаружившие не острые признаки болезненного воображения, а целый ряд последовательных продолжительных указаний на повреждения умственного снаряда.
Каким образом пояснить все эти вопросы, путавшие вконец подсудимых по их многочисленности и несообразности обстоятельств; допросы, вызывавшие те многие показания, противоречившие самой истине по времени и по свойству указания лиц и случайностей? Каким образом пояснить эти сознания, признания, эту чисто русскую откровенность, не допускающую коварной, вероломной цели в допросителях? Как объяснить, что люди чистейших чувств и правил, связанные родством, дружбой и всеми почитаемыми узами, могли перейти к сознанию на погибель всех других? Каким образом совершился этот резкий переход в уме, сердце этих людей, способных на все благородное, великодушное? Какие же тут затронуты были пружины, какие были пущены средства, чтобы достигнуть искомой цели: разъединить это целое, так крепко связанное, и разбить его на враждующие друг другу части? Употреблялись пытки, угрозы, увещания, обещания и поддельные, вымышленные показания!
Пытки заключались в наручных цепях. Они наложены были на Якубовича, Петра Борисова. Других во время следствия сажали на хлеб и на воду и в особенные темные сырые казематы.
Угрозы? – Сам Николай, выслушав меня, взошел в бешенство и велел меня своими царскими устами судить военным судом26 и расстрелять в 24 часа. По приезде в крепость комендант Сукин мне сказал: «Извините и не взыщите, мне велено содержать вас строго». И точно, засадили меня в такой каземат, что Степан Степанович Стрекалов27, обходя заточенных, ужаснулся, и на другой день я, обязанный ему, был переведен в другой каземат и впервые тут узнал, что есть степень лучшая и между смрадными жилищами.
«Мы заставим вас говорить, мы имеем средства заставить вас говорить!» и т. д. Вот слова, которыми щеголяли высокие следователи.
[367]
Увещания были производимы и духовными, и служебными, и частными лицами, с намерением допускаемыми. Вопрос более чем щекотливый определял искренность или вероломство посещавших нас увещателей. Изведав на деле увещателей, следователей, я и не коснусь их на этот раз; относительно посторонних, бог да будет им судья! Сущность их увещания состояла всегда на том же милосердии царя, на желании знать одну лишь истину и пр. Все высшее и следующее будет много, подробно исследовано в разборе критическом нашего дела. Скажу на этот раз, что прочерченные наскоро причины, взятые вместе, имели то пагубное влияние, что воспользовались нашим слепым доверием. Мы пустились в чистосердечие, в русскую откровенную болтовню и дали им повод к оправданию допущенных ими зверских наказаний. Достаточно было того знаменитого дня, когда после взводимых показаний брата на брата, друг на друга, мы, собранные все вместе в павловском каре, для вывода нас на место казни,– мы в объятиях самых горячих забыли и горе, и страдания, и судьбу, нас ожидающую. Здесь проложен рубеж и стоит черта, резко нас отделявшая от прошлого с настоящим и нашей будущностью! С этой поры мы обновились новыми силами… и если в виду двух столбов с перекладиной и замерли наши сердца, то это для того, чтобы забиться боем правильным, возрастающим и непрерывным до конца!
Много, много нам будет испытаний, но мы их вынесем победно! Наши верования не ослабнут, а окрепнут, и мы останемся верными себе и той России, которая нас так громко отвергла, как тихо и забыла. Пусть время, под вашим еще ожесточенным дуновением, стирает одно за другим наши имена, пусть оно затрет наше дело, так слабо поднятое и так накрепко заколоченное в гроб забвения, пусть!.. Но нет, есть начала, есть истины, не подвергающиеся порче и, как проводники, хотя и схороненные, остаются истинными! Будет им и их время. Вера в бога, вера в человечество, вера и в его будущность – после нас и вас!..
Темница, говорил я, не тушила, а разжигала; чем более суживается предел для движения тела человека, тем более дух его ищет себе шири, простора. Мысль пробивается сквозь стены, затворы; всегда вольная, свободная, но недовольная и раздраженная – она более всего врывается, и как бы вы думали? – в чертоги царские! Там, за стенами, в полном вооружении не таится, не скрыва-
[368]
ется, нет! Во весь великанский рост, видимо, стоит не баснословный, а чисто исторический сфинкс, предлагающий мне денно и нощно на разрешение загадки своего существования. Вопрос столь близкий мне, столь связанный с моим бытом, что он сделался как бы присущным мне. Как преступник государственный, а не другой, не естественно ли мне, тут же, при моем осуждении, обратиться к той власти, которая так люто меня казнила, меня – человека!
Вор, убийца и вообще общественный преступник впадает и следует другому разряду и мыслей, и ощущений, он ожесточается, но как бы ни закостенели в нем начала порчи, вряд ли он станет себя оправдывать и взводить на судей несправедливую вину. Он знает, что не преступник, и при человеколюбивом, христианском за ним уходе может легко обратиться, пожалуй, и в честного человека, как и видим мы там, где закон за казнью преступника ведет и обязанность об улучшении его нравственности. Он может обратиться, да оно и возможно и утешительно, и таким образом он не только возвысится в глазах общества, но возвысится собственно в своих. Он обновился, переродился, облагородился. Но при тех ли условиях считает свои, отнятые у него дни государственный преступник в темнице? Мыслимо ли в этом случае обращение и, допуская даже случайный такой переход ума, можно ли допустить искренность и чистосердечие? Такой перелом в понятиях невозможен, он не только противоречит чести, совести, но и самому здравому рассудку, сложившемуся при таких, а не других принятых и усвоенных убеждениях. Убеждения здесь-то в темнице и крепнут! Здесь, в виду и при испытании всех действий этой беспощадной произвольной, насильственной власти, я еще более ожесточаюсь и вооружаюсь против нее всеми умственными моими силами! Здесь я разгадал загадочного сфинкса и от души пожалел, что не служил с Эдипом для его низвержения. Да какая же это сила, и если бы она была порывистая, каким образом она обратилась в силу непоколебимую, скажем, пожалуй, и законную? Каким образом эта миллионная численность повинуется слепо, безропотно, кому же? – одному!! Каким образом все это двигается, живет так противоестественно, по мановению одного – и когда являются люди, исповедующие все начала освобождения народа от гнетущего его ига, то самый этот народ их отвергает и как будто содействует их казни? Понятно, что всякое прави-
[369]
тельство из чувства (ложного, понятно) самосохранения восстает на них всеми силами, понятно, что господствующий класс чиновников, дворян вторит такому преследованию,– но народ, народ, где он? Забитый, невежественный, он смотрит даже не пытливо на зрелище заклания и расходится бессознательно по домам. Народ коснел в рабстве, в невежестве, и мы избегали его, избегали этого взрыва, который уподобился бы пороховому заговору в Англии28. Военные поселения, варварские обращения некоторых помещиков и общее всем самоуправление с крестьянами,– какие были бы для нас силы,– но мы их обошли, чтобы не ввергать общество в неминуемые смуты до правильного впоследствии их устройства. Все эти силы находились, таились, выражались частными бунтами, но стихали при нашем появлении: так дики, невыработанны были стремления народа к тому, не понимаемому им лучшему! Такое отчуждение народа смягчало и отчасти мирило меня, не говорю с нашей неудачей (удачи и быть не могло), а с той мыслью, что народ, оставаясь в стороне, оставался при своем бесправии, а поэтому при прежней своей силе! Сила эта до того росла, что вынудила наконец правительство осуществить на деле цель, которую наше Общество преследовало, а именно освобождение крестьян29.
Спрашивается, почему эта цель не вменена была нам в преступление и почему так молча обошли этот вопрос и судьи, и люди, большие и малые? Верно, не стало духу выказать нас с этой преступной стороны! И если мы первые поклонились 19-му февраля перед Верховным Освободителем, то могли ли мы, Декабристы, не видеть, как пророчески и государственно выступила тень Пестеля с «Русской Правдою» в руках? Освобождение с землей– так и быть, и хвала тому, кто понял и привел в исполнение эту спасительную мысль для России. Пусть так!.. Но вырвать такую славную страницу из нашего дела, отнять у Пестеля единственную праведную славу, одному ему принадлежащую,– не есть ли это вероломное искажение исторической истины и не есть ли это явный грабеж ума и сердца! Многие ходили у нас проекты и мысли относительно освобождения крестьян, и все принимали личную свободу при вознаграждении денежном владельцам, но мысль освобождения крестьян с землею принадлежала Пестелю одному.
Обращаюсь к моему заточению. Я думаю, что хотя и поверхностно, но достаточно себя выказал, под каким
[370]
настроением ума я находился и почему ум мой, несмотря ни на какие последовавшие влияния, должен был сохранить свой особенный отпечаток. Тюрьма налагает свою неизгладимую печать, я сказал,– печать эту ношу и поднесь. Конечно, время, опыт принудили и меня измениться, но основа все та же, и я так же стою твердо теперь, как стоял и прежде. Воззрения другие, но преобладающая точка все та же, средства к общественной цели могут быть другие, но цель все та же. Все то же ограничение всякой власти, искоренение произвола, в каком бы виде и в каком бы лице он ни проявлялся, единую избирательную, законодательную палату и введение выборного начала по всем отраслям правления, при всеобщем голосовании. Подразумевая, конечно, суд присяжных, свободу слова, печати и сходок. Вот и все и, кажется, немного. При таком воззрении, конечно, я буду казаться рассказчиком и жестким, подчас и неприличным, но как же мне быть? Не могу же я мыслить и чувствовать другим умом и сердцем, как не своим! Какой вороной мне ни быть, а павлиньих перьев не взять. Впрочем, послушайте, что мне прогремят, и вы сами рассудите, что я за чудовище-человек! Слушайте; я, помнится, говорил, что нас вытянули в шеренгу в зале комендантского дома. На правом фланге стоял Трубецкой, за ним Оболенский, Матвей Муравьев-Апостол, два брата Борисовых, Спиридов, Горбачевский, Барятинский, Поджио 2-й30, Артамон Муравьев, Вадковский и Бесчасный – всего 12 человек.
Странно, каким образом людей, подведенных к одной казни, к одной участи, не подвели под ранжир и таким образом не соблюли правил военного строя при взятом в зале военном распоряжении? Упущение 1-е. Во 2-х, взойдя в эту залу, конечно, самое естественное движение было окинуть всю эту, так неожиданно раскинувшуюся картину, и первой мыслью было то, что это был, по всем вероятиям, суд над нами. Но боже мой! Сколько же тут на меня грешного накинется судей! И что, подумал я, если вздумается каждому из них мне предложить хотя бы по одному вопросу? Я несколько, признаюсь вам, смешался и стал с быстротою молнии обдумывать образ своей защиты. Надо вам сказать, что в таких случаях мозговой аппарат действует с неимоверной быстротой, пробегает, право, едва ли не в минуту все то пространство, на котором раскинуты задачи нашей жизни и для объема которых нужно время целой жизни!
[371]
Терять жизнь! Какой не для вас, но для меня вопрос! И могу ли я признать право на эту жизнь за кем-нибудь и еще более за этими людьми, восседавшими надо мной? Как они гордо, спокойно и самонадеянно расселись вокруг этого стола, там поставленного! Тут лица и духовные, и военные, и гражданские, все три высшие класса, государственные, высшие члены и пр. Их так много этих высоких, что они не уселись за столом, а должно было разместить их на возвышенном помосте, устроенном в углу правой стороны. Для такого торжества решительно объем залы не соответствовал, оно было и предвидено, но всякое другое избранное помещение вне фортеции найдено было неприличным и несовместимым с тою таинственностью, которою в таком государстве, как Русское, облекают дела такого рода!
Итак, по количеству столпившихся здесь лиц и по малому размеру комнаты, судьи, подсудимые, стражи – все мы стеснены и взяты в тиски. Все выходы заняты: двери на замок, окна на крючки, гренадеры охраняли те и другие (мог ли кто-нибудь пробиться в дверь или выскочить в окно!). Стало жарко, невыносимо душно, солнце 10-го июля! И суд начинается при таких условиях! Что если сибариты, мои судьи, потеряют спокойствие духа и начнут наскоро метать свои вопросы? запутают себя и нас! Министр юстиции Лобанов-Ростовский31 первый перед нами; он волнуется на стуле и беспрестанно то вскакивает, то садится. Впрочем, он был известен по всегдашней своей суетливой горячности, он же, как видно, и хозяин дома и дела,– он один распоряжается, начальствует и дает всему направление и движение. Боевой генерал второстепенного разряда, он отличался в особенности бескорыстием и честностью, но в деле правосудия, не знаю, насколько он мог быть ему полезен! Это был тот самый Лобанов, которого императрица Мария Федоровна и прозвала «la justice» *, до того прославился князь в ее глазах в смысле правосудия. Как бы то ни было, но эта justice, или Фемида, облеклась в свой полный генеральский мундир и, вместо отложенных на время весов, держала в руках большой сверток бумаг, который, разбирая по частям, вручала стоящему около обер-прокурору Журавлеву32 (будущему сенатору), в свою очередь, тут же передававшему его какому-то юноше-чиновнику, расположившемуся перед на-
* Правосудие (фр.).
[372]
лоем, установленным у его ног. Белокурый щеголеватый господин, имя которого я не знал и знать, пожалуй, не хотел, развертывает листы и громким, звонким голосом начинает, как вы думаете – подпевать нам подготовленную уже лебединую песенку! Да, не стало случайности счастливой, и настала эта зловещая случайность, при которой, возможно ли вообразить себе, сотня судей без допросов, без суда, засудила более сотни молодых людей на самые позорные и лютые казни! Зачем нас свели, поставили лицом к лицу к этим судьям-истуканам, не подавшим ни одного не только голоса человеческого, но и малейшего признака хотя бы животного зверства? Пропитанные духом лучших учителей права, в особенности я, поклонник моего любимого Руссо, присвоивший себе законодательные истины Беккария33, Филанжиера, Бентама34, могли ли мы не смутиться и в полном смысле слова не возмутиться при таком заявленном презрении к правам защиты всякого обвиненного! Здесь мы только разгадали свойство так нагло, беспощадно и бессовестно восставшего на нас врага, и здесь мы, в свою очередь, вооружились всеми вызванными силами пробудившегося в нас русского достоинства и обреклись на то стяжание мученичества, которое вынесли до конца!
Итак, суд не состоялся в виде даже русского законоведения: мы не были допрошены, выслушаны, не требованы к оправданию, к защите, дозволенной, указанной законом. Верховный уголовный суд счел такой способ действия обременительным для людей, столь озабоченных государственными делами, и нашел гораздо удобнее положиться на указания Следственной Комиссии и принять их в неизменное руководство. Вполне освещенные указаниями Комиссии, чересчур убежденные ее доводами и выводами, вперед направленные к непременному обвинению всех нас, судьи эти не могли и не должны были требовать от нас ни дополнений, ни объяснений, ни оправдания. Для них в этих тысячных показаниях, вызванных под гнетом стольких вероломных и понудительных влияний, в этих показаниях, говорю я, было столько ясности, столько юридической, строго разобранной и представленной истины, что следовало только подвести итоги приговоров и казней!
Заметить надо, что здесь был, однако же, соблюден порядок судебного следствия, а именно: приговоры были предъявлены до приведения казней в исполнение. Молодой, белокурый господин, которого я назову экспеди-
[373]
тором, так он спешил отправлять свою должность, вероятно, заблаговременно усовершенствовался в заданном ему уроке. Читал он звонко, с убеждением, голос его был тверд и очень искусно ставил запятые и даже точки, когда следовало отделять одно слабое преступление от высшего; а преступлений, сколько их собрано и каким числом они ложились на каждого отдельно!!!
Трубецкой первый выслушал свой приговор, а за ним и прочие другие. Я здесь сделаю невольное упущение, а именно умолчу о содержании приговоров, взятых отдельно и в подробности. Несмотря на десятки лет, пройденных с того времени, переходя к нему, я не могу, коснувшись такого кровавого предмета, говорить с должным естественным спокойствием! К тому же я пишу для немногих, и если из этих немногих найдется человек, который вздумает пополнить некоторые грустные пробелы, то пусть он потрудится прибегнуть к официальным печатным доносам, донесениям, докладам и пр.
Признаюсь, сверх желания избегнуть болезненного чувства говорить (на этот только раз) о подробностях приговора, есть также сдержанность,– боюсь выказать себя почти что с отвратительной стороны, в особенности, если, не зная меня, верить им на слово: я и все мы выказаны людьми крови, какими-то чудовищными карикатурами, безумцами и пр., и вот почему (только на этот раз) отклонюсь от подробностей до времени их разбора. Скажу только, что приговоры так сходны были, как по содержанию, свойству и числу преступлений, сходны между собой, что трудно уяснить себе, каким образом преступники обозначались номерами и почему первый не делался пятым или двенадцатым, так точно, почему двенадцатый не зачислялся пятым или же первым? Судьи наши, конечно, должны были быть одарены большими психологическими вдохновениями, чтобы определять такие числительные оттенки. Впрочем, мы увидим после, до какой степени в распределении наказаний судьи эти предавались случайным, сбивчивым по рассудку, по совести решениям…
Экспедитор спешно и бегло прочел общий приговор: присуждение к смертной казни, с отсечением головы на плахе, причем он оказал свое драматическое дарование: он умышленно остановился на этой картине – где голова отсекается от тела – и думал такою расстановкой потрясти нас вконец. Спустя добрую минуту, он возвысил опять свой голос и стал дочитывать недоконченный пе-
[374]
риод: «но государь, в милосердии своем и т. д., заменил смертную казнь ссылкой в вечную каторжную работу». С этими словами он ловко повернулся к нам на правой ножке и как будто откланялся. Журавлев взял бумаги, передал их министру, который вскочил со стула, и маленький живой человечек поднял правую ручонку – и подал знак, указывая на выходную дверь.
Какой-то командир подошел к нам, что-то прошептал приличным полголосом и, повернув нас направо, стал всех спускать по лестнице. Внизу и по бокам лестницы образовалась какая-то молчаливая публика, сзади которой выказывалась голова неизбежного Меллина35 (человека всех церемоний, гульбищ, званых обедов, приятеля всей гвардейской молодежи), и тут же Якубович громким своим голосом пустил ему какую-то драгонаду, т. е. остроту (как называл он, находясь на службе в Нижегородском драгунском прославленном на Кавказе полку). Острота, вероятно, имела успех, потому что за ней последовал общий хохот. Какая черта русского характера, выразившаяся такой выходкой удали в такой не совсем располагающий к веселью момент!
Нас повели в Кронверкскую куртину. Прежних обитателей казематов не было, они выведены были для выслушания приговоров, и нас разместили поодиночке в опустевших на время стойлах. Завели меня, теперь поистине животного, в смрадное это стойло, дверь захлопнулась, замок заскрипел, и я очнулся наедине с самим собой! Какая встреча! И в какой момент жизни и моего «быть или не быть»! Не знаю, случалось ли вам вскакивать ночью бессознательно с одра, при виде во сне пожара или пропасти? Случалось ли вам и наяву вдруг неожиданно завидеть свое распадение и всеми силами оставшегося ума броситься в самого себя? Разыскивать, допытывать самого себя глаз на глаз, искать, допрашивать спасительного ответа? Всякое замедление губительно, весь успех в решении скором, быстром вопроса. Тогда только может высказаться убеждение, а с убеждением и самая сила. Задумывались, конечно, и вы вчастую, и как при бывалых превратностях своевольной судьбы не побеседовать, уединившись, сосредоточившись с самим собою! Не посчастливилось в одной службе, не перейти ли в другую? Удалиться в провинцию или же повертеться еще по передним в столице? Пуститься ли во взяточничество дозволительное, или же слегка дозволенное? Обойдут ли крестиком, чином, то
[375]
вынести ли афронт смиренно, или же заявить себя истым патриотом, нахмуриться, подуться, не говоря ни слова? Если же лишали места, или отказывали таковое, то не домогаться ли исподволь другого, или же примкнуть, в порывах высшего патриотизма, к числу недовольных, называемых либералами? Выйти даже в отставку и начать ту заносчивую брань, вполголоса, конечно, брань, касавшуюся высших государственных чинов, не исключая не только Аракчеева, но и самой глухой тетери36. Вот до какого неистовства доходили либералы нашего времени и до каких решительных моментов вызывался тогда русский человек и как часто, вынужденный углубиться в самого себя, он должен был выказываться невольно существом по-тогдашнему самостоятельным!
Сколько таких и много других вопросов предстояло решить каждому из нас! И как скоро, опрометчиво, на русский лад мы их решали! Сегодня решишь одно, посмотришь завтра – другое, а там и третье; лагерей не было, а мнений установленных и подавно; везде одна военщина и ее понятия, гражданственность, пожалуй, и зарождалась, но под наносными иноземными влияниями зарождалась без гласности, без данного направления, а потому вышла бесцельно, врозь и каждый был безответно сам себе судья, сам себе вожак! В решительные минуты жизни человек допрашивает одного себя, не принимая в расчет внешних условий если они противоречат его корыстной или попорченной цели! Я, да я и только я, вот бывший наш единственный двигатель во всех помышлениях и действиях наших! Вот почему современники мои и я сам так скоро и могли решиться на одно или другое, относя все к своему собственному интересу, объем других обязанностей нас не связывал, и мы, как почти всегда с торжественной победой! Не так ли и я, говорилось, выходили из этой с самими собой беседы относясь к самому себе, к убеждениям своим собственным, пожалуй, и к честолюбию моему особенного рода, не так ли я, не испытав и не взвесив ни чужих, ни своих сил, поуглубившись несколько в самого себя, выступил не по силам на то поприще, на ту борьбу, которая, наконец, меня сломила! Но все это мы делали, творили при условии какого-то ограждения; была, пожалуй, и некоторая свобода действий на этой бесконечной шири родины, где мог я невозбранно любоваться моим еще солнцем, дышать своим еще воздухом! А теперь, теперь божий для всех мир – не мой; он, необъятный для всех,–
[376]
для меня заключается в двух квадратных саженях! И вот на каком пространстве и при каких условиях я очнулся один и должен был развернуть все силы свои и умственные, и нравственные против своего торжествующего врага. Здесь не бой и не борьба, нет; выпавший меч здесь бессилен, а нужна одна броня, броня, о которую будут притупляться, разбиваться все наносимые мне удары! Броню, сказал я, найду и нашел ее! Но при каких условиях и при каком сначала изнеможении достиг я искомого состояния моего упавшего духа! Я не пишу во всеуслышание, пишу для немногих, без всяких предварительных и заданных себе целей! Не думаю и не хочу служить никому примером, ни образцом; не думаю, читатель, о вашем назидании или обращении и, предоставляя вам всю свободу мыслей, прошу взамен позволить и мне мыслить и свободно, и безответно. Если вы не были в моем положении, если вы не понесли на деле каких-либо утрат условленной жизни, то вы будете чтецом, пожалуй, но судьей моим никогда! Можете допускать, отвергать такие, или другие мнения, но подвергать меня, тайник мой вашему суду – нет, нет, никогда! Это право не дается и не приобретается ни в гостиной, ни у письменного стола, даже ни в заседании Верховного суда, а приобретается, знаете где и при каких условиях? Нет,– вам там не быть и не пройти вам всю гамму человеческих страданий!.. Не испытавши их, вы их и не поймете! Знайте, что если вам нужны эксперты для обсуживания всякого отдельного производства, то еще более нужны бывалые эксперты в продуктах политического матерьала. Нет, вы не мои эксперты; я вас отвергаю как судей. Говорить буду откровенно и перенесусь в те памятные для меня схватки с силой, выразившейся так бесщадно, безумно и дико! Я, помнится, сказал, что подсудимый, особенно политический, является почти что двумя противоположными личностями, а именно: личность, взятая до приговора, и та же личность, противоположная первой, после последовавшего приговора.
Подсудимый ввергается, как водится, в темницу; там, как водится, и сыро, и темно; зеленым цветом окрашенная деревянная кровать, плоский тюфяк, набитый грубою мочалкой; плоская подушка из той же мочалки, все это обтянуто грязной толстой дерюгой; у кровати столик с оловянной кружкой; в углу деревянная шайка; шесть замазанных стекол в окне за железной решеткой, дверь с одностеклянной форткой, в которую страж мог бы на-
[377]
водить свой мучительный для затворника взор, и дверь та на затворах; вот принадлежности не совсем очаровательные нового нашего жилища, и не надо забыть, что я взят по одному только подозрению и при своих всех сословных правах! Признаюсь, когда страж мой завел меня в этот хлевок и, не сказав ни одного слова, повернулся и захлопнул дверь, громко повернув два раза ключом, я просто вздрогнул и безотчетно чего-то устрашился? Не мог себе поверить, себя узнать при такой раскрывшейся моей ничтожности. Однако ж, эта ничтожность до того выказалась резко и болезненно, что я едва мог прийти в себя.
Как, говорил я себе, вчера на двух тройках прикатил я ко дворцу; на одной сидел я с адъютантом генерала Набеля, поручиком Свечниковым, на другой следовал за мной при унтер-офицере находившийся у меня в услужении шляхтич, пан Ян Соколовский; вчера еще услуживали мне офицеры Преображенского моего же полка. Они меня на гауптвахте осматривали, раздевали, одевали. Вчера еще я был и ночевал во дворце (большая комната в нижнем этаже против Адмиралтейства, от государева крыльца направо. Там было три, четыре дивана по углам с ширмами, отделяющими вводимого гостя от других); сегодня я беседовал в Эрмитаже с В. В. Левашовым37 (допросы его более походили на беседу38, так были они вежливы и мало настойчивы), сегодня же представлялся кому же? – самому государю. Сам он, хотя и удостоил меня обещанием расстрелять в 24 часа, но все-таки был милостив, не гнушался мной, а говорил… А теперь, теперь заброшен в эту смрадную яму и никто, никто не отзывается: все от меня отворачиваются, бегут и, как от прокаженного, затворяются! Какая же это сила, спросил я себя, которая так чародейно, мгновенно могла подействовать, чтобы ввергнуть меня в такую пропасть бессилия? Каким образом совершается и возможен этот процесс насилия над существом, над человеком, наполненным одними высшими человеческими стремлениями, и этот человек отчуждается от всего мира и заживо погребается! И нет этому политическому лицу ограждения; нет для него ни защиты, ни оправдания; нет суда – он заранее обречен на казнь; казнь будет его кровью и плотью! Такое сознание ничтожности своей, при таких условиях неизбежной гибели, есть высшее оскорбление, высшая обида, какая только может быть нанесена властью истинно русскому государствен-
[378]
ному преступнику! Нет, не страх его возмущает, не утрата жизненных условий, положения, нет. Здесь задето его самолюбие, к добру направленное; здесь глубоко потрясено его высокое человеколюбивое достоинство. Я не убийца, и не вор, и не разбойник, для которых весы и мера, при разных изменениях, одни и те же во всех государствах,– нет – я политический, как назвали меня, преступник, и у меня мерило не ваше, а свое.
Самые святые начала истины христианской и гражданской, начала, исповедываемые целыми народами, вы мне их вменяете в целый ряд преступлений, и я, при моих укоренившихся убеждениях, сознаваться должен в своих заблуждениях и должен переменять свою светлую вечную истину на гнусную ложь! Первый шаг мой в темнице был первым шагом моим к следованию предназначенного мне ракового пути; я его понял, разгадал, и вот почему этот шаг был для меня до того впечатлителен и резок, что все последующие за ним шаги были только последовательными и не имели на меня уже того первого раздражительного влияния.
Были дни невыносимо тяжелые, но дни эти падали прямо на сердце исключительно и не касались того умственного достояния, которого меня хотели лишить в первый день моего заточения. Как бы то ни было, я должен был вынести это новое, непредвиденное испытание и выдержать этот натиск всех взведенных вдруг унижений и уничтожений!.. Я чувствовал приближение решительного нравственного распадения и как-то, устыдя самого себя, стал обращаться, прибегать к силам и не собственно моим, которых я не находил, а к силам внешним и увы! уже чужим; и почему мне не сознаваться в моих ослаблениях, когда могу еще воспрянуть и воспряну… Человек, в особенности общественный и при заданном направлении, всегда влечется к уподоблению себя с данными, или предвзятыми им образцами. Такие путеводные звезды есть у каждого из нас, как бы мы ни выказывали себя малосостоятельными. Мы, как опоздавшие деятели, вступили в ряды человечества уже как последствия, а не начала; волей или неволей, в нас будет всегда отражаться будущее при низвержении прошедшего. Я чувствовал, как говорю, свое распадение и должен был себя подкрепить, одушевить силами других,– но где же эти другие? Знавал я их и поклонялся им… но то были не русские, а мне хотелось, как русскому и по русскому делу, непременно ворваться в свою
[379]
отечественную историю. При возбужденном воображении такие розыски делаются скоро, бегло; недолго мне было пройти мысленно по главным событиям и, наконец, прийти к странному заключению: какие же были смуты, бунты, восстания? Все они имели особенный, по большей части местный, временный характер, не имеющий никакой связи, никаких отношений с общим характером страны.
Соковнин, Стенька Разин, Пугачев,– сами они и дела их не подходят к нам. Были, конечно, перевороты, но перевороты дворцовые, в которых принимали участие одни временщики, или же вельможи, своекорыстно преданные личности одной или другой. Люди, косневшие в злоупотреблениях и чуждые всякому благому стремлению, они гибли, губили друг друга, шли славно на смерть, на истязания,– но люди, опять не подходящие, и, заплатив им дань сострадания, невольно отворачиваешься от них! Было одно движение при воцарении Анны Иоанновны39, но тут же оно и заглохло среди общего крика: «Цари, цари самодержавно!» Были даже цареубийства. Убивают Петра III. «Он немец, говорят, а нам давай немку!» Он дает некоторые льготы дворянству, народу, он прекращает безрассудную разорительную войну с Пруссией; издает некоторые указы, поощряет промышленность, торговлю40. «Бейте, душите его!..» Орлов, Барятинский41, Теплов42 и Пассек43! Вы извели законного царя, но вас судить не станут… вас наградят богатствами и почестями, а ты, Орлов, ты будешь, как ни скуден умом, первым государственным человеком, и как убийца – можешь требовать руки убийцы!
Иван Антонович, юноша, предназначенный на царство, заключен в крепость. Не взять ли его в пример мужества? Нет; полуотравленный, он впал в какое-то животное, бессмысленное состояние. Мирович был послан будто бы спасти его и возвести на престол, он не видал его и не прикасался к нему,– правда; но его, Мировича, повесят, а страж-убийц за верность наградят!
Павел Первый обратил внимание на несчастный быт крестьян и определением трехдневного труда в неделю44оградил раба от своевольного произвола; но он первый заставил вельмож и вельможниц, при встрече с ним, выходить из карет и посреди грязи ему преклоняться на коленях, и Павлу не быть! Пьяная, буйная толпа заговорщиков врывается к нему и отвратительно, без малейшей гражданской цели, его таскает, душит, бьет… и уби-
[380]
вает! Совершив одно преступление, они довершили его другим, еще ужаснейшим. Они застращали, увлекли самого сына, и этот несчастный, купив такой кровью венец, во все время своего царствования будет им томиться, гнушаться и невольно подготовлять исход, несчастный для себя, для нас, для Николая!
Убийцы были награждены; за ними был легкий, жалкий успех! Нет, они нам не пример; то были действительные убийцы, убийцы прославленные, мы же… доскажу впоследствии; но я искал для себя образцов и не обрел их. Русское наше общество не развивалось по особенным законам, а стояло неподвижно на своей славянско-татарской почве, не заявляя никаких потребностей и стремлений народных. Странно и то, что, нуждаясь в примерах, оказанных в заточении, я заметил, что эта кара именно и была изъята из числа прочих. Владыки наши как-то чуждались этого рода наказания; находили ли они его крайне жестоким, или чересчур мягким, или же слишком общеупотребительным в других странах Европы, не хотели его допустить у себя; но дело в том, что они предпочитали ему, может быть, и по привычке и чтобы не изменять порядку,– ссылку в отдаленнейшие остроги, обители, если только не подвергались преступники четвертованию, колесованию, отрезыванию языка, вырыванию ноздрей, клеймению, пытке, правежу, ломке членов, наказанию кнутом, батогом, плетями и проч.
И как мужественно выносили несчастные все эти истязания; но мужество это не по мне, как неприменимое к причинам, его вызывающим, и я, не находя себе образцов в былом, стал их допрашивать, доискиваться вокруг себя. Здесь, пообок меня, томятся так же, как и я, страдальцы по темницам. По длинному каземату, разделенному на кельи, я мог пересчитать затворы каждой из них и убедиться, что здесь полуживые мои товарищи-друзья переживают, а может быть, и доживают последние дни, отсчитанные не промыслом небесным, а земным. Я не один! Здесь сотни избранных, и нам ли унывать!..
«Сторож!» – крикнул я.– Молчание.– «Часовой!» – Молчание.– «Унтер-офицер!»– думал польститься, но то же молчание.– «Попросите ко мне плац-адъютанта!» – Голос не отозвался, но послышались шаги. Вдруг ключ заскрипел в замке, дверь растворилась и входит сторож (они все на один покрой) и расставляет на столе миску оловянную, со щами – одну, другую с гречне-
[381]
вой кашей и тарелку, на которой разложены четыре кусочка высохшей телятины.
– Это обед? – спросил я. Молчание.– Дай же, – я сам себе отвечал,– поизведаю эту стряпню.
Щи – что за капуста! Что за жир, вдобавок подгорелый. Не могу пропустить, да и только. Посмотрим телятину, на воде жаренную; на каше должен был остановиться; горчайшее сливочное масло до того меня покривило, что сторож, кажется, счел меня за бунтовщика, так скоро вынес почти нетронутый обед.
«Скверно,– подумал я,– герой-то я – герой духом, а привычки все верх берут!» Право, невыносимо, хочется и того и не хочется этого, просто чад в голове и только!
«Авось, не будет ли другое!» – и при этом пожелании явился плац-адъютант.
– Что вам угодно?
– Прикажите внести мой чемодан, также и трубки и табак.
– Здесь этого не полагается.
– Что вы хотите этим сказать?
– Что здесь этого не положено!
– Ясно, очень ясно, нечего сказать. Прошу вас доложить плац-майору, что я желаю его видеть!
– Через час он будет обходить караулы и, вероятно, зайдет и к вам. Мое почтение,– пробормотал он и вышел.
После обеда я чуть-чуть не бросился на кровать поотдохнуть, но, испугавшись такого порыва, на этот раз воздержался от этого прикосновения и начал ходить и приводить в порядок рассеянные свои мысли. Дело предстояло важное: встреча с новым вполне отцом-командиром – плац-майором крепости. Надо же было мне поразведать кое-что о своих правах, чтобы знать черту, за которою требование не обращалось в просьбу, чего я не хотел допустить. И здесь, в этой могиле, отзывается все то же жалкое существо, при всей суетности своей дворянской! Шутка! а я-то именно и буду вести всю свою защиту под этим оставленным мне щитом.
Краснощекий, лысый толстяк, пожилой Подушкин45предстал предо мной или, вернее, я перед ним!
– Вы, верно, помните меня, майор?
– Я-с? Извините, никак нет-с,– ответил он мне, оглядываясь во все стороны.
[382]
– Как же, я очень вас помню; два года тому назад я бывал у вас на гауптвахте, где содержался товарищ мой Бологовский, по случаю дуэли, и думал ли я тогда!..
– Бог милостив!
– Знаю, да вы как-то немилостивы; я солдатского черного хлеба не могу есть, а в белом мне отказали.
– Булка положена за чаем.
– А табак? Что за дворянин, согласитесь, без трубки в зубах? Ведь я еще дворянин?
– Не положено-с.
– Если в дарованной дворянской грамоте не упомянуто о праве курения табака, то это потому, что это право само собой подразумевается за дворянином.
– Это так-с! Но, вот видите, у нас…
– Да ведь вы также у нас в России, где законы все одни и те же.
Майор мой улыбнулся.
– Сердце царево в руце божьей, повремените, пожалуйста, потише!
Какой религиозный человек, подумал я. Счастливец – он верующий. После объяснились его слова.
– А довольны ли вы обедом?
– Чрезвычайно; но жирен больно.
– Да! Уж мы не жалеем!
– Но пожалейте вы меня! Нельзя ли заменить эти жирные щи кашицей, и кашу мне подавать без масла?
– А, батенька, извольте, извольте! (Надо знать, что все продовольствие наше было в ведении плац-майора, и деньги на продовольствие определялись по чинам арестантов. Генералу определялось 5 р. с, штаб-офицеру – 3 р. 50 к., обер-офицеру–2 р. 50 к. Значительная сумма, которую, кажется, по сердолюбию плац-майор умел крайне уравнять и подвести всех под одинаковую отвратительную пищу).
– Позвольте у вас спросить: секут у вас, конечно, на месте, но скажите, где расстреливают?
– Что вы? Что вы говорите? Когда же это бывало? Бог с вами!
– К кому же я могу обратиться в случае надобности?
– Потерпите, повремените; все будет, сами узнаете, сами увидите.
– И скоро?
– Скоро, скоро, до свидания.
[383]
– Чемодан с бельем, с платьем и деньги мои 1500 руб. доставлены ли вам?
– Не знаю, не знаю, до свидания.
– Трубку, трубку,– кричу ему вслед.
– Сердце царево в руце божьей.
Видно, эта заученная фраза служит разрешением заданных вопросов этим болванам, которым вставили и мозговицу, и язык, установленные атрибуты этих личностей, составляющих особый тип в разряде словесных животных.
С чем пришел, с тем и ушел, как говорится. Мое положение не только не уяснилось, а как бы еще более омрачилось неизвестностью. «Скоро, скоро,– сказал он,– увидите, узнаете сами!» Нечего делать, давай опять думать да раздумывать, время же за мной]
Под вечер принес мне сторож кружку чаю, четыре кусочка сахара и ломоть булки. Поделившись со сторожем чаем и сахаром, булку оставил для себя, как единственную подпору для поддержания моих сил. Надо было, наконец, вооружиться новым родом мужественного отчаяния, надо было – и не шутите – почувствовать весь упадок сил до изнеможения, чтобы коснуться, улечься на этом загрязненном, страшном с клопами и блохами ложе. Мучения, которые я на нем испытывал, давали мне понятия о прокрустовом одре. Но у меня медвежья шуба была с собой, и я ее употреблял, пока не сделалась она гнездом сгустившихся блох, и я должен был даже отказаться и от нее!
Пусть эта первая ночь пройдет бесследно; зачем, к чему выводить все грустные думы, на меня навалившиеся, к чему описывать все эти видения, сны, обуревавшие, прерывающиеся часы отдыха бедного узника в первую ночь его заточения; ужели и в эти, скорее минуты, чем часы, нет для него успокоения и забвения? – Нет! Сон есть самое тяжелое его испытание, конечно, после высшего страдания, т. е. пробуждения в той же темнице, при тех же затворах, при том же безвыходном унизительном положении. Помню я, помнит, вероятно, и каждый узник, первый день и первую ночь заточения.
Но как благодетельно создан русский человек! Как он от природы уклончив и покладист. Как скоро он применяется к нуждам голода, жажды; как он, говоря без всякого хвастовства, переносит не только все новые лишения, но и новые в разных видах угнетения! Допросите многочисленных наших бывших стражей, все они
[384]
в один голос скажут, как мы, русские, умели, в должных границах своего достоинства, ограждать себя, как умели мы и самих начальников держать в должной « нам строгости и уважении. Враг наш личный – Николай – отдавал нам справедливость, как он ни был злопамятен, как он ни был неумолим и жесток! Никогда, однако же, не подвергал нас унизительному испытанию, так он уважал тех, которые умели выносить все испытания, но не относились с просьбами, ни письменно, ни словесно, к помилованию. И он мог употребить такое средство и не пустил его в ход. Спасибо ему!.. Он понял нас поздно; целую пропасть проложил между нами, таким образом мы с ним и расстались!
После первого дня настал другой и третий, и все наши впечатления понемногу стирались, все жестокое смягчалось, все неровности как-то сглаживались, расстояния между началом преследования и защиты сокращались, и, как всегда, под конец какой-то гул смягчения страстей раздавался не только по темницам, но носился и вне их стен. Обращение с нами наших следователей, содержание последних допросов, мягкость слова и слога – все вело нас к надежде скорого исхода дела. Исход последует, конечно, несомненно, но чем он обозначится и как он отзовется на будущности не нас одних? Этот вопрос разрешился не одной судьбой нашей, но и судьбой всей России. Признанием начал, которых были мы, отчасти, представителями, или же отвержением их во всем объеме – определялось свойство характера предстоящего царствования. Обветшалые примеры ссылки на пресловутую Бабку уже были неуместны и смешны, как по духу времени, так и по заявившимся, хотя и слабо, стремлениям русского ума. Движение было; оно оказалось дико, односторонне, но медлить было не время и нужно было направить, идти к цели и идти вперед. Такое движение при взятой точке исхода от Александра не раз представлялось нам и, понятно, действовало прямо на наше соображение.
В другом отделе я буду говорить подробно о ходе всего дела и какими путями, под влиянием нашего крепостного мира, мы врывались в мир другой и думали предугадать судьбу его, вместе и нашу, нераздельно с ним связанную. Да, мы со всеми увлечениями подсудимого до своего приговора мечтали, обманывались, надеялись. Стойте! Выслушайте и поймите!
[385]
Надеялись, да! Мы не ожидали повышений, ни наград, а должного, соразмерного наказания, соответственного не столько собственно нашей виновности, как вопиющим интересам государства. Бывшие и теперешние судьи (их всегда так у нас обильно) спрашивали и спросят, вероятно: «каким образом вы до того опошлились, до того обезумели «в тюрьме, что могли допустить исход другой, чем тот, который последовал?» Справедливо; мы было вашим умом и начали! Сначала, когда стали на нас злобно напирать, и мы пошли было в отпор и держались насколько было сил, но, когда борьба стала невозможна против истины доносов и самих действий, вы, строгие судьи, оставались в своих кабинетах и легко вам было судить да рядить затворников, отвергнутых и вами, и всеми! К тому же обещанные расстреливания не состоялись; мы как-то стали свыкаться с своими следователями, взведенные ужасы теряли свое значение, и мы мало-помалу пришли к тому заключению, что дело должно будет принять оборот более разумный. Казалось, что дело, возникшее при прежнем правлении и при других обстоятельствах, должно было при новом царствовании утратить свое прежнее значение и подвергнуться не преследованию, а исследованию, более соответствующему благоразумной цели, в обязанность поставленной всякому вступающему на престол венценосцу. Мы думали так (да простится нам эта простота ума), что и вы, судьи наши, промолвите за нас, представителей близких и для всех начал, хоть одно доброе, общественное словечко, и мы впоследствии только узнали, как вы своими возгласами сочувствовали взбесившейся власти и как вы вторили во всеуслышание крику мщения. <…>
[386]
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН
(1793–1837)
Декабрист Е. П. Оболенский писал о Якушкине: «Если можно назвать кого-нибудь, кто осуществил своею жизнью нравственную цель и идею общества, то, без сомнения, его имя всегда будет на первом плане. <…> Если вспомним все течение его жизни, то увидим, что он преследовал одну и ту же идею, идею пользы и добра, которую видимо осуществил в училищах (устроенных им в Сибири.– В. К.), невидимо же в беседах, в жизни нравственной, в преследовании порока и всего того, что составляет нравственное искажение общества. Не быв облечен властью, он мог противопоставить пороку одно слово, но оно имело силу, подкрепляемую примером жизни нравственной и деятельной на пользу общую». Подлинно так: духовно цельная, нравственно безупречная, редкая в своей самоотверженности, в безраздельном служении благу народному личность Ивана Дмитриевича Якушкина олицетворяет самое лучшее, что было в движении и идейных исканиях первых дворян-революционеров…
Родился Иван Дмитриевич в отцовском родовом Жукове Вяземского уезда Смоленской губернии. Рос он ленивым и даже, как теперь говорят, отстающим в развитии ребенком и лишь годам к 10 обнаружил недюжинные способности, живость воображения и силу характера. Домашние учителя (кроме русских, как водится, приглашены были и француз, и немец) немало с ним намучились. Отец его Дмитрий Андреевич умер очень рано, мать Прасковья Филагриевна (урожденная Станкевич), пытаясь, как умела, дать сыну образование, отправила его для этой цели в Москву – сначала в домашний пансион университетского профессора А. Ф. Мерзлякова, о котором Иван Дмитриевич навсегда сохранил благо-
[387]
дарные воспоминания, а после и в сам университет1. Здесь, между прочим, сдружился он с А. С. Грибоедовым и П. Я. Чаадаевым, и когда родился на свет из-под пера великого комедиографа Александр Андреевич Чацкий, то знатоки прототипов увидели в нем черты как Чаадаева, так и Якушкина. Когда довелось, будучи узником Петропавловской крепости, отвечать на вопрос об образовании, то со слов Якушкина записали: «По-российски и по-французски читать и писать умеет, географии, математике и истории знает». Обучаясь по факультету словесности, Якушкин не чурался ни всемирной истории, ни эстетики, ни правоведения, ни даже чистой математики, статистики, физики и военных наук.
Завершив образование, Иван Якушкин в 1811 г. вступил на военную стезю и оказался с лейб-гвардии Семеновским полком, где служил, в гуще величайших по тому времени сражений. Плечом к плечу со своим товарищем и братом по судьбе (с юных лет до старости) Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом2 он 26 августа 1812 г. при Бородине «находился в действительном сражении», стоя под знаменем 3-го батальона Семеновского полка. За храбрость, проявленную при Бородине, был удостоен «знака военного ордена Георгия» – была тогда такая награда, а за сражение при Кульме – прусского железного креста. С армией он побывал в поверженном Париже и в 1814 г. возвратился морем в Кронштадт. В ходе кампании проявлял он редкостную выносливость и упорство во всех ратных делах, за что прозван был офицерами-однополчанами «бычком». Но нелегко ему это упорство доставалось: к 22 годам его черные густые волосы (хорошо сохранившиеся до конца жизни) серебрились сединой.
Иван Дмитриевич рассказывал о возвращении с войны: «Из Франции в 14-м году мы возвратились морем в Россию. 1-я гвардейская дивизия была высажена у Ораниенбаума и слушала благодарственный молебен <…> Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся присоединиться к выстроенному войску.
1 Между прочим, после суда Николай I потребовал сведений об имущественном положении родственников декабристов. Ему сообщили: «Мать его (Якушкина) титулярная советница Прасковья живет в Орловской губернии в Ливенском уезде на содержании зятя своего, поручика Василия Воронца, имеющего 9 чел. детей и 30 тысяч долгу».
2 С 1822 г. они стали и свойственниками, женившись на сестрах Шереметевых.
[388]
Это произвело на нас первое неприятное впечатление по возвращении в отечество <…>
Наконец, показался император, предводительствуемый гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались, но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было мое первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая однако ж не могла видеть мыши, не бросившись на нее». Разочарование подстерегало возвратившихся из европейского похода будущих декабристов вовсе не только на высшем уровне, но и на уровне дворянского общества в целом. «В 14-м году существование молодежи в Петербурге было томительно,– пишет Якушкин.– В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет…»
Якушкину отвратительно было всякое лицемерие, в том числе и, так сказать, личностное, бытовое, лицемерие же общественное – вдвойне. Именно это худшее лицемерие и откровенную ложь воочию увидел он в императоре и его окружении: «Император Александр, в Европе покровитель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но, что хуже того,– бессмысленным деспотом.
Разводы, парады и военные смотры были почти единственные его занятия; заботился же только о военных поселениях и устройстве больших дорог по всей России, причем он не жалел ни денег, ни пота, ни крови своих подданных. Никогда никто из приближенных к царю, ни даже сам он не могли дать удовлетворительного объяснения, что такое военные поселения». Кстати, и дороги прокладывались подчас не в видах общественной пользы, а для проезда императорского экипажа – намеренно вдали от селений и экономических путей из опасения «акций». «В последние годы своего царствования, – писал Якушкин, – император сделался почти нелюдимым.
[389]
В путешествиях своих он не заезжал ни в один губернский город, и для него прокладывалась большая дорога и устраивалась по местам диким и по которым прежде не было никакого проезда».
Одним из непосредственных импульсов к вступлению Якушкина в тайное общество было оскорбленное национальное чувство, вполне естественное для тех, кто считал себя – и по праву – спасителями Европы от Наполеона. «До слуха всех,– рассказывал Иван Дмитриевич,– доходили изречения императора Александра I, в которых выражалось явное презрение к русским… Родственник Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов, возвратившись однажды из дворца, рассказал им, что император, говоря о русских вообще, сказал, что каждый из них плут и дурак и т. д.». Это был, по существу, плевок в лицо российскому дворянству, проливавшему кровь за отечество во главе многострадальных русских солдат. Реакция Якушкина на подобные веяния стоит того, чтобы ее привести, ибо в ней сказался не только национальный патриотизм, но и то уважение к иноземцам, которое много десятилетий спустя связали с понятием «интернационализм». «Один раз,– пишет Иван Дмитриевич,– <С. П.> Трубецкой и я, мы были у Муравьевых Матвея и Сергея, к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением составить тайное общество, цель которого, по словам Александра, должна была состоять в противодействии немцам, находящимся на русской службе <…> Я <…> сказал ему, что не согласен вступить в заговор против немцев, но что если бы составилось тайное общество, членам которого поставлялось бы в обязанность всеми силами трудиться для блага России, то я охотно бы вступил в оное общество».
В следственном деле имеется признание его о принадлежности к тайному обществу. Оно сделано в тот момент, когда Иван Дмитриевич и не помышлял о какой-либо дипломатической линии самозащиты. Он писал с полной откровенностью, даже с надеждой ценой некоторого самооговора выгородить товарищей: «В 1816 г. я был одним из тех, которые тайное общество составить предложили. Я служил тогда в Семеновском полку и был в Петербурге. Сочленами кого я имел, сказать не могу, ибо на сие дал мое обещание. В том же году я был переведен в 37-й Егерский полк. Во время моего пребывания в армии никакого сношения я не имел с членами общества до перевода полка моего в Московскую губернию.
[390]
Тогда я получил позволение от полкового командира, генерала Фонвизина1, жить в Москве, где был в сношении с теми, кои общество сие составляли. Намерение общества было сблизить дворянство с крестьянами и стараться первых склонять к освобождению последних. Сверх сего распространить свои отрасли умножением членов и приготовить все сословия в государстве к представительному правлению».
Жизнь Якушкина в 37-м Егерском полку, дислоцированном под Москвою, была, благодаря умному и доброму генералу Фонвизину, не обременена службой: он мог сколько угодно пребывать в городе, не обязанный даже облачаться в мундир. Само собою, Иван Дмитриевич присутствовал на всех собраниях будущих московских декабристов.
В 1817 г. через С. П. Трубецкого дошел до Москвы из Петербурга слух, будто император намеревается передать западные российские губернии Царству Польскому. Это вызвало взрыв возмущения у патриотически настроенных вольнодумцев-москвичей. Вместе с крепнущей уверенностью, что под управлением недавнего «победителя Наполеона» Россия стремительно мчится в пропасть реакции, мракобесия и разрухи, это заставило некоторых предложить – на словах пока что – крайнюю меру. Речь шла о «прекращении царствования Александра I»,– иными словами – об убийстве царя. И тут случилось происшествие, определившее центральный пункт обвинения против Якушкина и по существу решившее его судьбу, равно как и судьбу будущего его семейства. Кто-то из присутствующих предложил бросить жребий – кому выпадет, тот и должен будет взять на себя самоубийственную роль устранения монарха, губящего отечество. И тут, вполне в духе своего характера, прямодушного, бесстрашного и гордого, выступил вперед Якушкин и заявил, что никакого жребия не надо – он берет все на себя, не желая подчиняться слепой воле случая. Так что «цареубийственный кинжал» «меланхолический Якушкин» обнажил впервые не в Петербурге, как можно предположить из X главы «Онегина», а в Москве, где Пушкина самого не было и он свои ноэли читать не мог. Поэтическая вольность, впрочем, более чем допустимая!
1 М. А. Фонвизин также был видным декабристом
[391]
Реакция на предложение Якушкина, однако, показалась ему странной: никто не обрадовался такому решению, напротив, все взволнованно объявили ему, что речь шла о самом первом приступе обсуждения, а вовсе не о твердом решении членов тайного общества и, тем паче, не о назначении Ивана Дмитриевича на пагубную роль. Это оскорбило его, и он счел себя обязанным выйти из общества. Вот как он сам об этом писал: «На другой день при новом совещании тех же лиц мне объявили, что известие, полученное из Петербурга, может быть не основано (т. е. не подтверждено) и что действию моему противятся. Вследствие сего я им сказал, что более к обществу их не принадлежу, ибо они меня заставили к действию или необходимому или пагубному. В первом случае дурно делают, что меня останавливают, в последнем – заставили меня решиться на вещь совершенно гибельную для России»… Пройдет восемь лет, и взошедший на престол, перешагнув через кровь и слезы, новый самодержец Николай I напишет брату: «Еще один, который в 1817 г. должен был по собственному желанию стать убийцей! Он не скрывает этого, а вместе с тем всеми силами отрицает, что у него были сообщники; это бывший Семеновский офицер Якушкин. И не нашлось никого, кто бы его изобличил».
Помните, Николай Тургенев горячо возмущался тем, что в России судят не за действия, а за «мнения». В данном случае было даже не «мнение», а «намерение». Иван Дмитриевич мог ожидать только самого худшего.
В 1818 г. с чином капитана Якушкин вышел в отставку. Отправился хозяйствовать в Жуково, где было у него всего-то 193 крестьянских души. Надо сказать, что наряду с Тургеневым – Якушкин был одним из наиболее последовательных борцов против крепостничества среди декабристов. Он сразу вполовину уменьшил господскую запашку, уничтожил многие тягостные для крестьян поборы. Обучив грамоте 12 крестьянских мальчиков, он поместил их в Москве в различные мастерские. Знание ремесел, справедливо полагал он,– важное подспорье при скудных земледельческих заработках. Для личных надобностей держал он одного слугу, уничтожив само понятие дворни. Каждый крестьянин имел к нему доступ в любое время. Вместе с крепостными он нередко рабо-
[392]
тал в поле. Это было совершенно необычно для русского барина. «По возвращении из-за границы крепостное состояние людей представлялось мне как единственная преграда сближению всех сословий и вместе с тем общественному образованию в России. Пребывание некоторого времени в губерниях и частные наблюдения отношений помещиков с крестьянами более и более утвердили меня в сем мнении».
Собирался он по собственному почину освободить крестьян без земли, отдав им безвозмездно их дома, скот и все хозяйство с правом арендовать землю у него, помещика, или же отрабатывать ее за вознаграждение. Крестьяне от безземельной «свободы» наотрез отказались. Он все же через Н.И. Тургенева обратился к министру внутренних дел О.П. Козодавлеву с просьбой об освобождении своих крепостных: «Желая отпустить на волю доставшихся мне по наследству крестьян Смоленской губернии Вяземского уезда <…>, предоставляя им их имущество, строение и землю, находящуюся под усадьбами, огородами и выгонами, не требуя с них никакой за это платы, принимаю на себя смелость спросить Ваше превосходительство, могут ли люди сии получить освобождение на означенном положении». Ответ был такой: «если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанностей относительно своих крестьян». Отучил Якушкин крестьян кланяться в ноги и стоять с обнаженной головой перед барином. Его любили в Жукове, не хотели с ним расставаться, говорили: «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому, мы ваши, а земля наша». 1820–1821 годы в Смоленской и Могилевской губернии выдались голодные, неурожайные. Иван Дмитриевич организовал сбор пожертвований, раздавал хлеб голодным.
Еще в 1819 г. Якушкин вновь был принят в тайное общество. Он так рассказывал об этом на следствии: «Хотя я обществу более не принадлежал, но я знаю, что в 1818 г. оное получило образование и устав, который я читал. В 1819 г., когда я приезжал в Петербург, некоторые из членов сказали мне, что я слишком много знаю, чтоб остаться чуждым, и я дал подписку, что к обществу опять принадлежу». Осенью 1820 г. грянуло восстание Семеновского полка, приведшее в ужас императора и оживившее деятельность тайных обществ.
В ноябре 1820 г. Якушкин был на Украине – в Тульчине, Каменке, Киеве, «скликая» членов тайного обще-
[393]
ства на съезд Союза благоденствия в Москву. В Каменке он виделся с Пушкиным и впоследствии (1854) описал эту встречу в «Записках» (познакомились они в том же году раньше – в Петербурге у Чаадаева).
К 1821 году Иван Дмитриевич Якушкин относит свое последнее соприкосновение с тайным обществом. Устав от тупоумия местных чиновников и их полного нежелания хоть шаг шагнуть в сторону народа, он «намерился сделать государю изложение всего зла, которое внутри государства заметил, и предложил оное за общим подписанием доставить». Это обращение вызвало бурные дебаты в среде декабристов; в конце концов документ был принят и подписан уже после роспуска Союза благоденствия и организации Северного общества, членом которого стал и Якушкин.
Затем наступила иная, мирная и добрая пора в жизни декабриста. В конце 1822 г. он женился на Анастасии Васильевне Шереметевой.
Теперь на сцену в нашем беглом рассказе о герое-революционере выйдет героиня – женщина умная, страстная, сверх меры испившая чашу горести, разлук и одиночества. Прославляя жен декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь, нельзя забыть и о верной подруге Ивана Дмитриевича Якушкина, которая волею судьбы, а еще более – волею своего непреклонного в решениях мужа, в Сибирь не поехала, но совершила истинный подвиг, вырастив двух замечательных сыновей, горячо любивших отца, которого долгие годы знали лишь по рассказам матери. С портрета смотрит девочка с большими голубыми глазами, в старинном уборе, с прической, которую носили еще в XVIII веке. Кажется, не влюбиться в нее невозможно. Она была дочерью давней знакомой Якушкина Надежды Николаевны Шереметевой, разделявшей многие его убеждения. Близкими людьми к этому семейству были не только Муравьевы-Апостолы, но и братья Петр и Михаил Чаадаевы – друзья Якушкина. Когда замечательная красавица Настенька Шереметева выходила замуж, ей не было еще 16 лет, а Иван Дмитриевич близился уже к тридцатилетию. Не было ни пышного свадебного обряда, ни традиционного шитья туалетов загодя, а была только любовь. Брак их получился словно на небесах предопределенным: они нежно любили друг друга, и она чувствовала себя ему равной во всех размышлениях и заботах. Младший сын Якушкиных Евгений Иванович писал о матери: «Она мне всег-
[394]
да казалась совершенством, и я без глубокого умиления и горячей любви не могу вспоминать о ней. Может быть, моя любовь, мое благоговение перед ней преувеличивают ее достоинства, но я не встречал женщины лучше ее. Она была совершенная красавица, замечательно умна и совершенно образованна».
Первый год они прожили в имении Шереметевых – селе Покровском Рузского уезда Московской губернии, где выросла Настенька. Затем на два года уехали в Жуково к Якушкину. В первых числах декабря 1825 г. Якушкины отправились с двухлетним сыном Вячеславом в Москву. Анастасия Васильевна готовилась снова родить. Поселились в доме Шереметевых на Малой Бронной. 17 декабря дошли до них первые сведения о восстании в Петербурге. Кстати, Иван Дмитриевич никогда не называл себя декабристом, ибо в самом восстании не участвовал, а между тем именно он олицетворял все лучшее в декабризме. На протяжении нескольких дней итог возмущения в столице оставался для москвичей неясным. На совещании членов тайного общества раздавались призывы поднять войска в Москве, предлагалось даже отправиться в Петербург, убить царя и освободить товарищей. Якушкин стоял за немедленное восстание: «Если бы предприятие петербургским членам удалось, то мы нашим содействием в Москве дополнили бы их успех, в случае же неудачи в Петербурге, мы нашей попыткой в Москве заключили бы наше поприще, исполнив свои обязанности до конца и к тайному обществу и к своим товарищам». Но в Москву уже долетела депеша Николая I: «Примите меры!»
9 января Иван Дмитриевич был арестован. «Я ожидал ареста,– рассказывал он,– и нарочно положил на стол листок с исчислениями о выкупе крепостных крестьян в России, надеясь, что этот листок возьмут вместе со мной, что он, может быть, обратит на себя внимание правительства». Листок-то взяли, но характер следствия и суда был совсем иным, чем представлял себе Якушкин.
В Зимнем дворце генерал Левашов сразу заявил ему: «нам известно, что еще в 1817 г. вы должны были нанести смертельный удар императору». Николай I, когда ввели к нему Якушкина, добавил: «Я, кажется, говорю вам довольно ясно: если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами обращались как со свиньей, вы должны во всем признаться». Якушкин в тот момент не знал, что именно известно правительству, и отказался на-
[395]
звать чье-либо имя. Расправа императора была скорой. Он повелел коменданту Петропавловской крепости: «Заковать в ручные кандалы и ножные железа, поступать с ним строго и не иначе содержать как злодея». Сохранился и ответ коменданта Сукина Николаю I: «При высочайшем Вашего императорского величества повелении ко мне присланный Якушкин для содержания как злодея во вверенной мне крепости мною принят и, по закованию в ножные и ручные железа, посажен в Алексеевский равелин в арестантский покой № 1». Между прочим, этот комендант Сукин мнил себя не тюремным администратором, а чуть ли не философом-политологом. Он как-то сказал Якушкину: «Вы затеяли пустое. Россия обширный край, который может управляться только самодержавным царем. Если бы даже и удалось 14-е, то за ним последовало бы столько беспорядков, что едва ли через 10 лет все пришло бы в порядок». Прогнозы прогнозами, а кандалы ножные с Якушкина сняли только 14 апреля, а ручные 18-го…
«Арестантский покой», конечно, был относительный – частые допросы, очные ставки, заполнение опросных листов. Долгое время Якушкин говорил только о себе, как будто Общество состояло исключительно из его собственной персоны, но потом убедился, что это может пойти во вред товарищам: называя людей, он мог оградить их от клеветы. В нескольких случаях это так и получилось. В «Записках» он запечатлел свое тогдашнее состояние: «В первое время заключения чувствуешь что-то тяготеющее над собой, похожее на fatum1 древних, чувствуешь свою ничтожность перед этой могучей неизбежностью; но мало-помалу возникают внутренние силы, начинаешь дышать свободнее и по временам забываешь и темницу и затворы.
Полное и продолжительное уединение, подобно животному магнетизму, отрешая нас на время от внешних впечатлений, сосредоточивает все наше существование на предмет, на который в эту минуту мы обращаем внимание. Сколько вопросов, задаваемых мной себе на свободе, оставаясь для себя недоступными прежде, разрешались, и иногда совсем неожиданно, во время моего пребывания в равелине. Беседа с самим собой, особенно в последнее время моего тут заключения, редко чем нарушалась. Я сжился с моим первым нумером, и гнилые
1 судьба, рок (лат.).
[396]
пятна на его стенах, оставшиеся после наводнения 1824 г., были для меня не пятна, а представляли собой разного рода изображения»…
Тем временем Анастасия Васильевна, ничего не зная об арестованном муже, собралась с двухлетним сыном Вячеславом и новорожденным Евгением в Петербург. Молоко у нее от душевных потрясений пропало. Кормилицу взять с собою не удалось, свежее молоко дорогой не везде можно было достать. Младенец, питавшийся кашкой да сухарями, едва выжил, надрываясь от крика. 15 июня 1826 г. она написала царю: «Всемилостивейший государь! Мучительная неизвестность об участи мужа, которого обожаю и с которым была счастлива, понудила меня совершить дальнее путешествие. Удрученная скорбью и болезнью, с грудным пятимесячным ребенком и двухлетним сыном проехала я семьсот верст в надежде на благость Вашего императорского величества. Не об облегчении судьбы моего мужа молю вас, государь, не оправдания о нем дерзаю приносить вам,– я решилась с покорностью ждать часа правосудия и милосердия вашего.
Но, государь! Вы отец и супруг нежный, сердцу вашему знакомы чувства, коими теперь исполнено сердце мое: два невинных младенца у подножия престола Вашего императорского величества просят обнять несчастного отца своего; 18-летняя жена, проливая горькие слезы, умоляет дозволить ей свидеться с мужем и писать ему». По окончании следствия свидания раз в неделю на два часа в присутствии плац-адъютанта были разрешены.
Приговор Верховного уголовного суда отнес И. Д. Якушкина под № 22 к преступникам 1-го разряда, подлежащим казни отсечением головы. Но 10 июля «по уважению совершенного раскаяния» царь заменил смерть ссылкою в каторжную работу на 20 лет с последующим поселением в Сибири навечно. После казни пятерых и гражданской казни всех остальных (ломая шпагу над головой Якушкина, ему нанесли ранение) осужденных постепенно стали развозить из Петербурга. В августе вместе с М. И. Муравьевым-Апостолом, А. А. Бестужевым и другими был отправлен в Финляндию, в крепость Роченсальм, и Иван Дмитриевич. На ближайшей к Петербургу станции Парголово его уже поджидала семья. Здесь, видно, и порешили они между собою, что как только назначено будет Ивану Дмитриевичу постоянное
[397]
место каторжных работ, Анастасия Васильевна тотчас за ним последует вместе с детьми. Теща обещала проводить ее так далеко, как позволено будет.
Больше года пробыл Якушкин в Роченсальме, старой обветшавшей крепости, выстроенной еще Суворовым. От гнилой воды и скверного питания декабристы тяжело болели. Иван Дмитриевич держался, как всегда, стойко, только исхудал ужасно. Несколько раз до Анастасии Васильевны доходили слухи, что его везут в Сибирь. Она тотчас с матерью и детьми бросалась в Ярославль – последний пункт на пути, где разрешалось свидание. Наконец, глубокой осенью, перед самым ледоставом известие подтвердилось. Они встретились в Ярославле, никак не веря, что видятся в последний раз. Пусть Иван Дмитриевич сам расскажет про обрушившееся на них несчастие: «Жена моя в слезах сказала мне, что сама непременно за мной последует, но что ей не позволяют взять детей с собой. Все это вместе так неожиданно меня поразило, что несколько минут я не мог выговорить ни слова; но время уходило, и я чувствовал, что надо было на что-нибудь решиться. Что нам вместе, жене моей и мне, всегда было бы прекрасно, я в этом не мог сомневаться; я также понимал, что она, оставшись без меня, даже посреди своих родных, много ее любящих, становилась в положение для нее неловкое и весьма затруднительное; но, с другой стороны, для малолетних наших детей попечение матери было необходимо. К тому же я был убежден, что, несмотря на молодость жены моей, только она одна могла дать истинное направление воспитанию наших сыновей, как я понимал его, и я решился просить ее ни в коем случае не разлучаться с ними». А уж коли он решился, ничто не могло поколебать его решение. «Отличительная черта его характера была твердая, непреклонная воля во всем, что он считал своей обязанностью»,– так писал о Якушкине один из друзей.
Свидание вблизи Ярославля растянулось на несколько дней, потому что Волга никак не замерзала, словно нарочно продлевая их прощание. А потом узников увезли.
Анастасия Васильевна осталась с детьми. На что она могла уповать? Либо на то, что царь сжалится и позволит взять с собою в Сибирь детей, либо на то, что Иван Дмитриевич смягчится и позволит ей, оставив сыновей бабушке, ехать к нему одной. Сохранился и сравнительно недавно опубликован ее дневник (подлинник – по-
[398]
французски), относящийся к первым месяцам вечной разлуки. Этот поразительный документ, свидетельство любви и мужества юной жены и матери, и через полтора столетия сохраняет свою нравственную силу. Приведем без комментариев несколько фрагментов.
«19 октября 1827. Этот маленький дневник ты получишь с верным человеком, и я его начинаю с момента нашего горестного расставания. Я хотела бы тебе раскрыть самые тайные уголки моего печального сердца. Говорить, что я тебя люблю больше всего на свете, было бы только фразой. Ты должен быть в этом уверен. Момент, когда ты скрылся с моих глаз, был ужасен. Ты это легко поймешь. Но бог как будто внушил мне, и я взяла обоих детей и крепко прижала их к сердцу, и мне показалось не то, чтобы я была утешена, но все же я почувствовала некоторое облегчение от ужасной тяжести, которая меня подавляла. И в самом деле, при мысли о том, что это были твои дети, которых я обнимала, я верила, что ты будешь признателен за это своей бедной подруге. Уезжая, я взяла Евгения на руки, Вячеслав поместился рядом со мной, и мы отправились в Ярославль. По приезде туда у меня были минуты ужасного отчаяния, тем более отчаянного, что я их переживала внутри себя, но вечером я рисовала Вячеславу, как обещала тебе, и делала это только потому, что знала, что ты будешь вечером думать о нас и скажешь себе: «Я вижу, как она рисует моим детям» <…>
Мое перо в этот момент не сможет ничего писать кроме слова люблю. У меня к тебе все чувства любви, дружбы, уважения, энтузиазма, и я отдала бы все на свете, чтобы быть совершенной для того, чтобы у тебя могло быть ко мне такое же исключительное чувство, какое я питаю к тебе. Ты можешь быть счастлив без меня, зная, что нахожусь с нашими детьми, а я, даже находясь с ними, не могу быть счастлива…
23 октября. После нашего последнего свидания мое существо настолько слилось с твоим, что мне кажется, ты всегда около меня, ты меня видишь, ты смотришь на меня, мне кажется, что я вижу в твоем взгляде одобрение, когда делаю что-либо хорошее для детей.
[399]
24 октября. Вчерашний день прошел как все другие. По-прежнему грущу, но стараюсь переносить с самым героическим мужеством печальную разлуку, так как только в этом заключается причина моих страданий. Быть с тобой и с детьми – это высшее благо на этой земле, как бы предвестие небесного блаженства. Для меня нет счастья без тебя ни в этой жизни, ни в будущей. Пьер Чаадаев сказал мне, что я говорю только глупости, что слово счастье должно быть вычеркнуто из лексикона людей, которые думают и размышляют. Я тоже сказала ему, что он говорит глупости, не так прямо, как он мне изволил сказать, но вполне вежливо. <…> Он обещал мне принести главу из Монтеня, единственного, кого можно, по его словам, читать с интересом.
25 октября. Вячеслав сегодня попросил у меня бумаги. Я его спросила – зачем, он мне сказал, чтоб написать тебе. «Что же ты напишешь папе?» – «Я ему напишу, что мы все здоровы».
31 октября. Наши дети играют около меня и, однако, не могут меня развлечь; все их любят, все восхищаются ими, а я (прошу у тебя прощения) иногда не могу их видеть без ужасного содрогания. Это они являются препятствием к нашему соединению. Прости, милый друг, я чувствую, что я не права. Ведь это не их вина, что они существуют на свете, а скорее наша, и несмотря на это, хотя это и редко бывает, они причиняют мне ужасные страдания. Я на коленях прошу у тебя прощения. Уверяю тебя, что я делаю все возможное, чтобы быть благоразумной, но мне это стоит очень многого, тем более, что я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, как я страдаю. Есть люди, которые любят выставлять напоказ свое горе, а я, признаюсь тебе, не люблю этого.
9 ноября. Но, милый друг, быть может, я тебя удивлю, но все-таки тебе скажу, что я хотела бы лучше быть с тобою там, чем здесь. Я не знаю, почему мои мысли о счастье больше связаны с местами отдаленными, чем с Россией. Мне кажется, что мое счастье не было бы таким полным, если бы мы были здесь, на глазах у всех этих людей, таких холодных и равнодушных.
[400]
12 ноября. Если бы ты видел меня эти три дня, то, конечно, твое мраморное сердце смягчилось бы и твои уста дали бы разрешение следовать за тобой. Слаще меда было бы для меня это разрешение. Вот я могу сказать, что ты сделал меня несчастной тем, что привязал меня так сильно к себе. Ты должен был подумать о том, что разлученная с тобой, я должна буду претерпеть не одну, а тысячу смертей, будучи такой одинокой на земле, какой я осталась без тебя и как я живу сейчас. Это переходит все границы.
17 ноября. Если ты позволишь мне приехать без детей, дай мне знать. Я прошу об этом на коленях, как о самой великой милости, которую ты можешь мне даровать. Во имя неба, разреши!»
Как ни старалась Анастасия Якушина скрыть свои муки от окружающих, ей это плохо удавалось. Родные и друзья сочувствовали ей, готовы были взять на себя заботу о детях, но разрешение от Ивана Дмитриевича все не приходило. Добрый ходатай по многим декабристским делам В. А. Жуковский сделал попытку помочь делу. 22 января 1828 г. он писал одному из приближенных Николая I: «Имею честь представить вашему сиятельству письмо, недавно мною полученное. Прибегаю к вам, чтобы наконец иметь какую-нибудь возможность отвечать на него. Оно писано тещею несчастного Якушкина, которая желает знать, может ли дочь ее вместе с детьми поехать к мужу-изгнаннику. Благоволите прочитать это письмо, благоволите взять на себя труд сказать мне, можно ли надеяться получить такого рода позволение и какое для этого средство». Ответ был иезуитски расчетливым и по сути означал запрещение: «Государь император отозваться изволил, что исполнение сего желания в существующих для того правилах ей не возбраняется. Но при этом его величеству благоугодно дабы ей поставлено было на вид, что в месте пребывания мужа своего не найдет она никаких способов к воспитанию детей <…>, а потому ей нужно предварительно размыслить о всех последствиях своего предприятия, дабы избегнуть позднего и бесполезного раскаяния». Угроза была слишком очевидной, чтобы Н. Н. Шереметева могла отпустить дочь и внуков. Она предпочла другой путь:
[401]
умолять зятя сжалиться над женою и принять ее одну. «Отказом не сделай свое и ее несчастье». Наконец, даже «мраморное» сердце Ивана Дмитриевича не выдержало: в конце 1831 г. он дал согласие. К тому времени каторжники уже перебрались из читинского острога в Петровский завод, где условия стали полегче, и некоторые декабристы разместились там с женами. «Ей здесь, по-моему, будет недурно,– написал он.– Ей нельзя будет так покойно и беспечно жить здесь, как жила она в Покровском, но для нее это будет и не без пользы».
Однако «боги посмеялись» над любящими: слишком долго они искушали судьбу. В дело вмешался пресловутый А. X. Бенкендорф. Прекрасно зная, что отъезд каждой из жен декабристов в Сибирь раздражает императора, он давно уже сумел почти что «захлопнуть оконце». Не пустили ни жену Шаховского, сошедшего в Сибири с ума, ни невесту Муханова. Что касается Анастасии Васильевны, то Бенкендорф проведал о разнице в возрасте между супругами и доложил императору, будто вышла она замуж без любви, единственно по воле матери. Николай повелел: «отклонить под благовидным предлогом». А она-то уже почти совсем собралась: устроила на воспитание старшего сына, с большими трудами добыла денег. Кажется, и Бенкендорф не устоял перед силой ее страдания и попросил императора изменить решение. Но теперь уже тот остался неколебим. Доброжелательный к декабристам священник (он навещал их в тюрьме) П. Н. Мысловский сообщил Н. Н. Шереметевой 29 июля 1832 г.: «Государь решительно не хочет, чтобы ваша Настя и все подобные ей жены ехали отныне к мужьям. Не теряйтесь в придумывании причин на сие: во сто лет не нападете на них».
Для Анастасии Васильевны все было потеряно безвозвратно. Она уехала с детьми в деревню, отдавая им все время и силы, которых оставалось совсем мало. Умерла она, не достигнув сорока лет.
Сибирская эпопея Якушкина длилась двадцать восемь лет. До конца 1835 г.– каторга, (срок был сокращен до 10 лет, с зачетом того времени, что провели в тюрьмах), затем – поселение. Намечено ему было село Олонки Иркутской губернии, но по ходатайству тещи, Н. Н. Шереметевой, место ссылки переменили на Ялу-
[402]
торовск. Подробный рассказ об этом времени в жизни декабриста составил бы целую книгу. Здесь сообщим лишь несколько характеристик, данных ему теми, кто был с ним в Сибири, да кое-какие жизненные подробности.
Сначала впечатление местного мальчика: «Якушкин? Ой какой страшный… В вострой шапке, с усами. У него во дворе есть высокий столб. Он часто на него лазит. Говорят, он колдует… Засушливую погоду делает. Он тоже из несчастных». Насчет этого столба, на котором Иван Дмитриевич укрепил флюгер, ветромер и еще какие-то метеоприборы, ходили легенды. Думали – не иначе как с нечистой силой якшается. Верными признаками чернокнижия считалось и то, что собирает растения, составляя гербарий Тобольской губернии, клеит детишкам шары-глобусы, на диковинных коньках катается, а купается до самых заморозков. Глазам местных жителей представал он в таком виде: «В легонькой шубе с коротеньким капюшоном, остроконечной мерлушечьей шапке на маленькой голове, нос у него был острый, с горбинкой, глаза темные и быстрые, улыбающийся красный рот его обрамлялся сверху черными усами, снизу – маленькой, тупо срезанной эспаньолкой».
Главным делом Якушкина в Сибири, поглощавшим чуть ли не все его время, было создание школ для местной детворы. Сначала – для мальчиков, а в 1846 г., когда умерла Анастасия Васильевна, в память о ней,– для девочек. 10 лет боролся он с препятствиями, чинимыми местными чиновниками. А уж когда собрал детей и учителей, пошли доносы, жалобы, всяческие комиссии, бесконечные происки недоброжелателей. Все это Иван Дмитриевич преодолел, создав школы поистине замечательные, основанные на новаторской тогда ланкастерской системе взаимного обучения. Немалую часть занятий он брал на себя, проводя с ребятишками целые дни. Те, кто учились у Якушкина, не забыли об этом никогда, оставив немало воспоминаний.
В Сибири Иван Дмитриевич, без преувеличения, пользовался всеобщей любовью и уважением. Декабрист Н. В. Басаргин писал о свойствах его характера: «В частных отношениях он отличался замечательным прямодушием и был доверчив как ребенок. Будучи весьма часто обманут, он никогда на это не жаловался; горячо вступался за хорошую сторону человеческой природы, не обращал никакого внимания на худую, всегда засту-
[403]
паясь за тех, кто нарушал какой-нибудь нравственный закон, приписывая это не столько испорченности, сколько человеческой слабости». Заметим, что многие декабристы были моложе его возрастом, и это тоже определяло его авторитет. Необычайную строгость к себе он сохранил до конца и от идеалов своих не отказался. В одном из его писем к Пущину читаем: «Во всяком положении есть для человека особенное назначение, и в нашем, кажется, оно состоит в том, чтобы сколько возможно менее хлопотать о самих себе. Оно, конечно, не так легко, но и положение наше не совсем обыкновенное. Одно только беспрестанное внимание к прошедшему может осветить для нас будущее; я убежден, что каждый из нас имел прекрасную минуту, отказавшись чистосердечно и неограниченно от собственных выгод, и неужели под старость мы об этом забудем?»
При исключительной душевной отзывчивости он был сдержан во внешних проявлениях. «Он умел любить и любил искренно, верно, горячо,– вспоминает товарищ по заключению Е. П. Оболенский,– но никогда не хотел ничем наружным высказать внутреннее чувство; эту черту характера он сохранил до конца жизни».
Якушкин был человек мягкий, словно бы созданный для счастья. С какой самоотверженностью помогал он женам декабристов – Муравьевой, Трубецкой, Фонвизиной, когда они и их дети болели. Почему же все-таки не пустил к себе свою Настеньку? Евгений Оболенский пишет об этом: «Тут замечательна полнота убеждения, которая вынудила его пожертвовать и счастием своим, и счастием жены,– для пользы Вячеслава и Евгения. Он уверен был, что воспитание и любовь матери – первые и лучшие проводники всех лучших чувств. Чувство высокое, самоотвержение полное!» Радостно сознавать, что Иван Дмитриевич не ошибся – сыновья выросли замечательные. Уже взрослыми людьми оба приезжали к нему в Сибирь – по существу, познакомились с отцом, помянули мать…
В августе 1856 г. Иван Дмитриевич, освободившись по манифесту, приехал в Москву к сыну Евгению. Но и тут не было ему, как оказалось, места. Подагра не выпускала его из дому и поэтому у него собирались старики декабристы. Это не понравилось начальству. По предписанию генерал-губернатора вернувшихся из ссылки декабристов велено было из столичных губерний выдворить. Якушкин подумывал даже о возвращении в Ялу-
[404]
торовск, но вынужден был перебраться в имение старого товарища, находившееся в гнилой, болотистой местности на границе Тверской губернии. Там его здоровье, давно подорванное, резко ухудшилось. Сыновья добились все же для него разрешения наезжать в Москву для лечения. Но было уже поздно. 6 июня 1857 г. он добрался до Москвы, а 11 августа умер. У гроба его Матвей Иванович Муравьев-Апостол сказал: «Я похоронил половину себя».
В 1862 г. А. И. Герцен в Лондоне издал его «Записки», писанные в последние сибирские годы. По общему признанию, это, быть может, лучшее из того, что написано о первенцах русской свободы. Когда книга вышла, Герцен решил: «Все вырученные деньги… мы разделим пополам. Одну половину перешлем для воспомоществования лицам, сосланным в Сибирь вследствие политических гонений, другую оставим в Лондоне для воспомоществования русским, которые вынуждены будут покинуть отечество по причинам тех же гонений». Это был первый памятник Ивану Дмитриевичу Якушкину.
ЛИТЕРАТУРА
Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. Редакция, коммент. С. Я. Штрайха.– М., 1951.– (Литературные памятники).
Дневник А. В. Якушкиной.– Новый мир, 1964, № 12.
27-го ноября в то самое время, когда служили в Зимнем дворце молебен за здравие императора Александра Павловича, приехал курьер из Таганрога с известием о кончине императора; молебствие прекратилось, духовенство облеклось в черные ризы и стало молиться за усопшего.
По окончании панихиды вел<икий> кн<язь> Николай Павлович, взявши в сторону Милорадовича, бывшего тогда военным губернатором и, по праву своего звания, в отсутствие императора, главноначальствующего над всеми войсками, расположенными в С.-Петербурге и окрестностях столицы, сказал ему: «Гр<аф> Михаил Андреевич, вам известно, что государь цесаревич, при вступлении в брак с кн<яжной> Лович, отказался от права на престол1; вам известно также, что покойный император в духовном своем завещании назначил меня своим наследником»2.
Милорадович отвечал: «Ваше высочество, я знаю только, что в России существует коренной закон о престолонаследии, в силу которого цесаревич должен вступить на престол, и я послал уже приказание войскам присягать императору Константину Павловичу». Таким решительным ответом Милорадович поставил вел. кн. Николая Павловича в необходимость присягнуть своему старшему брату3; за ним присягнули новому императору: вел. кн. Михаил Павлович4, все генералы и сановники, присутствовавшие при молебствии за здравие, а потом за упокой императора Александра Павловича. После чего Милорадович известил Сенат о присяге, принесенной цесаревичу во дворце и всеми войсками.
В Сенате хранилось духовное завещание покойного императора в пользу вел. кн. Николая Павловича, через что на Правительствующий сенат возлагалась обязанность тотчас после смерти Александра Павловича обнародовать последнюю его волю; но Сенат без малейшего прекословия присягнул императору Константину Павловичу, а за ним принесли ту же присягу Государственный совет и вся столица. Затем Милорадович отправил нарочного к московскому военному губернатору кн. Голицыну5 с известием о присяге, принесенной Сенатом, Советом и всем Петербургом императору Константину Павловичу, и приглашал кн. Голицына привести Москву к присяге новому императору. Кн. Голицын после дол-
[406]
гого совещания с начальником 5-го корпуса гр. Толстым сообщил Московскому сенату известия, полученные им из Петербурга; и тут Сенат беспрекословно принес требуемую присягу. За Московским сенатом Москва и вся Россия присягнули императору Константину Павловичу. Один только преосвященный Филарет6, у которого в Успенском соборе хранился снимок с завещания покойного императора, изъявил свое несогласие принести требуемую от него присягу, но кн. Голицын скоро уговорил его не сопротивляться общей мере, принятой во всем государстве.
В тот день, когда присягнули Сенат, Государственный совет и вся столица Константину Павловичу, члены главной думы, кн. Трубецкой, Оболенский и Рылеев собрались у последнего. На этом совещании был также Александр Бестужев (Марлинский), адъютант принца Александра Вюртембергского7. Зная, что новый император заклятый враг всему тому, что хоть сколько-нибудь отзывается свободой мысли, они условились на некоторое время прекратить все действия между членами Тайного общества, находившимися тогда в Петербурге; но скоро потом отречение цесаревича сделалось известным; знали также, что вел. кн. Михаил Павлович и Лазарев8 были отправлены к нему в Варшаву и должны были привезти вторичное отречение. Кн. Трубецкой, Федор Глинка, Якубович, полковник Батеньков9, полковник Булатов и многие другие стали ежедневно собираться у Рылеева; на этих совещаниях было решено воспользоваться двусмысленным положением, в какое были поставлены наследники престола. Все в Петербурге смотрели на это положение с каким-то недоверием и беспокойством. Однажды во дворце г. Шеншин10, командир бригады, состоящей из полков Московского и лейб-гренадерского, подошел к Оболенскому и сказал ему: «Что нам теперь делать? А в теперешних обстоятельствах необходимо на что-нибудь решиться»11.
Шеншин не принадлежал к Тайному обществу, но, вероятно, по сношениям своим с некоторыми из членов он знал о его существовании. Оболенский не почитал себя в праве говорить с ним откровенно и потому дал ему такой ответ, который прекратил начатый разговор.
Всякий день на совещаниях у Рылеева все более и более появлялось стремление приступить к чему-нибудь решительному, и потому был назначен диктатором Трубецкой, полковник Преображенского полка, занимавший
[407]
должность дежурного штаб-офицера при штабе 4-го корпуса и в это время находившийся в отпуску. Ему предоставлялась власть действовать самостоятельно в решительную минуту и распоряжаться средствами Общества и каждым из членов по своему собственному усмотрению. 8 декабря прибыли из Москвы: Пущин и кн. Одоевский12. Пущин служил в Москве надворным судьей; условившись прежде с Рылеевым, Оболенским и некоторыми другими членами, что в случае предстоящего какого-нибудь важного происшествия в Петербурге, каждый из них, где бы он ни был, явится в Петербург, чтобы действовать вместе с товарищами, Пущин уехал из Москвы, несмотря на все нежелание кн. Голицына дать ему отпуск13. Одоевский, корнет конной гвардии, был отпущен во Владимирскую губернию; он ехал в деревню к отцу, с которым давно не видался; проездом через Москву, узнавши, что Пущин едет, и по какому случаю, Одоевский вернулся в Петербург.
По известиям из Варшавы уже знали, что цесаревич не вступил на престол. В это время он был совершенно потерян, не выходил из своего кабинета и никого не принимал. Когда Демидов14, адъютант кн. Голицына привез ему присягу Москвы, он вышел к нему в шинели и, взглянув на пакет, на котором было написано: «его императорскому величеству», возвратил его, не распечатав, и проговорил: «Скажите кн. Голицыну, что не его дело вербовать в цари». Сенат послал из Петербурга в Варшаву с своей присягой обер-секретаря Никитина, известного в то время игрока и шулера. Цесаревич встретил его словами: «Что вам угодно от меня? я уже давно не играю в крепе»,– и ушел. В то же самое время портреты и статуи, изображавшие Константина Павловича, даже самые уродливые, в обеих столицах раскупались нарасхват, тогда как на снимки с прекрасного бюста Николая Павловича никто не обращал внимания.
Все предвещало скорую развязку разыгрываемой драмы. 11 декабря на многолюдном совещании у Рылеева было решено, в случае отречения цесаревича не присягать Николаю Павловичу, поднять гвардейские полки и привести их на Сенатскую площадь. Если бы войска явились на площадь в значительном количестве и никого не было за Николая Павловича, то можно было полагать, что он останется в стороне и в эту минуту нисколько не будет опасен. В надежде на успех был подготовлен манифест, который Сенат должен был обнаро-
[408]
довать от себя и которым созывалась Земская дума, долженствовавшая состоять из представителей всей земли русской. Этой Земской думе предоставлялось определить, какой порядок правления наиболее удобен для России. Пока соберется Дума, Сенат должен был назначить временными правителями15 членов Государственного совета: Сперанского, Мордвинова и сенатора И. М. Муравьева-Апостола. При временном правительстве должен был находиться один избранный член Тайного общества и безослабно следить за всеми действиями правительства.
Декабря 12-го поутру собрались депутаты от полков к Оболенскому. На вопрос его: сколько каждый из них уверен вывести на Сенатскую площадь, они все отвечали, что «не могут поручиться ни за одного человека». Было положено, что каждый выведет столько, сколько для него будет возможно. Того же числа вечером на совещании у Рылеева был Ростовцев16, теперь начальник штаба военно-учебных заведений при наследнике, а тогда бывший ревностным членом Общества и товарищем Оболенского; они оба были адъютантами при Бистроме17, начальнике гвардейской пехоты. Ростовцев объявил в присутствии всех бывших членов на совещании, что он обязан лично и особенно благодарностью вел. кн. Николаю Павловичу и что, предвидя для благодетеля своего опасность, он решился идти от них прямо к вел. князю и умолять его не принимать престола. Все увещания товарищей отложить такое странное намерение оказались тщетными. Ростовцев отправился во дворец. На другой день он доставил Рылееву бумагу с заглавием: «прекраснейший день моей жизни», и в которой было описано свидание его с вел. князем. Он объявил Николаю Павловичу, что ему предстоит великая опасность, для избежания которой он, как человек ему преданный, умоляет его не вступать на престол; вел. князь принял его ласково и, не расспрашивая о подробностях предстоящей опасности, отпустил его. Вероятно, будущему императору в эти минуты было не до остережений юноши, хотя ему преданного, но которого воображение, очевидно, было весьма взволнованно.
Милорадовичу доносила полиция, что в доме американской компании, где жил Рылеев, ежедневно собирались разные лица; Милорадович, зная, что Рылеев и Александр Бестужев – издатели «Полярной Звезды», полагал, что у Рылеева собираются литераторы, и пото-
[409]
му не обратил никакого внимания на донесение полиции.
Декабря 13-го, вечером, в значительном количестве и в последний раз, собрались члены Общества у Рылеева; уже знали, что завтра войска должны быть приведены к присяге. На этом совещании полковник Булатов обещал вывести лейб-гренадерский полк, в котором он сперва служил; Александр Бестужев и Якубович обещались рано утром отправиться в Московский полк, где Михаил Бестужев18 и князь Щепин-Ростовский19 были ротными командирами, оба члены Тайного общества; выведя этот полк, Бестужев и Якубович должны были идти с ним в артиллерийские казармы на Литейный, забрать артиллерию и привести все войско на Сенатскую площадь. Между офицерами пешей артиллерии было несколько членов Общества, на содействие которых можно было рассчитывать. Другие члены, бывшие на совещании, должны были отправиться в разные полки с попыткой вывести их. В этот вечер было говорено также, что в случае неудачи можно будет с войсками, выведенными на Сенатскую площадь, отступить к Новгороду и поднять военные поселения. Каховский прежде еще дал слово Рылееву, если Николай Павлович выедет пред войска, нанести ему удар; но Александр Бестужев после, наедине с Каховским, уговорил его не пытаться исполнить данное им обещание Рылееву. Переговоры эти между Каховским и Рылеевым, а потом между Бестужевым и Каховским были совершенно не известны прочим членам, бывшим в этот вечер у Рылеева на совещании.
Рано утром 14-го Александр Бестужев заехал к Якубовичу с тем, чтобы вместе с ним ехать в Московский полк. Якубович сказал ему: «Такое предприятие несбыточно; ты – молодой человек, не имеешь никакого понятия о русском солдате, а я знаю его вдоль и поперек» и пр. Якубович был великий хвастун и при всяком случае отпускал самые отчаянные фразы, не имея при том никакого политического убеждения, но на Кавказе он служил отлично; Ермолов не раз давал ему важные и весьма опасные поручения; он там прославился смелыми своими набегами на горцев. Спустя двенадцать лет Розен20, один из наших, переведенный из Кургана, где он был поселен, рядовым на Кавказ, писал оттуда, что многие линейные казаки еще помнят Якубовича и рассказывают про его удалые подвиги.
[410]
Александр Бестужев отправился один в казармы Московского полка, где все было уже готово к присяге: на дворе были выставлены знамена и налои. Бестужев пробежал прямо в роту своего брата, которая уже была в сборе, и начал уверять солдат, что их обманывают, что цесаревич никогда на отрекался от престола и скоро будет в Петербурге, что он его адъютант и отправлен им нарочно вперед и т. д., после чего с теми же словами он отправился в роту Щепина. Скоро потом роты получили приказание выходить для принесения присяги. Александр Бестужев последовал за ними, и когда оба батальона выстроились, он продолжал громко и смело уверять солдат, что их обманывают. Генерал Фридрикс21, полковой командир Московского полка, подошел было к Александру Бестужеву с строгим видом, но Бестужев из-под шинели показал ему пистолет, и Фридрикс удалился. Затем Щепин, взявши флангового за руку, двинулся к воротам, и за ним все ринулось. Фридрикс пытался было остановить движение, но Щепин поразил его своей шашкой, и тот не устоял на ногах. Бригадный командир Шеншин и полковник Московского полка Хвощинский подверглись той же участи. Щепин изрубил их нещадно. Вышедши из казарм, Александр Бестужев повел свое войско прямо на Сенатскую площадь. При полку из офицеров шли только Щепин и Михаил Бестужев.
Якубович жил на Гороховой; завидя Александра Бестужева впереди Московского полка, он вышел к нему навстречу с обнаженной саблей, на конце которой красовалась его шляпа с белым султаном. Александр Бестужев, хотя был старее его чином, опустил перед ним саблю и передал ему начальство над войском. Якубович повел это войско на Сенатскую площадь, где оно и построилось тылом к Сенату, Галерной и Синоду. Вскоре потом Якубович сказал Бестужеву, что он чувствует сильную головную боль и исчез с площади. У него была жестокая рана на лбу, почему он всегда носил черную повязку. Потом он стоял в толпе около императора, с какою целью – никому не известно.
Пущин и Рылеев приезжали утром на сборное место, но, не нашедши там никаких войск, отправились в казармы Измайловского полка. На пути они встретились с мичманом Чижовым22, только что вышедшим из казарм; он их уверил, что никакая попытка поднять Измайловский полк не может быть удачна. Они возвратились вспять: на этот раз нашли на сборном месте двух
[411]
Бестужевых и Щепина впереди солдат. Пущин примкнул к ним, а Рылеев сказал, что он отправится в Финляндский полк, и потом никто уже его более не видал. Рылеев, отставной поручик артиллерии, страстно любил Россию и в душе был поэт; вступивши в Тайное общество, он всегда был готов служить ему и словом и делом, но в решительную минуту он потерялся23, конечно, не из опасения за жизнь свою: на эшафот он взошел прекрасно и все в нем доказывает, что смерть не была для него нежданной гостьей.
Оболенский поутру приезжал также на сборное место, когда еще там ничего не было, потом он приехал вторично и, нашедши уже Московский полк, он отправился в Преображенские казармы к конноартиллеристам. Тут, при входе в казарму, стоял полковник Пистолен-Корс24 с обнаженной саблей и никого не пропускал к солдатам. Оболенский спросил у него именем своего начальника, что у него делается? Полковник сказал, что было небольшое беспокойство, но которое наверно не будет иметь никаких дальнейших последствий. Граф Коновницын и Малиновский25, офицеры конной артиллерии и оба члены Общества, в это время сидели под арестом. Пока Оболенский говорил с Пистолен-Корсом, юнкера из казармы подавали ему разные знаки. Не видя возможности к ним пробраться, он вернулся на площадь и присоединился к товарищам.
В пешей артиллерии было так же, как и в конной, некоторое беспокойство: князь Алекс. Голицын26 и другие офицеры, члены Общества, не хотели присягать. Полковник Сумароков27 посадил их под арест, и движение, проявившееся между солдатами, прекратилось28.
На Сенатской площади многие из членов Общества присоединились к товарищам. Глебов29, служивший в министерстве финансов, переносил им известия, слышанные им в народе. Вильгельм Кюхельбекер, издатель «Мнемозины»30, самый благонамеренный из смертных, но вместе с тем самый неловкий в своих движениях, расхаживал с огромным пистолетом. Бестужев из предосторожности ссыпал у него порох с полки. Репин31, поручик Финляндского полка, приходил на короткое время; батальон его был расположен за городом и сам он попал случайно в Петербург. Каховский все время с двумя заряженными пистолетами и кинжалом стоял перед фронтом или в рядах. Смоленский помещик, проигравшись и разорившись в пух и прах, он приехал в Петер-
[412]
бург в надежде жениться на богатой невесте; дело это ему не удалось. Сойдясь случайно с Рылеевым, он передался ему и Обществу безусловно. Рылеев и другие товарищи содержали его в Петербурге на свой счет32,
Граф Граббе-Горский33, поляк с георгиевским крестом, когда-то лихой артиллерист, потом вице-губернатор, а в то время, находясь в отставке, был известен как отъявленный ростовщик. Он не принадлежал к Тайному обществу и даже ни с кем из членов не был близок. Проходя через площадь после присяги в мундире и шляпе с плюмажем, по врожденной ли удали, или по какому особенному ощущению в эту минуту, он стал проповедовать толпе и возбуждать ее; толпа его слушала и готова была ему повиноваться. В это время тысячи народа толпились около набережной Исаакиевского собора и по другим местам площади.
Командир гвардейского корпуса Воинов34, узнавши о беспорядках Московского полка, приехал верхом на Сенатскую площадь, но не мог добраться до солдат Московского полка; народ, возбужденный Граббе-Горским, разобрал дрова, сложенные у Исаакиевского собора, и принял корпусного командира в поленья.
С общего совета, Оболенский со стрелками выступил вперед на небольшое расстояние от колонны Московского полка; в это время он увидел Милорадовича, верхом подъезжавшего с другой стороны к колонне. Оболенский тотчас стянул своих стрелков, схватил солдатское ружье и кричал Милорадовичу, умоляя его не подъезжать к солдатам, но Милорадович был в нескольких шагах от них и начал уже приготовленную на случай речь. Тут Каховский выстрелил в него из пистолета, пуля попала ему в живот. Он схватил рану рукой, причем лошадь его быстро повернулась и бросилась на Оболенского. Оболенский ткнул Милорадовича штыком, лошадь и раненный на ней всадник исчезли в толпе.
Милорадович не долго жил после полученной раны. Николай Павлович навестил его перед самой кончиной и, выходя от него, сказал своим приближенным: «Он сам во всем виноват!»
Конногвардейский полк, первый пришедший на защиту нового императора, обошел окольным путем площади Сенатскую и Исаакиевскую, выстроился правым флангом к Неве, а тылом к бульвару Адмиралтейства. Командир этого полка, генерал Орлов35, теперь граф и шеф жандармов, выслал сперва фланкеров36 против стрел-
[413]
ков, но безуспешно, а потом пробовал атаковать самую колонну Московского полка, в которой не было ни дивизионных, ни взводных начальников, но солдаты сами, видя идущую на них кавалерию, мгновенно построились в каре и батальонным огнем, при помощи народа, кидавшего в атакующих чем попало, отразили конногвардейцев; впрочем, конногвардейцы по свидетельству очевидцев, шли вяло и неохотно в атаку. После такой неудачной попытки конногвардейский полк в продолжение целого дня оставался на своем месте без малейшего движения. Вскоре потом коннопионерный эскадрон, получивший приказание выстроиться на Английской набережной, бог знает по чьему приказанию, пустился рысью и справа по три между каре Московского полка и Сенатом; солдаты, думая, что коннопионеры идут в атаку, открыли по ним батальонный огонь. Напрасно все бывшие офицеры кричали своим солдатам не стрелять; один Пущин, давно снявший военный мундир, в эту минуту, к счастью, нашелся, он закричал барабанщику: бей отбой, барабанщик ударил отбой, и стрельба прекратилась. Между тем Коновницын, конноартиллерист, освободившийся как-то из-под ареста, скакал верхом к Сенату и встретил Одоевского, который недавно сменился с внутреннего караула и ехал к лейб-гренадерам с известием, что Московский полк давно на площади. Коновницын поехал вместе с ним. Приехавши в казармы и узнавши, что лейб-гренадеры присягнули Николаю Павловичу и люди были распущены обедать, они пришли к Сутгофу37 с упреком, что он не привел свою роту на сборное место, тогда как Московский полк давно уже там. Сутгоф, прежде про это ничего не знавший, без дальних слов отправился в свою роту и приказал людям надеть перевязи и портупеи и взять ружья; люди повиновались, патроны были тут же розданы, и вся рота, беспрепятственно вышедши из казарм, отправилась к Сенату. В это время случившийся тут батальонный адъютант Панов38 бросился в остальные семь рот и убеждал солдат не отставать от роты Сутгофа: все семь рот, как по волшебному мановению, схватили ружья, разобрали патроны и хлынули из казарм. Панова, который был небольшого роста, люди вынесли на руках. Угрозы, а потом увещания полкового командира Стюллера39 не произвели никакого действия на солдат. Панов повел их через крепость; в это время он мог бы овладеть ею, и, выйдя на Дворцовую набережную, повернул было во
[414]
дворец, но тут кто-то сказал ему, что товарищи его не здесь, а у Сената и что во дворце стоит саперный батальон. Панов пошел далее по набережной, потом повернул налево и, вышедши на Дворцовую площадь, прошел мимо стоявших тут орудий, которые, как говорили после, он мог бы захватить. В продолжение всего этого времени Стюллер шел с своим полком и не переставал уговаривать солдат вернуться в казармы; когда лейб-гренадеры поравнялись с Московским полком, Каховский выстрелил в Стюллера и смертельно его ранил. Стюллер был природный швейцарец; в 11-м году Лагарп40 прислал его в Россию и письменно просил у царственного своего воспитанника, императора Александра покровительства своему земляку. Стюллер был определен поручиком в Семеновский полк. Человек он был неглупый и замечательно храбрый, но, впрочем, истый кондотьери41. По-русски говорил он плохо и был невыносимый педант по службе; ни офицеры, ни солдаты не любили его; зато он сам страстно любил деньги.
На Сенатской площади лейб-гренадеры построились налево и несколько вперед от Московского полка. Одоевский присоединился к товарищам незадолго до прибытия лейб-гренадер.
Почти в одно время с происшествием в лейб-гренадерских казармах происходило подобное в Гвардейском экипаже. Генерал Шипов42, полковой командир Семеновского полка и начальник бригады, в состав которой входил Гвардейский экипаж, был в их казармах. Шипов, незадолго перед тем ревностный член тайного общества и человек совершенно преданный Пестелю, нашел в эту минуту для себя удобным разыграть роль посредника перед офицерами Гвардейского экипажа, не желавшими присягать. Он им ничего не приказывал как их начальник, но умолял не сгубить себя и доброе дело, уверял, что безрассудным своим предприятием они отсрочивают на неопредленное время исполнение того, что можно ожидать от императора Николая Павловича. Все его убеждения остались тщетными: офицеры сказали ему решительно, что они не присягнут, и сошли к солдатам, их ожидавшим. Лейтенант Кюхельбекер43 закричал: «Ребята, вперед, наших бьют!» В это время послышались выстрелы, надо полагать, по коннопионерам, и весь экипаж двинулся, как одна душа. На площади экипаж выстроился направо от Московского полка и выслал своих стрелков под начальством лейтенанта Мих. Кю-
[415]
хельбекера. С Гвардейским экипажем, кроме ротных командиров Кюхельбекера, Арбузова44, Пущина, пришло два брата Беляевы45, Бодиско46, Дивов47 и капитан-лейтенант Николай Бестужев, родной брат Александра и Михаила Бестужевых; он не принадлежал к Гвардейскому экипажу.
В Финляндском полку было много офицеров, принадлежащих к Тайному обществу. Поручик Репин служил в батальоне, который, как сказано было выше, квартировал за городом. Этот Репин был человек замечательно неглупый, и может быть слишком неглупый для того, чтобы вполне увлечься и решиться на безысходную крайность, как какой-нибудь Александр Бестужев, Сутгоф или Панов.
Он часто говаривал, что большая часть храбрецов не знает, что пуля до смерти бьет, и конечно, сам не принадлежал к такому разряду глупцов. Полковник Митьков48, на которого при этих обстоятельствах можно было бы вполне положиться, зная его честность и личную храбрость, находился тогда в Москве в отпуску. Полковникам Тулубьеву49 и Моллеру50 накануне было предложено вывести за собой Финляндский полк; но они оба не без явного смущения отвечали, что исполнение такого предприятия было невозможно и оно решительно было им не по силам. Поручик Розен, честнейший немец и во всем преданный товарищ, не пришел, однако, на площадь; может быть, он надеялся, оставшись при полку, действительнее споспешествовать начатому предприятию своих товарищей.
Во многих других гвардейских полках между офицерами было по нескольку членов Тайного общества, но ни в одном из этих полков не произошло никакого значительного движения. Чевкин51, офицер генерального штаба, генерал-сенатор, и не бывший ни на одном из последних заседаний у Рылеева, 14-го рано утром пришел в первый батальон Преображенского полка и начал уговаривать солдат не присягать Николаю Павловичу. Фельдфебель той роты, в которой Чевкин начал свою проповедь, схватил его и посадил под караул.
В кавалергардах было более офицеров, принадлежащих к Тайному обществу, нежели в каком-нибудь другом полку, но и тут присяга не ознаменовалась ни малейшим движением ни между офицерами, ни между солдатами. Васильчиков52 незадолго, а Свистунов53 накануне уехали в Москву. Полковник Ланской54, Аннен-
[416]
ков55, Александр Муравьев, Депрерадович56, Арцыбашев и многие другие были во фронте при полку, когда он был выведен против войск, стоявших у Сената. Преображенский полк из присягнувших пеших полков пришел первым на место своего назначения и выстроился перед дворцом лицом к Московскому полку, потом он был подвинут вперед. Царь, подъехав к преображенцам, спросил у солдат: хотят ли они делать свое дело? Солдаты отвечали: рады стараться! Затем он громко скомандовал: Рукавицы долой! – и приказал зарядить ружья.
Пешая артиллерия пришла еще не поздно днем, но без зарядов; за зарядами послали уже потом и привезли их вечером. Батарея из орудий была поставлена вперед от Преображенского полка. Полки Семеновский и Павловский пришли после Преображенского полка. Павловский стал тылом к дому Лобанова, Семеновский расположился за канавой, идущей мимо конногвардейского манежа. Другие полки стояли по главным улицам, идущим к площадям Дворцовой, Исаакиевской и Петровской. Лейб-гусарский полк стоял на Царскосельской дороге у средней рогатки.
На площади народ волновался и был в каком-то ожесточении. Завидя флигель-адъютанта полковника И. Г. Бибикова57, проходившего в одном мундире через площадь, народ бросился на него и смял его. Вероятно, флигель-адъютант поплатился бы жизнью за свой мундир, если бы Мих. Кюхельбекер не подоспел к нему на помощь. Кюхельбекер уговорил народ, увел его за цепь, дал ему свою шинель и выпроводил его в другую сторону.
Якубович, уже несколько часов стоявший недалеко от императора, смело подошел к нему и просил позволения пойти к бунтовщикам и уговорить их положить оружие. Получив дозволение, он привязал свой носовой платок на обнаженную саблю и отправился к цепи парламентером; но, подошед к Кюхельбекеру, он сказал вполголоса: «Держитесь, вас жестоко боятся»,– и удалился.
Вскоре потом С.-Петербургский митрополит Серафим58, во всем облачении и окруженный духовенством, приблизился к цепи для увещания солдат; Мих. Кюхельбекер, лютеранин, подошел к нему под благословение и шепнул ему на ухо: «Батюшка, убирайтесь, здесь вам не место»,– и высокопреосвященный удалился.
[417]
После митрополита вел. кн. Михаил Павлович, только что возвратившийся из Варшавы, подъехал к стрелкам и спросил у Кюхельбекера, может ли он говорить с войском и не будут ли по нем стрелять. Кюхельбекер поручился ему головой, что жизнь его высочества вне опасности. Великий князь поехал далее, а Кюхельбекер в каком-то восторженном расположении духа взял его за колено, шел возле его лошади и сказал: «Вот оно настоящее, ваше высочество!» Михаил Павлович подъезжал к Московскому полку, лейб-гренадерам и экипажу, говорил офицерам и солдатам, что он прямо из Варшавы, что цесаревич отрекся от престола и что им теперь нет никакой причины отказываться от присяги императору Николаю Павловичу; умолял их возвратиться в свои казармы, но офицеры и солдаты молчали, и великий князь уехал от них ни с чем.
Через народ беспрестанно передавались обещания солдат полков Преображенского, Павловского и Семеновского, по наступлении ночи, присоединиться к войскам, стоявшим на Сенатской площади; а между тем наступил уже вечер, люди перезябли, с обеих сторон чувствовалась необходимость приступить к решительному действию.
На Сенатской площади целый день и ежеминутно ждали прибытия диктатора; он один имел право действовать самостоятельно и по собственному своему усмотрению; но диктатор не явился принять вверенное ему начальство над войсками. Трубецкой, отлично добрый, весьма кроткий и неглупый человек, не лишен также и личной храбрости, что он имел не раз случай доказать своим сослуживцам. Под Бородином он простоял 14 часов под ядрами и картечью с таким же спокойствием, с каким он сидит, играя в шахматы. Под Люценом, когда принц Евгений, пришедший от Лейпцига, из 40 орудий громил гвардейские полки, Трубецкому пришла мысль подшутить над Боком59, известным трусом в Семеновском полку: он подошел к нему сзади и бросил в него ком земли; Бок с испугу упал. Под Кульмом две роты третьего батальона Семеновского полка, не имевшие в сумках ни одного патрона, были посланы под начальством капитана Пущина, но с одним холодным оружием и громким русским ура прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Трубецкой, находившийся при одной из рот, несмотря на свистящие неприятельские пули, шел спокойно впереди солдат, размахивая шпа-
[418]
гой над своей головой. Но при всей личной храбрости Трубецкой – самый нерешительный человек во всех важных случаях жизни, и потому не в его природе было взять на свою ответственность кровь, которая должна была пролиться, и все беспорядки, непременно следующие за пролитой кровью в столице. 14 декабря, узнавши, что Московский полк пришел на сборное место, диктатор совершенно потерялся и, присягнувши на штабе Николаю Павловичу, он потом стоял с его свитой60.
Никто из членов Общества, находившихся с утра на площади, не почитал себя в праве, в отсутствие Трубецкого, заступить его место; каждый из них готов был повиноваться и даже умереть за доброе дело, но ни один не был способен на то, чтобы вызваться принять начальство и приступить к решительным мерам. Уже вечером, с общего согласия, был выбран в главные начальники Оболенский; по принятии начальства первым его распоряжением было собрать товарищей для военного совета. Пока собирался этот военный совет, подскакал к войскам г. Сухозанет61; он решительно требовал, чтобы они положили оружие, и объявил, что в случае неповиновения по них тотчас будут стрелять. Сухозанету отвечали насмешками, и кто-то закричал, чтоб он прислал почище себя. Сухозанет ускакал, вынув из шляпы султан, что было условленным знаком между им и пославшим его. Артиллерия грянула, но на этот раз холостыми зарядами; второй залп картечью был метко направлен в колонны. Все дрогнуло и побежало. По войскам, бежавшим по канаве, Галерной и Неве, стреляли еще несколько раз картечью. Семеновский полк также пустил батальонный огонь по бежавшим мимо его.
Из двадцати или более членов Тайного общества, спасавшихся вместе с солдатами, ни один не был убит, ни даже ранен. На другой день сестра Пущина зашивала ему шубу, пробитую во многих местах картечью.
Когда все умолкло, войска, присягнувшие новому императору, расположились на назначенных им местах, зажгли огни и так провели ночь. Корнилович62, свитский офицер, недавно приехавший из Могилева и принятый там в Тайное общество, в продолжение всего дня ни paзy не явился на Сенатскую площадь, но ночью он прокрался в Преображенский полк и пытался поднять солдат; его схватили и отвели во дворец63. Сутгоф и Панов были захвачены, когда лейб-гренадеры, расстрелянные картечью, бежали.
[419]
14-го ночью многие из членов Тайного общества, бывших и не бывших на Сенатской площади, были арестованы. Их привозили в Зимний дворец к дежурному генерал-адъютанту, который отсылал их на главную гауптвахту: там их раздевали, осматривали, одевали опять и перед тем, чтоб вести к допросу, вязали им руки за спину. Такой порядок продолжался еще несколько дней после 14 декабря.
В Тульчине начались аресты в тот же день, как и в Петербурге. 14 декабря Пестель был уже арестован64. Через некоторое время после кончины императора Александра Павловича начальник его штаба, генерал Дибич, разбирая бумаги покойного императора, нашел в них доносы Шервуда65 и Майбороды66; в них были названы: Пестель и другие члены Общества. Дибич тотчас отправил генерал-адъютанта Чернышева во вторую армию. По приезде Чернышева в Тульчин, Пестеля, по приказанию главнокомандующего, потребовали в главную квартиру; некоторое время он колебался и помышлял вместо того, чтобы повиноваться приказанию, идти с Вятским полком, которого он был командиром, в Тульчин: арестовать там главнокомандующего графа Витгенштейна, начальника его штаба Киселева67, Чернышева и пр. и поднять знамя восстания; но кончилось тем, что он сел в коляску и поехал в Тульчин, где его тотчас же и арестовали. После чего Чернышев вместе с Киселевым отправились в штаб-квартиру Вятского полка, где они забрали и запечатали все бумаги Пестеля, потом арестовали майора Вятского полка Лорера.
По учреждении следственного комитета в Петербурге аресты производились повсеместно. В Петропавловской крепости и дежурстве содержалось, говорили, более 500 человек, из которых некоторые не принадлежали Тайному обществу, но зато сколько и членов Общества, известных даже комитету, которые не были арестованы.
[420]
НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ ЦЕБРИКОВ
(1800–1862)
Среди декабристов были не только люди, знаменитые теперь на всю Россию – жертвы царских палачей, поэты, «сибиряки»-ссыльные, оставившие глубочайший след в истории культуры, но и личности незаметные, даже на первый взгляд посредственные, по стечению обстоятельств – тоже только на первый взгляд – вставшие в ряды восставших и тем навсегда переменившие благополучное, «естественное» течение своей жизни. К числу таких принадлежит Николай Романович Цебриков.
В мемуарных источниках он оказывается даже персонажем некоего анекдота. Мол, приехал он в Петербург, в свой пехотный гвардейский полк незадолго до 14 декабря, знать не зная ни о каких заговорах. Вышел в тот памятный день из дому: слышит выстрелы; видит пехоту, врассыпную убегающую от кавалерии; по офицерской привычке кричит: «Рота! В каре против кавалерии стройся!» и организует сопротивление наступающим. На беду, рота оказалась мятежная, а кавалерия царская. Есть еще более безобидный вариант легенды. Цебриков и сказал-то всего-навсего: «Вперед, карабинеры!» А доносчики и сочинители анекдотов переиначили его слова: «вперед, карбонарии!» Вот будто бы и весь «состав преступления» Цебрикова, на всю жизнь превратившего его в изгоя. Да и дальнейшая его жизнь предстает у мемуаристов своего рода историческим анекдотом, а не самой историей. Поселился он в 1850-х годах у товарища по ссылке князя В.М. Голицына на правах управляющего имением, а по существу чуть ли не приживала. Молодежь, собиравшаяся в доме, не изведав ни тюрьмы, ни ссылки, ни вообще каких-либо лишений, бывало, спрашивала его: «Вы видали Рылеева, Николай Романович?» «Позвольте,– якобы отвечал он,– как же не видать?
[421]
Вот сижу я в крепости, мне приносят обедать, дверь растворилась настежь, вижу мимо моей двери два жандарма ведут человека с завязанными глазами. Я <…> спросил, кого это провели. Говорят: «Рылеева».
На самом деле все не так. Николай Романович был по существу – если не формально – принят А. А. Бестужевым в тайное общество, с Рылеевым был хорошо знаком, на Сенатской площади оказался не случайно, да и в дальнейшем – поведением на допросах, службой на Кавказе и даже участием в общественном движении 1860-х годов доказал, что декабристом он был отнюдь не «анекдотичным»…
Отец Цебрикова Роман Максимович был образованным человеком: окончил Лейпцигский университет, служил переводчиком, не чурался вольтерьянских идей. Детям он оставил не состояние, а добрую память о себе и чистую совесть. Старшего сына, Николая, отдал в Горный институт, имея в виду «великую важность для России горного дела, которое должно расти и шириться». Однако после ранней смерти родителей (1817) Николай Романович по настоянию опекунши, сестры матери – В. А. Княжниной, оставил горное дело и перешел на службу сначала в артиллерию, а потом в гвардейский Финляндский полк. Служилось ему скверно: муштра, плац-парады, как, впрочем, и гвардейские кутежи-дебоши,– все было не по нем. За восемь лет воинских стараний он не продвинулся дальше поручика. В послужном списке сказано: повышения недостоин «за дурное поведение по службе и беспокойный характер». Кстати сказать, небрежение к службе не мешало Цебрикову знать всех солдат вверенной ему роты по именам и пользоваться у них уважением.
Стоило А. А. Бестужеву намекнуть ему о существовании тайного общества, Цебриков вспыхнул, как спичка. На вечернем собрании у братьев Беляевых, рассказывает декабрист Д. И. Завалишин, «я увидел вбежавшего офицера Финляндского полка, который начал изливать досаду свою в самых странных заклинаниях и хулениях. Я спросил: «кто это?» Мне отвечали: «Цебриков». Он участвовал в совещаниях и накануне восстания, и ранним утром 14 декабря, получив задание «бунтовать Финляндский полк». «Пылкий до сумасбродства и либерал в душе»,– так о нем вспоминали. Что касается анекдотов, то их уж потом придумали, как бы проецируя странную внешность и поведение Николая Романовича в его поздние – после
[422]
тюрьмы, Сибири, солдатчины – годы на его декабристское прошлое.
Метод защиты, выбранный Цебриковым на следствии, мало кем другим из декабристов был применен. Он заключался в полном запирательстве – отрицании своего участия в деятельности тайного общества в какой бы то ни было форме. «Как же объяснить его приход на площадь?» «Только любопытством»,– настаивал Цебриков. Зато и намучился он в нижних казематах Алексеевского равелина, самом гиблом месте Петропавловской крепости, три месяца и 19 дней в кандалах. Испрашивая у царя разрешения на эту меру, Следственный комитет так аттестовал Цебрикова: «оказал не только явное упорство в признании, но еще в выражениях употреблял дерзость, забыв должное уважение к месту и лицам, составляющим присутствие». Однако он по-прежнему твердо вел свою линию на допросах и очных ставках с братьями Беляевыми, солдатами, матросами, хорошо его знавшими. В ответах напирал на свою преданность престолу и отечеству, но никаких показаний ни на кого не давал. Правда, надо сказать, что и А. Бестужев, и Пущин, и Рылеев, и Трубецкой утверждали на допросах, что Цебриков к тайному обществу не принадлежал и ни к каким противоправным действиям не причастен. Так и не удалось следователям доказать его участие в тайном обществе. Ограничились констатацией присутствия на площади на стороне восставших. Один из членов Следственной комиссии сказал Цебрикову: «Из вас надо жилы тянуть». Тот спокойно отвечал: «Это будет тиранство».
Николай I хорошо запомнил этого упрямца и отомстил ему: Цебриков был осужден по XI разряду. Для всех это значило: «лишить только чинов с написанием в солдаты с выслугой. Распределить в дальние гарнизоны». Однако в приговоре преступникам XI разряда было сделано особое дополнение: «Цебрикова по важности вредного примера, поданного им присутствием его в толпе бунтовщиков в виду его полка, как недостойного благородного имени, разжаловать в солдаты без выслуги и с лишением дворянства».
Попал Николай Романович сперва в Оренбургский гарнизон. Здесь, если верить мемуаристам (Н. И. Лорер), подстерегало его новое приключение. Был он молод и собой недурен, и влюбилась в него жена майора – непосредственного начальника по службе. Сей последний, проведав об этом, пришел в ярость и, ничтоже сумняше-
[423]
ся, хотел солдата высечь. Цебрикову удалось объяснить, что он не просто солдат, а государственный преступник, коего сечь не положено. Как бы то ни было, скоро из Оренбурга он был отправлен в полевой полк Кавказского корпуса «до отличной выслуги». Сражался он геройски, заслужив солдатский Георгиевский крест; не раз выносил на себе из боя раненых товарищей. С офицерами мало общался, а с солдатами был свой брат, ни внешне, ни в разговоре от них не отличаясь. Уже в 1828 г. за храбрость в сражении против турок произведен был в унтер-офицеры; в 1837 г.– в прапорщики, а в 1840 г., получив право на первый офицерский чин, по болезни уволен от службы с учреждением над ним полицейского надзора.
С тех пор начались мытарства Николая Романовича в поисках пристанища (въезд в основные, не говоря уже о столичных, губернии был ему запрещен), заработка, службы. Только в 1854 г. впустили его в Тульскую губернию, где он управлял чужим имением, а в 1855-м – и в столицы с освобождением от надзора. Одно время он занимал мелкие чиновничьи должности, но к 1860 г. остался без работы и средств к существованию. Возможно тому виной его общественные взгляды, которых он не хотел и не умел скрыть. 31 мая 1859 г. он писал старому товарищу-декабристу Е. П. Оболенскому: «Россия, в том положении, в каком она находилась и находится до сих пор, без преувеличения можно сказать, что испускает смрад от крепостного права помещиков и живой раны русского хозяйства – барщины, перещеголявшей участь самих негров на плантациях Южной Америки. Там в теперешнее время негр работает сытый. У нас, у многих помещиков, крестьяне работают голодные и в урожайный и в неурожайный годы <…> У нас еще не настало время этого возрождения патриотизма, чтоб несколько сот лиц решились бы по всей России пойти научить освободившихся крестьян на свободу их обязанностям и правам. Не позволит этого и милое правительство; а то, какой хотите, заведите журнал – орган, все это не пойдет к делу. С безграмотными надо говорить, и говорить их языком, им понятным».
Между тем, хотя Цебриков и не имел семьи, у него был незаконный сын, которому он мечтал дать образование. Надо было как-то «трудоустраиваться». Помог старый знакомец семьи Цебриковых, писатель Иван Сергеевич Тургенев. Он обратился к своей приятельнице, крупной помещице графине Е. Е. Ламберт: «…посылаю вам
[424]
при сем аттестат человека, который желал бы получить место управляющего большим имением. Этот человек – Цебриков Николай Романович – бывший декабрист, но уже давно прощенный и бывший на службе; за его абсолютную рыцарскую честность я ручаюсь головой – а за его способности говорит прилагаемый аттестат». Просьба Тургенева была удовлетворена – Цебриков получил последнюю в своей жизни должность.
Много лет Николай Романович собирал в особый «мемуарный мешок» свои заметки о пережитом, разные документы и письма друзей. В 1861 г. Герцен напечатал в Лондоне («Полярная звезда», кн. 6) воспоминания безымянного декабриста, часть которых читатель найдет и в этом сборнике. Но уже в 1862 г. Герцен смог раскрыть тайну анонима, посвятив памяти Цебрикова некролог: «…Знакомые Цебрикова говорят, что он сохранил – и это черта, общая декабристам – необыкновенную молодость и свежесть убеждений. Несмотря на свои седые волосы, пишут нам, он остался юношей между благоразумной молодежью, которая не хочет гибнуть даром. На просьбу родственников, чтоб он остерегался шпионов, Цебриков отвечал всегда, что смешно в шестьдесят лет щадить остаток жизни, когда он не щадил ее в двадцать пять».
Таким, под старость, остался Николай Романович Цебриков, «рядовой декабристского корпуса», не совершивший громких подвигов, не написавший блестящего сочинения, а все же сохранившийся в памяти потомства как человек, чистыми руками прикасавшийся к самой истории.
ЛИТЕРАТУРА
Восстание декабристов. Материалы. Т. II.– М.– Л., 1926.
Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1–2.–М., 1931.
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Письма. Т. IV.– М., 1987 (по указателю).
ВОСПОМИНАНИЯ О КРОНВЕРКСКОЙ КУРТИНЕ
(Из записок декабриста)
В С.-Петербурге, в Петропавловской гранитной крепости,– Кронверкской куртине предстоит очень важная роль в истории. Там содержались наши пять Мучеников! В настоящее время1 ров Кронверкской куртины, в котором повешены были наши пять Мучеников, перекопан и проведена вода с Невы, а гласис2, прилегавший к Кронверкскому рву, срыт, и на нем разведен английский парк, выстроен огромный арсенал, обведенный кругом бастионом с выставленными вперед отдельными редутами, и вместо рвов, отделяющихся от парка, везде широкая канава, наполненная водой.
Когда я был в начале января 1826 года приведен в казематы этой куртины, то еще в них плотники пристраивали к каждому окну по крошечной комнате, четыре шага в диаметре, так что в каждом каземате под сводом было три комнаты или три номера: один был пристроен трапецией к окну шестиаршинной стены – ко внешней стороне крепости, и два номера – к окнам внутренней. На каждом таком своде стоит по пушке на гнилых лафетах и платформах.
В первом номере этой куртины содержался тогда Кондратий Рылеев, впоследствии переведенный оттуда; а на место его был посажен покойный Михайло Орлов, брат теперешнего председателя Государственного совета князя Алексея Орлова.
Раз мне принесли обед, и как нас кормили весьма мерзко, и аппетит совсем не проявлялся на эти кушанья, то в ожидании его я принялся рассматривать оловянные тарелки и на одной из них я нашел на обороте очень четко написанные гвоздем последние стихи Рылеева3:
Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за Отчизну.
Подобные железы не замедлили и мне надеть; и в них я находился три месяца и девятнадцать дней! В высочайшем указе сказано было, что за грубость великому князю Михаилу Павловичу, который на меня кричал вместе с уродцем Дибичем и еще в живых находящимся Адлербергом4, когда меня привели пред тайный комитет5, впоследствии переименованный в следственную комис-
[426]
сию. Что мне было отвечать перед этими витязями? Я молчал, а требовали показаний. Право, было бы мне не легче, если б еще пострадали со мной другие (которые единственно остались не тронутыми оттого, что я сознавал очень не благоразумным и малодушным всякое подобное показание. Эти господа в день 14 декабря были у Репина: Базин6, Гольтгоер7 и Очкин8. В настоящее время первые два генералы, а последний – статский советник и второй редактор «С.-Петербургских ведомостей»). Решившись умереть за правое дело России и зная, что от поступившего на трон Николая нельзя было ожидать помилования, я предоставил свою судьбу на волю божию.
Меня всего только раз и приводили в тайный комитет, и, надев железные наручники, не трогали до самого апреля, в конце которого сняли с меня железы и обрили бороду, потребовали к коменданту9 и ввели в комнату для очных ставок, где сидели два генерал-адъютанта: Бенкендорф и Чернышев. Первый был очень тих со мной, а последний, как змея, так бы, кажется, и бросился на меня. Я увидел, что меня хотят обвинить не логически разумными показаниями людей, со мной запутанных по одному и тому же происшествию, и, главное, Чернышев видел во мне человека ускользающего от наказания, которое он заготовил каждому, и при замечании ему, мною сделанному, что бывшие на очных ставках, эти господа, двое между собою родные братья – Беляевы, а третий мичман Дивов с нами всегда жил и был дружен как родной брат, и что матросы, взятые во дворец великого князя Михаила Павловича, и подавно не могут быть законными свидетелями, как покровительствуемые и приласканные люди его высочеством,– вдруг Чернышев разразился бранью на меня, что из меня следовало бы жилы тянуть. Конечно, опять мне оставалось молчать, как и в первый раз в тайном комитете. На лице же Бенкендорфа я заметил, что он не разделял с Чернышевым подобного мнения: мои жилы тянуть – и Бенкендорф во все время очных ставок со мной молчал, а Чернышев продолжал шипеть!!!
Кстати передать современникам, что в это время тогда был в крепости плац-майором полковник Егор Михайлович Подушкин, которого вся наружность чрезвычайно как походила на того палача, раз мною виденного рано утром, когда я стоял в карауле на Сенной площади, проехавшего мимо на роспусках на Конную площадь со
[427]
своею жертвою и с одним будочником. Подушкин, всегда поддержанный порядочною дозою водки, имел всегда красное лицо, всегда звериное. Он всегда готов был воспользоваться чужою собственностью, считая арестантов, как отпетых, и злоупотреблениям его не было конца, чему мог свидетельствовать стол наш, наисквернейший, какой только мог быть. Подавали гречневую кашу-размазню и всегда с прегорьким, зеленым русским маслом. Щи из гнилой или мерзлой капусты. Через несколько лет потом плац-майор Подушкин, взяв с одного поляка семьдесят тысяч рублей ассигнациями, чтоб передать письмо другому поляку, готовившемуся с ним на очную ставку, был за это удален из крепости. Знал ли обо всех злоупотреблениях Подушкина ветеран, комендант Сукин, этого полагать нельзя, потому что Сукин в то время пользовался репутацией честного человека. Но я полагаю, что у Сукина голова, и без того очень не мудрая, кругом вертелась от ежедневного прилива прибывающих арестантов в крепость; почему в помощь Сукину, никогда не посещавшему казематы, наряжались тогда новенькие с иголочки генерал-адъютанты: Стрекалов, Мартынов10, тоже очень разумные Измайловские головы, только даром в наших казематах отворявшие двери – так что после их посещений ровно ничего в нашем столе не переменялось. Зная, что это были за люди, мы никогда ни на что не жаловались им на наших тюремщиков. Питались одним чаем пополам с зверобоем и булкою.
Заточение наше, впрочем, смягчалось нашим обществом в казематах: внутренние деревянные стены, выстроенные из сырого леса, от железных печей высохли и дали огромные трещины, тотчас заросшие претолстой паутиною. Мы не могли видеть соседа своего, разговаривали хотя тихо, но все было нам слышно, проходящая же крепостная полиция не могла нас никак подслушать. Иной раз горьки были минуты заточения, еще того горше была неизвестность участи – и потом горькие мысли о судьбе России, в жертву которой столько благородно мыслящих себя принесли, со всею преданностию и с таким самоотвержением. Воображение ни минуты не покидало рисовать будущее России в самых мрачных красках. Ведь оно сбылось, оправдалось тридцатилетним стоном России! и как еще оправдалось! в самых громадных размерах потерь, скрываемых по сих пор молчанием скованного слова! Это тридцатилетнее царствование Николая с его дикою политикою ничего не могло и принести
[428]
кроме несчастия России!! Поезжайте во внутренние губернии – и вы встретите бедность крестьян, возмущающую душу, надрывающую сердце!..
Наконец наступило 12 июля 1826 года – день объявления приговора Верховного уголовного суда, которому в караул наряжен был для большей важности целый эскадрон кавалергардов, мимо которых я проходил с невозмутимым спокойствием, заметив на многих умилительные лица, в которых бы всякий видел сожаление и сочувствие к нам этих солдат! Иначе и не могло быть! По большей части они были малороссияне, близкие соседи чугуевцев, испытавших все тиранство графа Аракчеева в военных поселениях. Старики казаки, с когульскими медалями за свои права и привилегии, спокойно шли на смерть, сквозь строй зеленой улицы!
Оказалось, что по приговору было одиннадцать категорий, которых бы столько и не выдумали сами немцы – и, боже мой, за какие обвинения! Где же обещания, данные Николаем Веллингтону11, что он удивит Европу, конечно, милосердием – и удивил, <…> поставив пять виселиц, с гнилыми веревками, на которых надобно было по два раза умирать.
Возвратившись из Верховно-уголовного суда, где каждого из нас осудили как хотели, и где Блудов, верный значению своей фамилии, блудил, заблудился, запутался и смастерил одиннадцать категорий приговора, отличающегося особенною кровожадностью, если подвергнуть строго юридическому анализу. Меня обратно из Верховно-уголовного суда повели в ту же Кронверкскую куртину. Проходя по коридору, я поднимал занавесочки стекол дверей. Мое внимание остановилось на князе Трубецком, снявшем с себя в последний раз свой мундир, развешанный на стуле. Бледный-пребледный был князь в это время, весь погруженный в думу. Не знаю, что у него в его душе происходило? Несбывшиеся ли его убеждения, стремления и верования, или о постигшем его несчастии думал он с самого утра 14 декабря?.. Честный, прямой, благородный человек должен всегда соразмерять свои способности и свои нравственные силы, и особенно в таком святом деле, как восстание за правое дело России!
Меня посадили в номер окошком на ров Кронверкской куртины, в одном каземате с Пестелем и Каховским. По правую сторону, рядом со мной в другом каземате находился Сергей Апостол-Муравьев, а против него Бе-
[429]
стужев-Рюмин и Измайловского полка подпоручик Фок12, самой последней 11-й категории.
Разгорячившись и расшумевшись на пристрастный Верховный уголовный суд, за объявленную мне сентенцию, я был тотчас спрошен Каховским, кто я такой? – И потом ответом было, что он осужден на смерть, с тем равнодушием, которое тотчас же поселило во мне к нему глубокое уважение – равнодушие к смерти, не покидавшее его во все время! Каховский прибавил с большим чувством сожаления, что он имел несчастие убить Милорадовича.
Пестель говорил очень тихо. Он был после болезни, испытавши все возможные истязания и пытки13 времен первого христианства! Два кровавых (широких) рубца на голове были свидетелями этих пыток! Полагать должно, что железный обруч, крепко свинченный на голове, с двумя вдавленными глубокими желобами, оставил на голове его свои глубокие два кровавые рубца. Еще по сих пор в живых супруг Евдокии, писавшей о млеке пречистой девы14; он был на очной ставке с Пестелем перед его смертью, видел эти глубокие два кровавые рубца на голове Пестеля!..
В разговорах Пестеля с Каховским также проглядывало такое же равнодушие к смерти. Пестель просил меня кланяться его старику-отцу15, впрочем, очень утешившемуся вместе с другим своим сыном16 надетым на него флигель-адъютантским аксельбантом!
Вероятно, еще помнят, что повешенного Пестеля отец очень долго был военным генерал-губернатором Сибири, из Петербурга управлявшим17 в то время, когда злоупотребления и взяточничество были в Сибири в самых огромных размерах! Неужели отец повешенного Пестеля совершенно был неповинен в грабеже Иркутского губернатора Трескина18 и прочих чиновников, ужасных разбойников того времени в Сибири? Сперанский, ревизуя Сибирь19, ужасался проделками чиновничества, вместе с находящимся еще в живых, состоявшим при нем Батеньковым, продержанным за участие в Тайном обществе Николаем двадцать лет в Петропавловской крепости, в Алексеевской равелине, и только в 1845 году отправлен он был на поселение в Сибирь! Двадцать лет заточения: ужасно как бесчеловечно! В этом Алексеевском равелине убит Петром I сын его, царевич Алексей, и при Екатерине II, во время наводнения, утонула заключен-
[430]
ная княжна Тараканова, которая, обманом графа Алексея Орлова, была перевезена из Италии!
Молодому человеку Бестужеву-Рюмину было всего 18 лет, и ему, конечно, было простительно взгрустнуть об покидаемой жизни. Бестужев-Рюмин был приговорен к смерти. Он даже заплакал, разговаривая с Сергеем Муравьевым-Апостолом, который с стоицизмом древнего римлянина уговаривал его не предаваться отчаянию, а встретить смерть с твердостию, не унижая себя перед толпой, которая будет окружать его, встретить смерть как Мученику за правое дело России, утомленной деспотизмом, и в последнюю минуту иметь в памяти справедливый приговор потомства!!!
Шум от беспрестанной ходьбы по коридору не давал мне все слова слышать Сергея Муравьева-Апостола, но твердый его голос, и вообще веденный с Бестужевым-Рюминым его поучительный разговор, заключавший одно наставление и никакого особенного утешения, кроме справедливого отдаленного приговора потомства, был поразительно нов для всех слушавших, и в особенности для меня, готового, кажется, броситься Муравьеву на шею и просить его продолжать разговор, которого слова и до сих пор иногда мне слышатся.
Моя ссылка в отдаленные сибирские гарнизоны и вся картина безвыходного положения несчастного русского солдата, равняющегося Мученику, казались мне смертию, каждый день витавшею вокруг меня; а чтоб быть лишенну совершенно жизни, надобно было быть в первой категории, приговорившей всех в этой категории весьма повесить, тогда когда и десятая категория, в которой я находился, также приговаривала к смерти мученическою жизнию солдата. Николай уже с первого раза становился мастером распределения мученических наказаний не до смерти!
В семь часов вечера того же 12 июля пришли служители алтарей приготовить наших Мучеников к смерти. В восемь часов им принесли саваны и цепи, грустно со стуком прозвеневшие. Потом все затихло. Усталость, изнеможение и душевные волнения этого дня всех прочих заставили приутихнуть, и эта торжественная тишина, только прерываемая беспрестанными повторениями плац-майора и плац-адъютанта не говорить с приговоренными к смерти, была поразительно величественна. Солдаты, прислуживавшие в номерах, чтоб не прерывать эту тишину, ходили на цыпочках. Они плакали.
В два часа ночи в последний раз прозвенели цепи. Пятерых Мучеников повели вешать в ров Кронверкской куртины. Сергей Муравьев-Апостол дорогою сказал громко провожавшему священнику, что вы ведете пять разбойников на Голгофу – и «которые,– отвечал священник,– будут одесную Отца». Рылеев, подходя к виселице, произнес: «Рылеев умирает как злодей, да помянет его Россия!»
Возвратившись с аутодафе мундиров и ломания шпаг, я видел еще из крайнего правого стекла половину крайней виселицы. Лейб-гвардии Павловского полка капитан Степанов со взводом, построенным в каре, вел их на виселицу. Капитан Степанов впоследствии был полковым командиром Гренадерского Екатеринославского полка, а потом командиром лейб-гвардии Измайловского, отличался жестокостию с нижними чинами и тем нравился Николаю, был его фаворитом. Но тогда же говорили в крепости, что веревки, на которой Рылеев и Бестужев-Рюмин висели, оборвались и их сызнова в другой раз повесили20. Были ли эти веревки гнилые или от неумения палачей это произошло, но во всяком случае, этими двумя Мучениками была встречена ужасная смерть, когда кем-либо испытанная! Нельзя без особенного содрогания вспоминать об этой ужасной пытке, превзошедшей все возможные казни.
В 3 часа ночи вывели всех узников из крепости на площадь, где жгли их мундиры и ломали им шпаги над головами перед выстроенными гвардейского корпуса первыми гренадерскими ротами и лейб-эскадронами, лицом пред деревянною церковью Троицы. Перед каждою гвардейскою дивизиею был выстроен каре, в котором находились осужденные офицеры той дивизии. Их всего было три и четвертый, особенно большой каре, в котором заключались все остальные, и между ними Михаил Лунин, который по окончании чтения сентенции, обратясь ко всем прочим, громко сказал: «Messieurs, la delle sentence doit etre arrosée»*,– преспокойно исполнив сказанное. Прекрасно бы было, если б это увидел генерал-адъютант Чернышев, командовавший под командою генерал-губернатора Кутузова21 этим парадом аутодафе, не преминувший бы к посланной с фельдъегерем в Царское Село записке доноса об нашем равнодушии, непременно упомянуть и об выходке Лунина.
* Господа, прекрасный приговор должно спрыснуть (фр.).
[432]
Михаил Иванович22 Лунин, одна из тех личностей без страха, был любим и уважаем покойным цесаревичем Константином Павловичем. После уже 14 Декабря, в Варшаве, Лунин приходит проситься к цесаревичу съездить на Силезскую границу, поохотиться на медведей.– «Но ты поедешь и не вернешься».– «Честное слово, ваше высочество».– «Скажи Куруте, чтоб написал билет». Курута не соглашается дать билет Лунину и бежит к цесаревичу. «Помилуйте, ваше высочество, мы ждем с часу на час, что из Петербурга пришлют за Луниным, как это можно отпускать?» – «Послушайте, Курута,– отвечает цесаревич,– я не лягу спать с Луниным и не посоветую тебе лечь с ним, он зарежет, но когда Лунин дает честное слово, он его сдержит». И действительно, Лунин возвратился в Варшаву тогда, когда другие сутки из Петербурга его уже ждал фельдъегерь. Когда в следственной комиссии стали допрашивать его, что он говорил об истреблении царской фамилии, он отвечал, что никогда не говорил, но думал об этом. Лунин говорил, что он непременно пошлет две тысячи рублей в Рим, чтоб папа торжественно отслужил панихиду по цесаревичу за то, что он приказал по взятии его под арест кормить его гончих и борзых. <…>
Над первым Якушкиным, профос23 палач изломал над головою так шпагу, что всю ее окровавил. Александр Муравьев и Оржитский25, над которыми не ломали шпаг, до того испугались ловкости профоса, что Оржитский бросился к полицмейстеру Чихачеву напомнить ему, что таким образом совершенно не ломают шпаг, так близко над головой, и, показав Чихачеву, что все сабли и шпаги были надпилены, и что гораздо выше головы должно их ломать, чтоб никак не задеть головы, как это сделано с головой Якушкина; и сам Оржитский пошел было показать невинному полицмейстеру Чихачеву, командовавшему этим большим каре, как следовало бы ломать шпаги.
Генерал-адъютант Чернышев большой каре приказал подвести к виселицам. Тогда Федор Вадковский закричал: «On veut nous rendre témoins de l'éxecution de nos camarades. Se serait une indignité infame de rester témoins impassibles d'une pareille chose. Arrachons les fusils aux soldats, et jettons nous en avant *. Множество
* Нас хотят сделать свидетелями казни наших товарищей. Было бы гнусным бесчестьем оставаться пассивными свидетелями подобного дела. Вырвем ружья у солдат и ринемся вперед (фр.).
[433]
голосов отвечало: oui, oui, oui, faisons-ça, faisons-ça *, но Чернышев и при нем находившиеся, услышав это, вдруг большой каре повернули и скомандовали идти в крепость. Чернышев показал необыкновенную ревность на экзекуции этим маневром. Усердие его, можно полагать, непременно превышало всякое данное ему наставление Николаем. Адская мысль подвести любоваться виселицами, на которых уже висели Мученики, принадлежит собственно Чернышеву, а не Николаю. Тиверий25еще был новичком в новом своем ремесле подобных казней26.
Чернышев, в самое время экзекуций сожжения мундиров, ломания шпаг, послал к Николаю фельдъегеря с запиской, доносившей о нашем равнодушии к новому своему положению, прибавив, что некоторые между собою даже смеялись, так что об этом равнодушии продолжали долго говорить в Петербурге и очень обвиняли нас. Конечно, каждый из нас помнил, что не наказания делают стыд, а преступления…
Нам хорошо было видно, что на Троицком мосту довольно много было дам, из которых очень многие плакали. Это были жены и родственники пострадавших; но как вся экзекуция была очень рано утром, и как публика совершенно не знала об ней, то ее и было очень немного, в сравнении с тем числом публики, которой следовало быть, когда бы было распубликовано и повещено день и час этого самодержавного торжества. <…>
* Да, да, сделаем это, сделаем это (фр.)
[436]
ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ ВИГЕЛЬ
(1786–1856)
Вниманию читателей предлагаются фрагменты мемуаров человека малоприятного, отличавшегося угодничеством к властям, не брезгующего доносительством, даже предательством; вечного завистника, заискивавшего перед сильными мира и притеснявшего слабых; человека умного, ехидного, наблюдательного, но как-то «криво поставленного» в жизни,– с развращенной душой, неудовлетворенными амбициями, бесконечно циничного. Сам собою возникает вопрос: зачем тогда мемуары его в разные времена печатались и перепечатывались (например, та часть, что посвящена Пушкину, неизменно входит в сборники воспоминаний о поэте), зачем включены они в наш сборник, выходящий почти что перед XXI веком? Ответ прост: именно на страницах записок, писавшихся наедине с собой, Филипп Филиппович Вигель обнаруживал сильнейшие свои черты: литературную одаренность, памятливость на людские характеры и жизненные ситуации, меткость (хоть и желчность!) суждений, недюжинную способность выявить тайные, невидимые миру пружины исторических происшествий.
Однако еще Вяземский предупреждал о необходимости осторожно подходить к этим воспоминаниям: «Записки Вигеля любопытное приобретение для народной и общежитейской литературы. Они писаны умно и довольно художественно <…> Но есть в них важный и недостаток: должно читать, следует доверять им с большой осторожностью <…> Многое рассказано им по городским слухам, сплетням, кривым толкам судей, не призванных и мало сведущих. Ничего у него не проверено, не исследовано критически». И далее: «В записках его много злости и много злопамятности, но много и живости в рассказе. Верить им слепо, кажется, не должно.
[435]
Сколько я мог отметить, есть и сбивчивость в событиях».
Другой современник, хорошо знавший Вигеля и написавший целую книжку замечаний на его воспоминания, И. П. Липранди, замечал: «противоречащих мнений множество, и это зависело от того, в каком расположении духа брался он за перо. Если Ф. Ф. был рассержен за что-нибудь в своем воображении на молдавана, на грека, на еврея, с которыми он почитал как бы обязанностью быть всегда в оппозиции, или на советника, на чиновника, показавшегося ему в обращении с ним не раболепствующим, тогда чернила его обращались в желчь и все попадающее под его перо беспощадно казнилось. Напротив, если молдаванский боярин, приезжая к нему, выйдет из коляски, не доезжая до его подъезда, или подъедет шагом, или, когда он посетит кого, и там перестанут курить, зная его причуды, или, наконец, советник, пришедший к нему по делу (иначе к нему не ходили), на неоднократное приглашение сесть не исполнит этого и т. п., тогда Ф. Ф. бывал в восторге, в своей тарелке, скорыми шагами ходил по комнате, потирая руки, <…> и тогда перо его изображало все в розовом свете, что впрочем бывало очень редко, ибо он во всех думал видеть врагов своих, неценителей его достоинств, его ума, в котором, конечно, никто ему не отказывал и не откажет».
Как над ним ни потешались, как ни презирали его, а все же неизменно принимали в светских гостиных. Эпиграммы, жалившие Вигеля, наверно, одни «потянули» бы на целый сборник. В основном они неудобопечатаемы, но самая знаменитая из них, принадлежавшая перу известного остроумца С.А. Соболевского, такая:
Пушкин тоже «приложил руку» к всеобщему осмеянию Вигеля, хотя, как обычно, смотрел глубже других и любил беседовать с этим странным и злым, но умным и в сущности бесконечно одиноким в своей гордыне че-
[436]
ловеком. 7 января 1834 г. Пушкин записал в дневнике: «Вигель получил звезду (орден св. Станислава I степени.– В. К.) и очень ею доволен. Вчера был он у меня – я люблю его разговор – он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложстве». Пушкин с интересом выслушивал и даже записывал «исторические анекдоты», которыми всегда переполнена была память Вигеля. Мало кого любивший, Вигель к Пушкину относился с почтением и восхищением. После гибели поэта он писал: «Я также знал его, дивился ему и всей душой любил его».
Любопытна внешняя характеристика, данная Вигелю Ипполитом Оже (чьи воспоминания печатаются и в настоящем сборнике): «Вигелю было тогда лет тридцать. С первого взгляда он не поражал благородством осанки и тою изящною образованностью, которою отличались русские дворяне <…> Круглое лицо с выдающимися скулами заканчивалось острым приятным подбородком: рот маленький, с ярко-красными губами, которые имели привычку стягиваться в улыбку, и тогда становились похожи на круглую вишенку. Это случалось при всяком выражении удовольствия; он как будто хотел скрыть улыбку, словно скупой, который бережет свои золотые слова и довольствуется только их звуком. Речь его отличалась особенным характером: она обильно пересыпалась удачными выражениями, легкими стишками, анекдотами и все это с утонченностью выражения и щеголеватостью языка придавало невыразимую прелесть его разговору. Его слова были точно мелкая, отчетливо отчеканенная монета; она принималась охотно во всех конторах. Но иногда его заостренные словечки больно кололись: очень остроумным нельзя быть без некоторой доли злости. Его взор блестел лукаво, но в то же время и привлекал к себе».
Таков был этот персонаж пушкинского времени (перешагнувший, впрочем, и во времена позднейшие), весьма в своей среде популярный, хотя, пожалуй, все-таки со знаком минус.
Сообщим о Вигеле основные биографические сведения. Отец его, из финского рода Вигелиусов, служил комендантом в Киеве, потом губернатором в Пензе; мать, урожденная Лебедева, принадлежала к небогатому рус-
[437]
скому дворянству. Родился Вигель в Симбирской деревне отца; детство провел в Киеве; по воле отца жил в роли приживальщика в богатых и знатных семействах, где не столько научился аристократическим манерам, сколько приобрел дурные наклонности. Однако нет худа без добра: страдая от унижений в киевском имении опального князя С. Ф. Голицына, он познакомился с учителем княжеских сыновей Иваном Андреевичем Крыловым и перенял у него сочный и богатый русский язык, которым потом всегда отличался. 15-летний Филипп Филиппович собрался было в военную службу, но по протекции попал в Московский архив коллегии иностранных дел, где товарищами его оказались многие люди, ставшие потом знаменитыми, и среди них – Николай Тургенев. Закон требовал от чиновников сдачи некоторых экзаменов для продвижения по службе, а Вигель-то был недоучка. На всю жизнь затаил он злобу и ненависть к аристократам, которым все давалось без усилий по праву самого рождения их, и которые его, Вигеля, считали выскочкой. Закон ему, правда, удалось обойти, но ни на каком месте не мог ужиться долго, то и дело поселяясь у отца в Пензе на время вынужденных простоев в чиновничьей карьере. В 1805 г., например, он был прикомандирован к русской миссии, отправлявшейся в Китай, но из Кяхты отправлен назад за неуживчивость, зависть к сослуживцам, сопровождавшиеся леностью и неаккуратностью в делах.
Состоял Вигель в знаменитом теперь литературном обществе «Арзамас», где познакомился и в 1817–1820 гг. довольно часто встречался с Пушкиным. В дальнейшем пути Пушкина и Вигеля снова пересеклись. Дело в том, что соратник по московскому архиву и «Арзамасу» Д. Н. Блудов рекомендовал его на службу к графу М. С. Воронцову. Сначала Вигель был чиновником в администрации Новороссийской губернии и Бессарабской области, вскоре стал бессарабским вице-губернатором, а затем градоначальником в Керчи. Здесь-то, на юге, коротко узнал его Липранди и оставил не слишком лестную характеристику: «Самолюбие его не имело пределов: если подчиненный его осмеливался в его присутствии чихнуть, этого бывало достаточно, чтобы последний остался навсегда у него на замечании. Куда бы он ни являлся, все должны были соображаться с его вкусом, с его взглядом, с его привычками, причудами. Боже сохрани, если будучи в постороннем частном общест-
[438]
ве, он встретит одного из своих подведомственных сидящим, когда он сам на ногах,– тогда этот подведомственный нажил уже себе непримиримого врага. В Кишиневе, если, бывая иногда у лиц, ему подведомственных, встречал курящих, он тотчас брался за шляпу чтобы уходить – так, чтобы это непременно было замечено, а на спрос хозяина, отрывисто, с свойственной ему улыбкой, отвечал, что не хочет потерять своих глаз и т. п. При этом бывали уморительные сцены, в особенности среди дам, которых вслед за этим Филипп Филиппович причислял к заговорщицам, к передовым, выдвинутым революционерами, приводил эпизоды Французской революции, которую он знал подробно <…> Он не был создан для административной колеи, никогда не служил по этой части, следовательно и не имел возможности свыкнуться с нею, а потому везде, где он пытался устроить себе администрацию, выходила путаница, как он это доказал в Бессарабии, временно заступая губернатора, и во время своего градоначальствования в Керчи».
В 1829 г. Филиппу Филипповичу улыбнулась фортуна. Стараниями благоприятелей он был определен на службу в Петербург в Департамент иностранных вероисповеданий, где дослужился до должности начальника этого учреждения и высокого чина тайного советника. Об этом времени его деятельности Липранди рассказывает: «Ревнитель православия, чести и славы России и зная историю, как может быть ни один из его предшественников и последователей не знал ее, он мог бороться на положительных данных с ненавистными ему католицизмом и лютеранизмом. Здесь занятия были кабинетные, он мог подчиняться лени, которая часто овладевала им на два, три и более дней, не оставляя халата <…>»
В петербургский период своих трудов Вигель совершил акцию, оставившую его имя в истории русской мысли, но, увы, все с тем же отрицательным знаком. Прочитав в 1836 г. в журнале «Телескоп» «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, полное ненависти к деспотизму, любви к оскорбляемой и униженной родине, тревоги за ее судьбу, Вигель воспринял его однозначно: как призыв к ниспровержению существующих монархических и национально-патриотических основ. Учитывая круг своих чиновничьих обязанностей, он считал себя обязанным блюсти чистоту православной религии в ее официозном
[439]
толковании и не остановился перед доносом петербургскому митрополиту Серафиму. Именем православной церкви он требовал строжайше наказать автора богохульной статьи. «Прожив более полувека,– писал он,– я никогда ничьим не был обвинителем. Но вчера чтение одного московского журнала возбудило во мне негодование, которое, постепенно умножаясь, довело меня до отчаяния. Если вашему преосвященству угодно будет прочитать хотя половину сей богомерзкой статьи, то усмотреть изволите, что нет строки, которая не была бы ужаснейшею клеветою на Россию, нет слова, которое не было бы жесточайшим оскорблением нашей народной чести. Сей изверг, неистощимый хулитель наш, родился в России, от православных родителей, имя его (впрочем, мало доселе известное) есть Чаадаев. Среди ужасов Французской революции, когда попираемо было величие бога и царей, подобного видано не было. Безумной злобе сего несчастного против России есть тайная причина, коей, впрочем, он скрывать не старается: отступничество от веры отцов своих и переход в латинское вероисповедание. Вот новое доказательство того, что неоднократно позволял я себе говорить и писать: безопасность, целость и величие России неразрывно связаны с восточной верою, более осьми веков ею исповедуемою. Стоит только принять ее, чтобы сделаться совершенно русским, стоит только покинуть ее, чтобы почувствовать не только охлаждение, омерзение к России, но даже остервенение против нее, подобно сему злосчастному слепотствующему, неистовому ее гонителю. Он отказывает нам во всем, ставит нас ниже дикарей Америки, говорит, что мы никогда не были христианами и в исступлении своем нападает даже на самую нашу наружность, в коей, наконец, видит бесцветность и немоту. Самая святая и апостольная церковь вопиет к вам о защите».
Служа в Департаменте иностранных вероисповеданий, Вигель сделал главную свою «карьерную» ставку на фанатическую верность «православию, самодержавию и народности»; отличившись на этом пути, надеялся он подняться выше – стать обер-прокурором Синода. Эта мечта его, тайная, но всем известная, не осуществилась. Была и еще одна деликатная причина для Вигеля нападать столь преувеличенно страстно на Чаадаева. Нерусский по отцу, он часто сталкивался с откровенными насмешками над своим «чухонским» происхождением, терзавшим его и без того уязвленное самолюбие. Он хотел
[440]
доказать, что он «более русский, чем иные русские», или, как говорят про католиков, что он «святее самого папы». Этими чувствами и намерениями и объясняется откровенный донос на Чаадаева, который «прославил» Вигеля в истории. Между прочим, впоследствии он заискивал перед Чаадаевым (которого еще недавно называл «плешивым лжепророком»!), пытаясь чуть ли не прослыть его приятелем, и как будто сам даже забыл о доносе 1836 года.
1836 год вообще изобилен был вигелевскими гнусностями. Сообщим еще одну. В частном письме он так отзывался о «Ревизоре»: «Читали ли вы сию комедию? видели ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь; сколько накопил он плутней, подлостей, невежества. Я, который жил и служил в провинциях, смело называю это клеветой в пяти действиях (не читавши! – В. К.). А наша-то чернь хохочет, и нашим-то боярам и любо; все эти праздные трутни, которые далее Петербурга и Москвы России не знают, половину жизни проводят за границей, которые готовы смешивать с грязью и нас, мелких дворян и чиновников, и всю нашу администрацию, они в восторге от того, что приобретают новое право презирать свое отечество, и, указывая на сцену, говорят: «вот она Россия». Безумцы. Я знаю автора – это юная Россия во всей ее наглости и цинизме». Зато с каким восторгом воспринял он, в полном согласии со своими взглядами, «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Сочинитель этих писем также высоко стоит над автором «Ревизора» и «Мертвых душ», как сей последний далеко отстоит от Шаликова1. Не могу описать восторгов, с которыми смотрел я на перерождение Гоголя. Я смеялся над теми, которые сравнивали его с Гомером, теперь я каюсь в том, признавая в них великий дар предчувствия, предвидения»…
Выйдя в отставку, отнюдь не по своей воле, Вигель перебрался было в Москву, но и тут не мог ужиться. Мы уже знаем, как страстно ненавидел он западников. Но не менее противны были ему и славянофилы. «Славяно-
1 Шаликов П. И. (1768–852) – совершенно незначительный сентиментальный поэт и журналист.
[441]
филов,– писал он,– коих так много было в Москве, принял я за настоящих патриотов и гораздо более года находился в сем приятном заблуждении». В Москве он бывал в разных домах, но многие знали, что этот человек не чурается доносов (случалось такое с ним и в 1840-х годах), и не слишком его жаловали. Да и он невзлюбил древнюю столицу, в которую еще недавно стремился; жаловался В. А. Жуковскому: «Вы меня почитаете в Москве? Но возможно ли было в ней оставаться? Пока я служил в Петербурге, я все мечтал о ней, я жаждал ее, как покоя <…> а я нашел только претензии, умничанье и бестолковщину. Мало хорошего в здешней суете <…> Москва стала совершенная квашня». В памфлете «Москва и Петербург» (1853) Вигель клеймил Москву на свой лад: «О, наша сердечная, наша родимая! Что сталось с тобою? Куда девалось твое прежнее веселие, твое радушие, твое хлебосольство? До того дошла ты, православная, что кто-то в печатных стихах осмелился назвать тебя старой греховодницей. Опомнись!
Поверь, я ни на что не досадую и никого не обвиняю, а только с сокрушенным сердцем смотрю, как единоземцы мои, а паче москвитяне, не умеют или не хотят перед иноземцами поддержать наше народное достоинство, показать нашу народную гордость и тем самым дают им право явно не уважать Россию. Если б при конце дней моих мог бы я в этом увидеть какую-либо счастливую перемену, то, кажется, спокойнее бы закрыл глаза свои навеки».
Один из мемуаристов (Н. В. Берг) вспоминает: «Среди гостей Е. П. Ростопчиной бывал массивный старик Филипп Филиппович Вигель, почему-то нелюбимый москвичами. Наконец, его почти выгнали из Москвы. Вигель любил смертельно читать свои записки – навязывался с ними к Ростопчиной. Записки эти были, может быть, любопытнее всего, что читалось когда-либо у Ростопчиной и ею и ее гостями. Но неприятная личность автора и отчасти старые приемы чтения сообщали прекрасному материалу какую-то бесцветность, отсутствие интереса. Никто не хотел скучать, а скучали. Великое дело – личность автора и его реноме».
Немало еще постранствовал Филипп Филлиппович по России и по свету, но скончался все же в Москве, в полном одиночестве, всеми забытый, под присмотром наемной прислуги. Нужно ли говорить, что семьи он не имел…
[442]
Прежде чем проститься с этой колоритной фигурой, прочно вошедшей в литературную историю нашу, добавим еще одну ложку меда в бочку дегтя, которую составляют многочисленные характеристики Ф. Ф. Вигеля. Еще одну,– потому что главным оправданием его присутствия на земле стали все же многотомные записки, где собрана целая коллекция портретов исторических лиц, с которыми он либо сам встречался, либо слышал от других людей. Но дело в том, что у Вигеля была еще одна коллекция, о которой мало кто знал. Всю жизнь он терпеливо собирал гравюры и литографированные портреты значительных исторических лиц и сумел составить поистине превосходное и неповторимое в своем роде собрание. За три года до смерти он преподнес всю эту чудо-коллекцию в дар Московскому университету. Всего в ней 3139 отдельных гравюр и до 800 рисунков. Она и поныне хранится нерасчлененной рядом с книжными, рукописными, художественными собраниями виднейших деятелей нашей культуры. Недавно вышел превосходный каталог гравюрного собрания Ф.Ф. Вигеля, составленный Н. Г. Сапрыкиной. Мы же упомянем об одном-единственном экспонате: у Вигеля был всем теперь известный гравированный портрет Пушкина работы Н. И. Уткина с оригинала О. А. Кипренского. Экземпляр особый – с подписью в углу листа «А. Пушкин». Почерк сомнения не вызывает – это автограф поэта.
Думается, что «хобби» Вигеля не случайно. Всю жизнь он как бы параллельно составлял две коллекции: одну, литературную,– психологических портретов современников, создаваемых его приметливым и острым пером, другую – художественную, состоящую из их гравированных изображений, принадлежащих резцу лучших мастеров. Ну, а если человек сделал в своей жизни два важных дела: написал «Записки» и подарил университету собрание гравюр, так ли это мало? Впрочем, здесь вступает в действие вечная коллизия: перевешивают ли добрые дела человека им же совершенные дурные поступки? Не так просто на этот вопрос ответить…
Вяземскому принадлежит развернутая и меткая характеристика личности Вигеля в целом. При этом общая (оценка выходит более противоречивая, более мягкая и, скорее всего, более верная, чем однозначно негативная, принятая в литературе. «Автор записок,– пишет Вязем-
[443]
ский, – имел замечательный природный и даже довольно образованный ум. Скажу более,– я убежден, что он имел даже и мягкое, доброе сердце, но раздражительный, щекотливый нрав его портил в нем дары природы. Во многих отношениях узость понятий, самолюбие, доводившее до малодушия, затмевали светлый ум его. Способный любить и уважать достойных людей, он был злопамятен в безделицах и за безделицы. Он не прощал, если не отплатят ему тотчас же визита его, если нарушат в нем права местничества, то есть посадят его за столом не на место, которое он считал подобающим чину его <…> В течение жизни он неоднократно ссорился не только с отдельными лицами, но и с целыми семействами, с городами, областями и народами. Не претерпевший никогда особенного несчастья, он был несчастлив сам по себе и сам от себя. Можно сказать, что при обстоятельствах, довольно благоприятных, он болезненно прошел жизнь свою, беспрестанно уязвляемый иглистыми терниями и булавками, которыми он сам осыпал дорогу свою. Все это отражается в записках его и лишает их того здорового и внушающего доверенность характера, который составляет прямое и главное достоинство исторических и личных записок».
Все это так, но давно уже признано в исторической науке, что мемуарные источники неизбежно несут на себе отпечаток личности автора. Тем они, между прочим, и интересны. В какой-то степени Филипп Филиппович был прав, несколько велеречиво определяя цену своему творению: «Сии источники, иногда весьма мутные, быв собраны, пропущены сквозь беспристрастную критику, очищены вкусом и гением, могут составить величественный ясный поток, коим Карамзины грядущих времен будут напоять любопытную жажду к познаниям, более и более увеличивающуюся в моем отечестве». Так что полному изданию «Записок» Ф. Ф. Вигеля с критическими комментариями, несомненно, еще настанет свой черед. А пока читатель имеет возможность познакомиться с их малой частью.
ЛИТЕРАТУРА
В и г е л ь Ф. Ф. Записки. Редакция и вступ. статья С. Я. Штрайха. Т. 1–2.–М., 1928.
Сапрыкина Н. Г. Коллекция портретов собрания Ф. Ф. Вигеля. Аннотир. каталог.– М.., 1980.
<…> Траура в Москве под разными предлогами почти никто не носил1. Да и лучше сказать, в траурном платье я помню одну только вдову генерал-лейтенантшу Акулину Борисовну Кемпен, одну из наших киевских знакомок, которая в первом замужестве была за московским купцом Дудышкиным и оттого чрезвычайно гордилась потом своим чином. Несмотря на необъятную толщину свою, она все лето прела под черною байкой для того, чтобы иметь удовольствие показывать шлейф чрезмерной длины.
В апреле все пришло в движение. Несмотря на распутицу, на разлитие рек, на время самое неблагоприятное для путешествий, все дороги покрылись путешественниками: изгнанники спешили возвращаться из мест заточения, отставные или выключенные потянулись толпами, чтобы проситься в службу, весьма многие поскакали затем только в Петербург, чтобы полюбоваться царем2. Исключая действительно порочных и виновных, все желавшие вступить в службу были без затруднения в нее принимаемы. Сотням нажалованных и потом выброшенных генералов невозможно было дать мест по чину: им велено числиться по армии с жалованьем, в ожидании назначения; во всех полках удвоился и утроился комплект штаб- и обер-офицеров.
Первые три месяца после кончины Павла граф Пален царствовал в России, кажется, более чем император Александр. Он был душою заговора против своего благодетеля и хотел быть главою государства; старый, преступный временщик был, однако же, обманут притворною скромностию молодого царя и в один миг с высоты могущества низринут в ссылку. Сей первый пример искусства и решимости нового государя, боготворимого и угрожаемого в одно время и коего положение было не без затруднений, мог бы удивить и при Павле, когда такие известия почитались самыми обыкновенными. Но Москва и Россия утопали тогда в веселии; сие важное происшествие едва было замечено людьми, еще хмельными от радости. Вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин3 сделался тогда нашим единственным начальником в иностранной коллегии.
Мы почти не видали, как прошло лето. Некоторую оного часть провел я за городом, в Марфине, деревне графа Салтыкова4.
*Полную версию «Записок» можно прочесть здесь.
[445]
Приятности сего летнего местопребывания умножались еще любезностию двух хозяек, самой графини Салтыковой и старшей дочери ее, Прасковьи Ивановны Мятлевой5. Не знаю, откуда могли они взять совершенство неподражаемого своего тона, всю важность русских боярынь вместе с непринужденною учтивостью, с точностию приличий, которыми отличались дюшесы6 прежних времен. Если б они были гораздо старее, то можно бы было подумать, что часть молодости своей провели они в палатах царя Алексея Михайловича, с сестрами и дочерьми его, а другую при дворе Людовика XIV. Ни развратно-грубая Россия от Петра до Екатерины, ни гнусно-развратная Франция от регентства до революции не могли показать им образцов, достойных их подражания. Из предания обеих земель составили они себе благороднейший характер аристократии, смешав гостеприимство русской старины с образованностию времен просвещеннейших.
Великую страсть имела г-жа Мятлева являться на сцене в домашнем театре, разумеется, во французских пьесах. Белосельские и Чернышевы, молодые путешественники, возвратившиеся с клеймом Версали и Фернея7, Кобенцели8 и Сегюры9, чужестранные посланники, отличавшиеся любезностию, ввели представления сии в употребление при дворе Екатерины. Избраннейшее общество участвовало в сих просвещенных забавах, и Эрмитаж был одним из каналов, чрез кои начало вливаться к нам могущество Франции. Сюрпризы именинникам были тогда также новостию и принадлежностию одного высшего общества. Большие затеи приготовлялись тогда в Марфине к 23 и 24 июня, дням рождения и именин фельдмаршала. <…>
Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже играл с нами графа Петра Семеновича Салтыкова10. Я обомлел, когда невзначай пришлось ему сказать мне несколько слов: власти и заслуженные почести всегда вселяли во мне уважение, но этот благоговейный страх могли произвесть только добродетели и высокий талант. Встретившись с сим необыкновенным человеком, я бросаю на время марфинские забавы, чтобы предаться наслаждению говорить об нем.
Уже был он известен, уже был он славен, уже зависть и клевета в страшное царствование Павла восставали, чтоб его погубить. Но бог России хранил его; под его щитом, с кротостию улыбаясь самим врагам своим, шел
[446]
он спокойно, смиренно, прекрасною, цветущею стезею, ведущею его к цели, которую, вероятно, тогда еще сам он не предугадывал. До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он изобрел новый, благородный и простой, и написал им путешествие свое за границу11 и пленительные повести12, кои своею новостию так приятно изумили Россию. Можно сказать, что он же создал и разговорный у нас язык и был основателем новой школы, долго поддерживавшей лучшие правила в литературе. Казалось, чего бы более для обыкновенного авторского самолюбия? Но он не знал его, а творениями своими, как врожденным добром, делился с читателями. Скоро почувствовал он еще другое, высшее призвание; скоро лавры должны были заступить место роз, блиставших на молодом челе его. Не тщетно получил он от природы трудолюбие и жажду к познаниям, недаром даны ему были пламенное сердце, высокий ум и чистые уста; ими предназначено ему было вещать современникам и потомству о древней, почти забытой славе предков. Он должен был дать новую бесконечную жизнь Васильку и Мономаху, Ляпунову13 и Скопину-Шуйскому14 и грозно судить грозного царя15. Промыслу угодно было, как в чистейшем сосуде, воспалить в нем жар просвещенной любви к отечеству, угасавший между высшими сословиями от безрассудной страсти к иноземному,– не грубый, самохвальный патриотизм провинциалов и невежд. Следуя за духом века, напрасно завистливые соперники16 хотят затмить его славу, стараются своими помоями залить священный огонь, им распространенный; от времени до времени он более умножается и усиливается.
Такие люди посылаются на землю, чтобы производить в умах великие и счастливые перевороты, и он был в Москве кумиром всех благородно мыслящих юношей и всех женщин истинно чувствительных. В тогдашнее еще чинопочитательное время было даже несколько странно видеть стариков-вельмож, почти как с равным, в обхождении с тридцатилетним отставным поручиком. Мне не нужно описывать его наружность; портреты его чрезвычайно схожи; они очень верно выражают глубокие думы на его челе и добродушие во взорах его; конечно, изображения его сохраняются у всех просвещенных россиян.
Из тьмы марфинских посетителей выбираю я для описания одних только литераторов. Тут был еще один
[447]
поэт, весьма известный в свое время более по странностям своим, чем по числу и изяществу произведений. Пушкин (не племянник, а дядя) Василий Львович почитался в некоторых московских обществах, а еще более почитал сам себя, образцом хорошего тона, любезности и щегольства. Екатерининский офицер гвардии, которая по малочисленности своей и отсутствию дисциплины могла считаться более двором, чем войском, он совсем не имел мужественного вида. Он казался сначала не тем, чем был действительно, а тем, чем ему хотелось быть; за важною его поступью и довольно гордым взглядом скрывались легкомыслие и добродушие; в восемнадцать лет на званых вечерах читал он длинные тирады из трагедий Расина и Вольтера, авторов мало известных в России, и таким образом знакомил ее с ними; двадцати лет на домашних театрах играл уже он Оросмана в «Заире»17 и писал французские куплеты. Как мало тогда надобно было для приобретения знаменитости! Блестящее существование его в свете умножалось еще женитьбой на красавице Капитолине Михайловне18.
Сам он был весьма некрасив. Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником, рот и подбородок à la Charles-Quint *, а более всего редеющие волосы не с большим в тридцать лет его старообразили. К тому же беззубие увлаживало разговор его, и друзья внимали ему хотя с удовольствием, но в некотором от него удалении. Вообще дурнота его не имела ничего отвратительного, а была только забавна.
Как сверстник и сослуживец Дмитриева по гвардии и как ровесник Карамзина, шел он несколько времени как будто равным с ними шагом в обществах и на Парнасе, и оба дозволяли ему называться их другом. Но вскоре первый прибрал его в руки, обратив в бессменные свои потешники. Карамзин же, глядя на него, не мог иногда не улыбнуться, но с видом тайного, необидного сожаления: не только на преступления и пороки, даже на странности и слабости людей смотрел он с грустию и, казалось, рад бы был все человечество поднять до себя. Дмитриев верно в шутку посоветовал ему приняться за русские стихи, а он и вправду сделался весьма неплохим поэтом. Он писал и басни, и коротенькие послания, и всякого рода мелочи, и из всего этого, под конец его жизни, составился
* Как у Карла V (фр.).
[448]
небольшой том, не богатый идеями, но изобильный приятными звуками и плавными стихами. Главным его недостатком было удивительное его легковерие, проистекавшее, впрочем, от весьма похвальных свойств, добросердечия и доверчивости к людям; никакие беспрестанно повторяемые мистификации не могли его от сей слабости излечить. Он был у нас то, что во Франции Poinsinet de Sivry19, также автор, который несколько месяцев жарился перед камином, чтобы приучить себя к обещанной ему должности королевского экрана. <…>
Василий Львович мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От ее поклонения близ четырех лет были мы удерживаемы полицейскими мерами; прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы, приняв ее новые законы, первому привезти их в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно ему было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда à 1а Дюрок. Мы скоро с ним познакомились. В глазах моих был он человек пожилой, хотя и модник; вдруг сближается он с мальчишкой, берет его за руку, потом под руку, гуляет с ним, рассказывает ему разного рода неблагопристойности про любовные свои успехи, одним словом, братается со мной. Мне это чрезвычайно полюбилось: тогда почитали чин чина и год года; вдруг я повысился десятью годами, увидел в нем товарища, почти ровесника, а потом начал смотреть на него как на шалунишку, и если бы знакомство наше на некоторое время тогда не прервалось, то скоро стал бы унимать его и журить. <…>
Изо всех юношей ровесников чаще всех видел я тогда Блудова, товарища моего по службе в московском архиве. Ни в образе воспитания, ни в характере, ни в привычках, ни в склонностях, ни в чем у нас ничего не было общего; мы отправились с столь различных точек, что, казалось, никогда сойтись не можем. Единственный сын нежной, умной, попечительной и хворой матери, коей был он и единственною отрадой и упованием, он никогда еще не разлучался с нею, вырос, так сказать, в теплице ее заботливости, в тесном кругу людей ею избранных. <…> Но в некоторых отношениях наше положение
[449]
в Петербурге было сходно: наше одиночество, самолюбие, которое не допускало нас искательством приобретать полезные знакомства, все это нас сблизило. <…>
Природа создала его порочным. Она сделала более, она открыла в нем два главных источника всех пороков: гордость и леность; но в то же время вложила в него искру того небесного огня, от которого, рано или поздно, сии источники должны были иссякнуть, и душа его спозаранку получила удивительную способность быстро воспламеняться от малейшего прикосновения всего изящного в нравственном мире. Непорочная любовь с ее чистейшими, нежнейшими восторгами и дружба, весьма немногим прежде, ныне же почти никому непонятная, и вера с ее тихими неземными наслаждениями, и честь со всею строгостью ее законов, и патриотизм со всею возвышенностью чувств, им возбуждаемых, обхватили и проникли сию почти отроческую душу. Все в ней сделалось поэзия, и страсть к ее произведениям была главнейшею в первой молодости Блудова. Может быть, она отвлекла его от других занятий, в мнении света более полезных; но она очаровала его юность, расцветила воображение и спасла его сердце от жестокого эгоизма, к которому, греха таить нечего, оно имело наклонность. Время не могло истребить счастливых впечатлений, сею первою эпохою жизни оставленных; их не могло совершенно подавить бремя государственных дел, и не остыли они от холода лет и высшего общества, в котором живет он. И вот почему в России – увы! – он почти единственный государственный человек, который о благе ее мечтает более, чем о почестях. <…>
Кажется, более всего соединяла нас в это время страсть к французской сцене, которая во мне доходила до безумия. Мне случалось не допивать, не доедать; случалось довольствоваться людскими щами и кашей, чтобы последний медный рубль нести в театр: там была вся услада, все утешение моей жизни; там я был уверен встретить Блудова, и мы оба во всем смысле могли называться пилястрами партера, как говорят французы. <…>
Русский театр, в первые два-три года Александрова царствования, оставался еще российским театром, созданным Сумароковым, и почти не подвигался вперед. Незадолго до приезда моего представление одной новой пьесы «Лиза, или Торжество благодарности», весьма ничтожной и давно забытой, было важным происшест-
[450]
вием и возбудило не только внимание, но и удивление публики, и автор г. Ильин20 удостоился чести совершенно новой, дотоле у нас неслыханной: его вызвали на сцену. Ободренный сим примером, другой, столь же неизвестный автор г. Федоров следующею весною вывел свою драму, другую Лизу, взятую из «Бедной Лизы» Карамзина, но имел успех уже посредственный. Недолго жалкие сии люди одни владели русскою сценой, пока не явились сперва Крылов, а вскоре потом и Шаховской21и продлили цепь русских комиков, прерванную смертью Княжнина и Фонвизина и молчанием Капниста. Крылов, с которым я тогда редко и довольно сухо встречался, перестал уже жить по добрым людям и испытывал силы свои в разных литературных родах. Каждый бы ему дался, и тому служат доказательством две написанные им в это время комедии: «Урок дочкам» и «Модная лавка». Но, чтобы на этом поприще достигнуть возможного совершенства, недоставало ему одного – прилежания. Басни избрал он не потому, чтобы почитал их единственною стезею, могущею вести его к известности и славе, а потому, что находил ее удобнейшей, легчайшею и прибыльнейшею *. О Шаховском, с которым я после так коротко был знаком, о его слабостях и достоинствах нахожу, что здесь еще не место говорить.
Что сказать о лицедеях наших того времени? Начнем с трагических, с Яковлева22 и Каратыгиной23. Первому искусство ничего не дало, природа все: мужественное лицо, высокий, стройный стан, орган звучный и громкий, но всеми дарами ее не умел он воспользоваться. Я не виню его. Говорят, что у Дмитриевского24 не было образцов; напрасно: он видел их за границей и по ним образовал природный дар свой, весьма необыкновенный. Когда он воротился и показался на сцене, в Петербурге не было ни одного иностранного театра, и он имел судьями и зрителями двор, лучшее общество и много людей, которые сами образцы его видели. Яковлев играл перед многочисленною толпой, в которой самая малая часть принадлежала к среднему состоянию; остальное было ближе к простонародью, даже к черни. Как актеру не искать рукоплесканий? И как, желая нравиться такой
* На вопрос одного умершего ныне поэта, который спрашивал его: отчего он басни предпочел другим стихотворениям, он отвечал: «Этот род понятен каждому; его читают и слуги, и дети… ну, и скоро рвут». (Прим. автора.)
[451]
публике, не исказить свой талант? А как в этом роде посредственности быть не может, то Яковлев был мало сказать что плох, он был скверен. От неистовых криков и частого употребления водки голос его осип, и он свирепствовал истинно карикатурно.
Подруга его на сцене и, как утверждали, в домашней жизни, госпожа Каратыгина, жена плохого актера, игравшего молодых людей в комедии, была довольно красива, но играла нехорошо, все всхлипывала, и не глаза, а горло казалось у нее вечно исполненным слез. <…>
От русского театра весьма естественным образом переходишь к тогдашней русской литературе. Сжатая при Павле, омелевшая до шаликовской приторности25 при Александре, она стала возвышаться и течь с быстротою. Еще должен повторить, что я совсем ею не занимался, и если что узнал о самом современном ходе ее, то по изустным преданиям Блудова. Но сего достаточно, чтобы вкратце описать тогдашнее ее состояние. Она, как всем известно, родилась в Петербурге; все прежние сочинители, от Ломоносова до Державина и от Тредьяковского до Хвостова26, в нем образовались, жили, служили и писали. Позднее Москва сделалась ее центром, и она тем обязана постоянному пребыванию двух знаменитых писателей в стихах и прозе, Дмитриева и Карамзина. С тех пор все лучшее в нашей словесности родится и произрастает там, плоды же собирает Петербург. С воцарением Александра, после тягостного сна, все благородное воспрянуло, и Карамзин, столь привлекательный в своих безделках, прилежно и сильно принялся за дело. Он сделался первым издателем первого у нас журнала, достойного сего названия. Его «Вестник Европы» начал нас знакомить как с ее произведениями, так и с нашею древностью. Какое мужество, какое терпение и какое бескорыстие были потребны Карамзину! Какая бедность в материалах! Какой недостаток в сотрудниках! Какое малое число подписчиков, и какая низкая цена за издание! Едва прикрывались издержки, а труд шел почти даром. Он принужден был почти один постоянно заниматься, сочинять, переводить. Но великий писатель достигнул своей цели; он водрузил знамя, под которое стали собираться молодые таланты и развиваться под его сенью. Между тем и самый слог Карамзина, дотоле красивый, стройный, милый, как прелесть молодости, среди упорных, вседневных трудов приметным образом стал
[452]
укрепляться и подниматься, и во всей мужественной красоте явился в герое-женщине, Марфе Посаднице27. «Вестник Европы» становился слишком приманчив, чтобы быстро не умножилось число его читателей и подписчиков; тогда только, когда Карамзин мог ожидать себе от него прибыли, предоставил он его людям, его учением образованным.
В это же время (и все в той же Москве) сделались известны два молодых стихотворца, Мерзляков28 и Жуковский. Мерзляков возгремел одой молодому императору29 при получении известия о кончине Павла, и она найдена лучшею из десяти или пятнадцати других, написанных по случаю сего происшествия. Далее слава его не пошла; известность его умножилась. Он был ученейший из наших литераторов и под конец профессор в Московском университете, много и правильно писал; но читали его без удовольствия. Впоследствии я тоже попытался и нашел в нем мало вкуса, много педантства. Участь Жуковского была совсем иная. Как новый, как ясный месяц, им так часто воспетый, народился тогда Жуковский. Я раз сказал уже, что, не зная его, позавидовал золотой его медали. Потом много был о нем наслышан от друга его, Блудова, и хотя лично познакомился с ним годом или двумя позже описываемого времени, не могу отказать себе в удовольствии говорить о столь примечательном человеке.
Бездомный сирота, он вырос в Белеве, среди умного и просвещенного семейства Буниных30. Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное, а любить ребенка и баловать его всегда почти одно и то же; но иным детям баловство идет впрок; так, кажется, было и с нашим поэтом. Когда он был уже на своей воле, и в службе и в летах, долго оставался он незлобливое, веселое, беспечное дитя. Любить все близко его окружающее, даже просто знакомое, сделалось необходимою его привычкой. Но в этой всеобщей любви, разумеется, были степени, были мера и границы; ненавистного же ему человека не существовало в мире. Избыток чувств его рано начал выливаться в плавных стихах; а потом вся жизнь его, как известно будет потомству, была песнь, молитва, вечный гимн божеству и добродетели, дружбе и любви. Какое любопытное существо был этот человек! Ни на одного из других поэтов он не был похож. Как можно всегда подражать и всегда быть оригинальным? Как можно суметь так трогательно, всею душою грустить и потом ото
[453]
всего сердца смеяться? Не знаю, право, с чем бы сравнить его? С инструментами ли, или с машиною какою, приводимою в движение только посторонним дуновением? Чужеязычные звуки, какие б ни были, немецкие, английские, французские, налетая на сей русский инструмент и коснувшись в нем чего-то, поэтической души, выходили из него всегда пленительнее, во сто раз нежнее. Лишь бы ему не быть подлинником: дайте ему что хотите, он все украсит, французскую ничтожную песенку обратит вам в чудо, совершенство, в «Узника» и «Мотылька», и, мне кажется, если б он был живописец, то из «Погребения кота» умел бы он сделать chef d'oevre *.
Таким людям, как он с Блудовым, стоило только сойтись один раз, чтобы навсегда сомкнуться. Что касается до меня, то скажу без хвастовства и скромности, что и у меня была одна сторона чистая, неповрежденная, и ею только мог я прислониться и сколько-нибудь прильнуть к такого рода людям. Жуковский меня любил, но не всегда и не много дорожил моею приязнью; тем приятнее мне отдавать ему справедливость. Истине всегда я жертвовал самолюбием, и это свойство, не весьма обыкновенное, есть, может быть, одно, которым позволено мне гордиться.
Но дело не обо мне, а о литературе. В Петербурге жил один человек, пожилой, честный и почтенный, но, как писатель, состарившийся в безызвестности. Он имел славу быть первым у нас славянофилом; в молодости пленился церковным нашим языком, его изречениями, его оборотами и целый век хлопотал о том, чтобы ввести его и в письмена и в разговоры. Это был известный вице-адмирал Александр Семенович Шишков, еще менее моряк, чем автор. Любимый свой славянский язык искал он не только в землях, ныне или прежде обитаемых славянами, но и везде откапывал корни словес его. Предприятие важное, дело похвальное, страсть благородная! Только жаль, что к полезному удовлетворению ее у него не было средств, не было достаточного ума и сведений. Трудясь в бесплодных изысканиях, он сделался угрюм и бранчив. Проведя всю жизнь в Петербурге и мастерски играя в карты, ему нетрудно было сделать связи с знатными людьми, с знатными домами; а как наши баре не учились русской грамоте, то и поверили ему на слово, что он великий человек, коему определено испра-
* Шедевр (фр.).
[454]
вить, переделать, очистить, усовершенствовать прекрасный русский язык, как говорили они, но о коем они не имели ни малейшего понятия. На прежние успехи Карамзина смотрел он с презрением; но когда сей последний приметно начал становиться основателем школы, то он жестоко вознегодовал. В таком расположении духа издал он памфлет под названием: «О старом и новом русском слоге», где сильно и довольно грубо напал на галлицизмы, на нововведения московских писателей. Это был первый пушечный залп из собравшегося неприятельского стана, но он остался без ответа.
Странное, однако же, дело! Тогдашние петербургские литераторы, Львовы, Гераковы и другие, народ все нужный, должностной, поклонники Шишкова, не следовали его учению и славянизм у себя не вводили, в угождение ему довольствуясь дурно писать. Да и сам почтенный Александр Семенович поучал более словами, чем примером.
Спустя несколько времени другой выстрел последовал со сцены. Князь Шаховской, служивший в театральной дирекции (которого берегу я для будущего), написал комедию «Новый Стерн», в которой дурачит сентиментальность каких-то небывалых писателей, шепнув всем на ухо, что он метит на Карамзина. В языке Шаховского также никогда славянского ничего не было; но Шишков охотно прощал ему, как сильному и полезному союзнику. На этот второй вызов также не было ответа; разве почитать ответом веселую эпиграмму молоденького тогда Блудова. Вот она:
Однако же эта иголка на некоторое время как будто прекратила действие тяжелых орудий. После этого долго не было явной войны. Она было возгорелась в 1810 году, но скоро остановлена происшествиями другой войны, более кровопролитной. После вторичного занятия Парижа наша литературная война возобновилась с новою яростью; последние ее жестокие сражения происходили в 1816-м. Если я останусь жив, и будет у меня время, то я неминуемо должен быть ее историком.
[455]
Никто в этом не заметил необыкновенной странности. Новенький Петербург, полунемецкий город, канал, через который втекала к нам иностранная словесность и разливалась по всей России, воевал с старою Москвой за пренебрежение к древнему нашему языку, за порчу его, искажение, за заимствование слов из языков западных. <…>
В Пензе не находилось хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны Загоскиной. Замечено, что тяжкие испытания разным образом действуют на людей: они более раздражают злых, а добрых научают терпению и снисходительности. Так было с Натальей Михайловной. Почти в ребячестве выдали ее за человека хотя молодого, но весьма странного. С самыми кипящими страстями Николай Михайлович Загоскин любил добродетель и исполнен был религиозных чувств; без родителей, без советов, совершенно свободный, хотел он от силы страстей оградиться неодолимым оплотом и затворился в стенах монастыря. Там более года постился он, молился и готов был принять пострижение, а плоть все одолевала дух. Добросовестные монахи убедили его предпочесть супружество, как состояние истинно христианское, если не столь святое, как монашество. Как он был весьма не беден, не стар и недурен собою, то легко было найти ему невесту, и в награду за его добросердечие небо послало ему девочку кроткую, умную и веселую. С ней обрел он счастие, а она только благоразумием и осторожностию могла, наконец, до него достигнуть; неприметно исправляя их, должна была она переносить кучу странностей, которые были следствием борьбы человеческих слабостей с упорною волею победить их. Проведя несколько лет с ним в добровольном заточении, она умела извлечь его из него вместе с народившимся семейством.
Сие семейство уже тогда было многочисленно. Ныне столь известный Загоскин31 был первым плодом сего брака, и странности, которые первые примеры и первое воспитание в нем оставили, ни временем, ни трением об людей высших сословий не могли быть изглажены. Ему было тогда лет четырнадцать, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя учение его не только не было кончено, мне кажется, даже не было начато. Имя Миши, коим звали его, было ему весьма прилично; дюжий и неуклюжий, как медвежонок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико. Мне он не нра-
[456]
вился по тем же самым причинам, по коим многие и теперь имеют несправедливость не любить его: прежде не знал он существования приличий света, а после мало об них заботился. Многие и тогда обижались слишком фамильярным его обхождением. Как истинно русский весельчак, любил он всегда без желчи, без злости, без малейшего дурного умысла подшучивать в глаза над слабостями людей и, таким образом, задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто творил из них непримиримых себе врагов; потом он же удивлялся и готов был сказать: да, кажется, за что бы? Не только тогда, но и гораздо после не мог я подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и ярко в нем развился; при всегдашней его рассеянности, которая давала ему вид легкомыслия, мог ли я предполагать в нем те постоянные, глубокие наблюдения, кои снабдили сочинения его столь живыми, верно изображенными картинами? Кто бы как ни любил перо его, но кто узнает сердце, которое им водило, тот полюбит человека, я уверен в том, еще более, чем автора. Я скажу об нем, как Иисус о Магдалине: многое должно ему простить, ибо много любил он добро, исполнение своих обязанностей, много любил бога, отечество свое и весь род человеческий.
Осип Петрович и Анна Петровна Козодавлевы32 родились в одном году и в одном городе; потом встретились, влюбились, женились и, наконец, в одном и том же году оба умерли.
Сама природа приготовила их друг для друга, и судьба споспешествовала их соединению. Столь согласных и нежных супругов встретить можно было не часто; учению апостола касательно браков «да будет две плоти воедино» следовали они с точностью. Действительно они были как бы одно тело, из коего на долю одному достались кожа да кости, а другой мясо и жир. Каждый отдельно являлся более или менее дробью; только в приложении друг к другу составляли они целое. Оттого во всю жизнь ни на одни сутки они не разлучались; к счастью, Осип Петрович не был воин, не то Анна Петровна сражалась бы рядом с ним. Оба замечательны были одинаковым безобразием, и что еще удивительнее, в обоих оно было не без приятности. Им было тогда за пятьдесят лет; следственно, в молодости это безобразие могло быть и привлекательно, и тем объясняется взаимная их страсть. <…>
[457]
Когда при вступлении на престол Павел наследника своего сделал шефом Семеновского полка33, Дмитриев был в нем капитаном. Мужественная красота его поразила юношу; остроумие его забавляло и пленяло однополчан, тогда как в то же время какая-то природная важность в присутствии его удерживала лишние порывы их веселости: они почтительно наслаждались им. Из офицеров тогдашней гвардии немногие отличались образованностью; зато все они, почти без изъятия, подобно Дмитриеву, гордились известностью, древностью благородных своих имен. В самом же Дмитриеве (пусть ныне назовут это предрассудком) старинный дворянин был еще чувствительнее, чем поэт и офицер. Оттого товарищи еще более любили его, в этом только почитали себя ему равным, во всем же прочем признавали его первенство между собою. По какому-то недоразумению схвачен был он (разумеется, при Павле) и как преступник посажен в крепость34. Не прошло суток, как истина открылась, и он призван в кабинет царя, куда явился с покорностью подданства и смелостью невинности. Павел восхитился им и, по обыкновению своему, переходя из одной крайности в другую, из гвардии капитанов произвел его прямо в обер-прокуроры сената, с определением на первую могущую открыться вакансию. Вот в каких обстоятельствах узнал его Александр и после того всегда сохранял о нем высокое мнение.
Как стихотворец, будет всегда занимать он на русском Парнасе замечательное место. До него светские люди и женщины не читали русских стихов или, читая, не понимали их. Не было середины: с одной стороны, Ломоносов и Державин, с другой, Майков35 и Барков36, или восторженное, превыспреннее, или площадное и непотребное, ода «Бог»37 или «Елисей». Скажут, конечно, что Княжнин прежде его написал в стихах две хорошие комедии – «Хвастун» и «Чудаки»: да разве в них есть разговорный язык хорошего общества? Доказав «Ермаком» и «Освобождением Москвы» все, что в лирическом роде он в состоянии сделать, не от бессилия перешел он к другому, на первый взгляд, более легкому роду. Его «Модную жену», «Воздушные замки» и даже множество песенок начали дамы знать наизусть. С недосягаемых для публики высот свел он Музу свою и во всей красе поставил ее гораздо выше гниющего болота, где воспевали Панкратий Сумароков38 и ему подобные: одним словом, он представил ее в гостиных. То, что пред-
[458]
принял он в стихах, сделал в прозе земляк его, друг и брат о Аполлоне, Карамзин, и долго оба они сияли Москве, как созвездие Кастора и Поллукса39.
Государь не ошибся, избрав министром поэта Дмитриева40; но только не поэта, а коренного русского человека по отцу и по матери. Дмитриев, который, может быть, никогда не думал о судебной части, должен был заняться ею вследствие счастливого каприза императора Павла. С его необыкновенным умом, с его любовью к справедливости ему не трудно было с сею частью скоро ознакомиться, и русское правосудие сделало в нем важное приобретение. Но оно отвлекало его от любимых его стихотворных занятий, коим надеялся он посвятить всю жизнь, и несколько лет провел он в отставке. Желая уму его дать более солидную пищу, Александр сделал его сперва сенатором, а вскоре потом министром. Тогда не был я столь счастлив, чтобы лично с ним познакомиться (это случилось гораздо позже), но как все короткие приятели мои пользовались его благосклонностью, которую впоследствии и на меня простер он, то и тогда я уже знал характер его, как будто век с ним жил. Как во всяком необыкновенном человеке, было в нем много противоположностей: в нем все было размеренно, чинно, опрятно, даже чопорно, как в немце; все же привычки, вкусы его были совершенно русского барина; квас, пироги, паче всего малина со сливками были его наслаждением. Любил он также и шутов, но в них посвящал обыкновенно чванных стихоплетов. Многие почитали его эгоистом потому, что он был холост и казался холоден. Любил он немногих, зато любил их горячо; прочим всегда желал он добра; чего требовать более от человеческого сердца? Крупные и мелкие московские литераторы всегда составляли его семью, общество и свиту: в молодости и в зрелых летах был он их коноводом, в старости патриархом их. Человека, не имеющего никаких слабостей, мне кажется, любить нельзя, можно ему только что дивиться; Дмитриев, с прекрасными свойствами истинных поэтов, имел некоторые из их слабостей: в нем была чрезвычайная раздражительность и маленькое тщеславие. С этою приправкой самая важность его, серьезный вид делались привлекательны. <…>
Кажется, я уже познакомил читателя с Осипом Петровичем41; только боюсь, неумышленно не дал ли я о нем худого мнения, которого, право, я сам вовсе не имел.
[459]
Не все хорошо в людях, не все и худо. Слабость, которую разделял он с большею частию людей, занимающих в Петербурге высшие места, конечно, являлась в нем несколько в преувеличенном виде: он любил двор до обожания и для получения милости царя или даже хорошего расположения его приближенных готов он все был сделать. Знакомые его могли на нем, как на барометре, справляться о состоянии придворной атмосферы. Готовые мнения получал он прямо из дворца или из кабинета Сперанского и никаких других себе не позволял. Я помню сначала, как он с женой не произносил никогда имени Наполеона без почтительного восклицания. Некоторое время, гораздо позже и то недолго, либеральные идеи были в моде при дворе: из раболепного подражания находил он тогда холопские чувства в некоторых баснях Крылова. Что это все доказывает, если не верноподданничество, которое с нынешними испорченными понятиями только может казаться странным? Корыстолюбие его, впрочем, весьма умеренное, никто не думал порицать: всякий знал, что он предается ему не с намерением обогатиться, не из алчности к прибыли, а для поддержания высокого сана, на который был он поставлен. Если бы император Александр был пощедрее к своим министрам, то некоторым из них не нужно было бы прибегать к средствам, не совсем одобряемым строгою нравственностью.
Козодавлев был литератор и член Российской Академии. Ему нужно было щегольнуть словесностию в министерстве своем: для того учредил он при нем газету под именем «Северной почты» и сам наблюдал за ее изданием. Весьма мало заграничных известий помещалось в сей газете, все из опасения, чтобы не провраться; зато все столбцы ее наполнялись статьями о свекловице и кунжуте и о средствах из сих растений выделывать сахар и масло. После того начали появляться в ней мериносы, шерсть и суконные фабрики. Запретительная система была тогда во всей своей силе, и он старался доказывать, сколь выгодно произведения иностранной промышленности заменять отечественными.
Я не скрыл его недостатков; после того грешно бы было умолчать о его любезных, в столичном мире редких свойствах. Он был поистине добрейший человек, не знал ни злобы, ни зависти: надобно было видеть его радость, когда узнавал он о чьем-нибудь повышении, о чьих-либо успехах! Когда же самому удавалось ему выпрашивать
[460]
награды, спасать кого от беды, то он совершенно бывал счастлив. Без всякого притворства был он исполнен религиозных чувств; после, конечно, это пригодилось ему; но он показывал набожность, когда еще она не была в моде. Как было разгадать его? Он был умен, просвещен, добр, христолюбив, а со всем тем!.. Может быть, добротою сердца своего измеряя пучину благости господней, он более надеялся на милосердие его, чем на правосудие. <…>
Пристрастие ко всему иностранному, и особенно к французскому, образующегося русского общества, при Елизавете и Екатерине, сильно возбуждало досаду и насмешки первых двух лучших наших комических авторов, Княжнина и Фонвизина, как оно возбуждало их тогда и возбуждает еще и поныне во всех здравомыслящих наших соотечественниках. Если бы что-нибудь могло ему противодействовать, то, конечно, это были забавные роли Фирюлиных в «Несчастии от кареты»42 и в «Бригадире» – глупого бригадирского сынка, которого душа, как говорит он, принадлежит французской короне. Но течение подражательного потока в их время было слишком сильно, чтобы какими-нибудь благоразумными или даже остроумными преградами можно было остановить его, тогда как не только нам, потомкам их, едва ли нашим потомкам когда-нибудь удастся сие сделать.
Воспитанный в их школе Крылов, если можно сказать, еще быстрогляднее их на несовершенства наши, думал, что приспело к тому время, когда, в надменности нашей, при Александре, забыли мы даже сердиться на немцев и, казалось, в непримиримой вражде с революцией и Бонапарте. Он жестоко ошибся. Что могло быть веселее, умнее, затейливее его двух комедий «Урока дочкам» и «Модной лавки», игранных в 1805 и 1806 годах? Можно ли было колче, как в них, осмеять нашу столичную и провинциальную галломанию? Во время частых представлений партер был всегда полон, и наполнявшие его от души хохотали. Конечно, это был успех, но не тот, которого ожидал Крылов. Только этот раз в жизни пытался сей рассеянный, по-видимому, ко всему равнодушный, но глубокомысленный писатель сделать переворот в общественном мнении и нравах. Ему не удалось, и это, кажется, навсегда охолодило его к сцене.
[461]
Высшее общество, более чем когда, в это время было управляемо женщинами: в их руках были законодательство и расправа его. Французский язык в их глазах был один способен выражать благородные чувства, высокие мысли и все тонкости ума, и он же был их исключительная собственность. И жены чиновников, жительницы предместий Петербурга, и молодые дворянки в Москве и в провинциях думают смешным образом пользоваться одинаковыми с ними правами. Какие дуры! Спасибо Крылову, и они одобряли его усилия и улыбались им. Что может быть общего у французского языка, сделавшегося их отечественным, с тем, что происходит во Франции? И она, грозившая овладеть полвселенною, в их глазах находилась в переходном состоянии. Таково было упорное мнение эмигранток, их воспитывавших, которое они с ними усердно разделяли. И, к счастию, они не ошиблись.
Все это гораздо легче Крылова мог подметить другой драматический писатель, более его на сем поприще известный, князь Александр Александрович Шаховской. Сперва военная служба в гвардии, где он находился, потом придворная мало льстили его самолюбию. Он рожден был для театра: с малолетства все помышления его к нему стремились, все радости и мучения ожидали его на сцене и в партере. Как актер, утвердительно можно сказать, он бы во сто раз более прославился, чем как комик: не будь он князь, безобразен и толст, мы бы имели своего Тальму, своего Гаррика43. Согласно его склонностям, он был впоследствии определен управляющим по репертуарной части императорских публичных зрелищ, под начальством главного директора Александра Львовича Нарышкина44. Тогда он сделался бессменным посетителем дома своего начальника, в котором соединялось и блистало все первостепенное в столице, но в котором оставалось много простора для ума и где можно было (однако же, не забываясь) предаваться всем порывам веселости. Странен был этот человек, странна и судьба его, и стоит того, чтобы беспристрастно разобрать как похвалы, некогда ему расточаемые, так и жестокие обвинения, на него возводимые.
Права рождения, воспитания спозаранку поставили его в короткие сношения с людьми, принадлежащими к лучшему обществу; вкус к литературе сблизил его с писателями и учеными; наконец, страсть к театру кинула его совершенно в закулисную сволочь. Первую полови-
[462]
ну жизни своей беспрестанно толкался он между сими разнородными стихиями, пока под конец совсем не погряз он между актерами и актрисами. Много дано ему было природою живого, наблюдательного ума, много чтением приобрел он и познаний; все это обессилено было в нем легкомыслием и слабостию характера. Каждое из сословий, им посещаемых, оставляло на нем окраску, но невоздержность, безрассудность, завистливость жрецов Талии всего явственнее выступала в его действиях и образе мыслей. Оттого-то всякая высокоподрастающая знаменитость, особенно же драматическая, приводила его в отчаяние и бешенство, которых не имел он силы ни одолеть, ни скрыть. Против одной давно утвердившейся знаменитости не смел он восставать и одной только посредственности умел он прощать. И со всем тем он был чрезвычайно добр сердцем, незлобив, не злопамятен; во всем, что не касалось словесности и театра, видел он одно восхитительное, или забавное, или сожаления достойное.
Как ни горячился он, но, почти живши в доме у Нарышкиных, всегда имел он сметливость не идти против господствующего мнения в большом обществе. Он охотнее нападал на тех, коих более почитал себе под силу. Петербург мало дорожил тогда Москвою. Карамзин, живущий в ней, казался ему безопасен. Карамзин, предмет обожания москвичей, весьма преувеличенного молвою, приводил его в ярость, и он хватил в него «Новым Стерном»45. Он уверял, что хочет истребить отвратительную сентиментальность, порожденную будто бы им между молодыми писателями, и в то же время сознавался, что метит прямо на него. После того, в двух комедиях, впрочем весьма забавных, «Любовная почта» и «Полубарские затеи», без милосердия предавал он осмеянию деревенских меломанов и учредителей домашних оркестров, трупп и балетов, все как будто похитителей принадлежащих ему привилегий и монополий. Потом с каждым годом становился он плодовитее. Сделавшись властелином русской сцены, он превратил ее в лобное место, на котором по произволу для торговой казни выводил он своих соперников. Надобно, однако же, признаться, что страсть его не совсем дворянская и княжеская, имела самое благодетельное действие на наш театр: его «комедий шумный рой»46, как сказал один из наших поэтов, долго один разнообразил и поддерживал его. Что еще важнее, он был неутомимым и искусным образо-
[463]
вателем всего нового, молодого поколения наших лицедеев.
Около описываемого мною времени жил он в большом согласии с одним поэтом, мало дотоле известным, хотя он был уже в чинах и довольно зрелых летах. Мне случалось видеть и не один раз разговаривать с Владиславом Александровичем Озеровым47, потому что он был двоюродным братом Блудова и что сей последний, по чрезвычайной молодости лет, кажется, с начала приезда своего был поручен его попечениям. Многие утверждали, что он ума не обширного; мне казалось совсем противное: я слушал его с величайшим удовольствием, а от произведений его бывал вне себя. Только в конце 1804 года началась его литературная известность самым блестящим образом. Все старые трагедии Сумарокова и даже Княжнина по малому достоинству своему и по обветшалости языка были совсем забыты и брошены. Переводу Шиллеровых «Разбойников» названия трагедии давать не хотели, и казалось, что разлука наша с Мельпоменой сделалась вечною. Вдруг Озеров опять возвратил ее нам. Появление его «Эдипа в Афинах» самым приятным образом изумило петербургскую публику. Трагедия эта исполнена трогательных мест и вся усыпана прекрасными стихами, из коих многие до сих пор сохранились еще в памяти знатоков и любителей поэзии. Много способствовал также успеху этой пьесы первый дебют молоденькой актрисы Семеновой48 в роли Антигоны: с превосходством игры, с благозвучием голоса, с благородством осанки соединяла она красоту именно той музы, которой служению она себя посвящала.
В конце следующего года показался его «Фингал». Тут было гораздо более энергии, и дикая природа севера, которою отзываются характеры всех действующих лиц, нашим северным зрителям «Spectateurs du Nord» * весьма пришлась по вкусу. Едва прошел год, и «Дмитрий Донской» был представлен в самую ту минуту, когда загорелась у нас предпоследняя война с Наполеоном. Ничего не могло быть апропее50, как говаривал один старинный забавник. Аристократия наполняла все ложи первого яруса с видом живейшего участия; при последнем слове последнего стиха: «велик российский бог» рыдания раздались в партере, восторг был неописанный. Озеров был
* «Северный зритель»49 (фр.).
[464]
поднят до облаков, как говорят французы. Сие необычайное торжество, увы, было для него последнее. Столь быстрых, столь беспрерывных успехов бедный Шаховской никак не мог перенесть.
Сколько припомню, в 1808 году поставлена была на сцену последняя трагедия Озерова «Поликсена». В пособиях, которыми дотоле Шаховской так щедро наделял его, как сказывали мне, стал он вдруг ему отказывать и, напротив, сколько мог, во всем начал ставить ему препятствия. Наша публика, неизвестно чьими происками предупрежденная не в пользу нового творения, на этот раз не возбуждаемая более патриотизмом и не довольно еще образованная, чтобы быть чувствительною к простоте и изяществу красот гомерических, чрезвычайно холодно приняла пиесу. Ничто не могло расшевелить ее, ни даже пророчество Кассандры, которым оканчивается трагедия и в котором, предрекая грекам падение их и возрождение, она говорит им, что придет народ
Сии стихи, которые бы должны были наполнить наши груди восторгом благородной гордости (и которые, кроме меня, едва ли кто помнит), были лебединого песнею несчастного Озерова.
Он всегда расположен был к ипохондрии; чрезвычайная раздражительность нервов его к тому располагала, и оттого-то так сильно принимал он к сердцу всякую неудачу. Последняя поразила его, и он видел в ней совершенное свое падение. Он начал убегать общества, уединялся, дичал, наконец, бросил службу и скрылся в какой-то отдаленной деревне. Там решился он ума и, к счастию, вскоре потом и жизни.
Но пример его прошедших успехов был заразителен для целой толпы недавно проявившихся мелких стихотворцев: все захотели быть трагиками. Одному только из них, Крюковскому51, удалось сладить с оригинальною трагедией «Пожарский», довольно хорошими стихами писанною; все же другие думали прославить себя одними переводами. Молодой воин Марин перевел «Меропу»52, и старый Хвостов – «Андромаху»53. По следам их Гнедич перевел «Танкреда»54, Жихарев55 – «Атрея», а Катенин – «Сида» и «Аталию»56 (по его Гофолию). Затем уже составилась целая компания переводчиков, которые надеялись иметь успехи посредством складчи-
[465]
ны дарований своих: граф Сергей Потемкин57, какой-то Шапошников58, какой-то Висковатов59 и еще другие, по двое и по трое вместе, пустились взапуски, кто кого хуже, изводить известные французские трагедии, чтоб угодить общему вкусу. Необходимость в помощи Шаховского для постановки сих искажений классических творений на время окружила его искателями. Ему приятно было покровительствовать новые, только что на свет показавшиеся таланты, тем более что в глазах его они в будущем ничего не обещали. Каждая из сих трагедий имела по нескольку представлений, и наша покорная публика, которой воспрещено тогда было не только свистать, но даже и шикать, первые раза два довольно спокойно и терпеливо их выносила; но вскоре потом отсутствием своим, как единым средством ей на то оставленным, пользовалась она, чтоб изъявлять неодобрение свое. Весь этот поток через сцену прямо утекал в Лету; «Меропа» и «Танкред» одни только на некоторое время удержались. С самодовольствием окинув взором всю толпу сих бездарных людей, но в то же время увлекаемый примером, сам Шаховской задумал высоко подняться над ними; этого мало, он затеял в творчестве состязаться с самим Расином, и для того в Библии начал искать сюжет для оригинальной своей трагедии. Немалое время мучился он и наконец разразился ужасною своею «Деборой». С любопытством все кинулись на нее; устрашенные же, скоро стали от нее удаляться. Но не так-то легко, как других, можно было одолеть театрального директора: с каждым представлением зала все более пустела, а «Дебору» все играли, играли, пока ни одного зрителя не стало. <…>
В последние годы царствования Екатерины Второй между литераторами двух столиц возникли какие-то несогласия; но не только до расколу, ни даже до сильных распрей дело не доходило. При Павле, в Москве, куда большая часть писателей удалилась, от столкновения несогласных начали взаимные неудовольствия умножаться и превращаться в нечто, похожее на вражду. Исключая старого Хераскова, который в старой Москве доживал свой век, всех знаменитее были Дмитриев и Карамзин; с ними в тесной связи находился Тургенев60, директор университета, отец многореченного в сих записках Тургенева61, не писатель, но великий друг просвещения. В том же университете одним из трех кураторов был Павел Иванович Голенищев-Кутузов62, человек ум-
[466]
ный и сведущий, но как стихотворец никем не замеченный, не хвалимый и не осуждаемый. Вероятно, сие невнимание встревожило его самолюбие и возбудило досаду на двух сочинителей, более его счастливых. К нему, как бы в виде наперсника, пристал Шатров63, поэт с большими дарованиями, которые преимущественно посвятил он переводу псалмов. Он усердно вдавался в мартинизм64, подобно Тургеневу, и так же, как Карамзин, в первой молодости был поддержан и поощряем Николаем Новиковым, главою мартинистов. Вот почему непонятно, как впоследствии сделался он врагом столь почтенных людей.
Под именем критики разумели тогда брань и поношение, мало знали ее, мало употребляли. Не знаю, правда ли, но меня уверяли потом неоднократно, будто который-то из сих господ (и полно, не оба ли) прибегнули к другому средству нападения, к средству постыдному и жестокому, и ложному доносу на Карамзина: они обвиняли его в якобинизме, и перед кем же? Перед Павлом! Конечно, как все великодушные и неопытные юноши, в первоначальных порывах к добру создавал он некогда утопии, веровал в свободу, в братскую любовь, в усовершенствование рода человеческого. Когда началось его воспитание, в России, по примеру других европейских, даже самых деспотических государств, наставники воспитанникам все указывали на блеск греческих республик, на величие римской; твердили, что с свободой их были неразлучны добродетели, счастие и слава и что с ее утратою они всего лишились; в веках ближе к нашему старались они возбуждать их восторг к Швейцарии и Вильгельму Теллю, к Нидерландам и Эгмонту65; наконец, Северная Америка с своим Вашингтоном и Франклином должна была осуществить для них прекрасные мечты их отрочества. С такими поучениями, с чистою и пылкою душой, в самой первой молодости Карамзин отправлен был путешествовать по Европе, которая тогда полна была надежд и ожиданий благополучнейших последствий от едва начавшейся французской революции. Возвратившись, некоторое время не скрывал он своих благородных заблуждений, пока вид Польши, погибшей от и посреди безначалия, и Франции, политой кровью, не разочаровал его. Чад его давно прошел, но не забытый врагами, послужил к его обвинению. Невежество или доброта людей, управлявших тогда делами, спасли его: в гнусном деле увидели они одно литературное соперниче-
[467]
ство и с пренебрежением бросили его, не доводя до императора. В первобытной невинности наших правительственных лиц (не хуже, чем в преступном знании нынешних) так мало обращали внимания на то, что касалось до словесности, политики и религии, так мало вникали в настоящий смысл преподаваемых злонамерением правил (лишь не говори напрямки), что переводились, печатались и с дозволения цензуры продавались все забавные, веселые и богомерзкие романы Вольтера: «Кандид», «Белый бык»66 и «Принцесса вавилонская»67, за ними даже показался и «Кум Матвей». Вот новое и еще сильнейшее доказательство этой беспечности или неведения. Со времени Екатерины, через все царствование Павла и долго при Александре издавался в Москве неким Матвеем Гавриловичем Гавриловым «Политический журнал»68. Если где-нибудь уцелели экземпляры его, то пусть заглянут в них и подивятся: там, между прочим, найдут целиком речи Мирабо, жирондистов и Робеспьера. Такая смелость должна бы была произвесть по крайней мере удивление; никто не ведал про содержание журнала и никто его ныне не помнит. Ленивые цензоры с рассеянностию пропускали его номера, а название «политического» пугало и отталкивало праздных тогда и невежественных москвичей; малое же число читателей, тайно принимающих живое участие в сохранении его, не спешило разглашениями. На это никто не доносил, и горе тому, кто бы осмелился сие сделать: искони старая Москва любила потворствовать всякого рода маленькому своеволию. Сам издатель Гаврилов, неведомо откуда имевший средства к поддержанию себя и журнала своего, лично был знаком с немногими, чуждался сношений с известными писателями, выставлял свое имя и скрывал свою особу и как будто любил мрак, в который старался погрузиться.
Также особняком, только не в тени, жил и писал тогда в Москве еще один сочинитель, князь Иван Михайлович Долгорукий69, бывший при Екатерине пензенским вице-губернатором. В творениях его было столько же ума, оригинальности и безобразия, как, говорят, и в наружности его; только о первых могу я судить, последней же никогда не видывал. Мне кажется, ему не довольно отдавали справедливости: между стихами его много таких замечательных по силе чувства, мысли и выражения, что не затверживая, сохранил я их в памяти.
[468]
Все это при Павле. Число литераторов при нем было не весьма большое в большой столице. Но сколько в обеих столицах существовало их неприметным образом, сколько скрывалось по деревням, сколько зреющих и даже назревших талантов, чтобы воспрянуть, дожидалось как будто назначенного часа. Он пробил 12 марта. Я был тогда в Москве и помню этот час; откуда что взялось? Как будто из земли выросло! Все с истинным, равным восторгом, но не с равным искусством пустилось приветствовать и славословить Александра; все кинулось, кто к трубам и к лирам, кто к балалайкам и гудкам, принимая одни за другие, все загремело, запело, запищало; одним одам счету не было; старый Херасков и студент Мерзляков удачнее всех воспели пришествие молодого царя.
Прошел год; все поустоялось, поутихло, и приметно увеличившееся сословие начало приниматься за дело, еще мало писать, но составлять из себя общества и избирать предводителей. Настоящих партий, кроме петербургской и московской, быть не могло. Петербургская не замедлила обнаружить свой честолюбивый и нападательный дух; она рассуждала логически: там, где царь, там должна быть и первенствующая власть. Московская же, по примеру не главы своего, а образца и кумира Карамзина, старалась сколь можно более сохранять спокойствия и равнодушия к сим нападениям.
Впрочем, кажется, и довольно трудно было бы кому-либо из сей партии вступить в ратоборство. Все эти тогдашние московские литераторы по большей части были народ смирный. Постараемся перечесть и изобразить их.
Первым, после главных, почитался Василий Львович Пушкин, о котором сказали, что эпиграммы его делают более чести его сердцу, чем уму. Сибарит, франт, светский человек, он имел великое достоинство приучать ушеса щеголих, княгинь и графинь к звукам отечественной лиры. Стихи его не были гениальны, зато благозвучны и напоминали собой благовоспитанный круг, в котором родились. Только под конец, разгневанному до неблагопристойности, случилось ему в одно время выйти из себя и превзойти себя. В таком расположении, с помощию природных добродушия и веселонравия, удалось ему написать небольшую сатиру «Опасный сосед»70, которая изумила, поразила его насмешников и заставила самых
[469]
строгих, серьезных людей улыбаться соблазнительным сценам, с неимоверною живостию рассказа, однако же с некоторою пристойностью им изображенным. Напечатать такого рода стихов не было возможно; но тысячи их рукописных копий, кажется, еще доселе сохранились. Не в первый раз приходится мне говорить о сем Пушкине, может быть, и не в последний.
О Мерзлякове говорить мне будет трудно: много слышал я о нем и сочинениях его, только без внимания, и оттого их почти, а его вовсе не знаю. Мне сдается, что в словесном деле был он то же, что в военном искусстве великий тактик, которому не удалось выиграть ни одного сражения. На нападки, на придирки из Петербурга, кажется, смотрел он как на дрязги, недостойные его внимания. Гораздо, гораздо после был он первый, который читал публичные лекции о русской словесности и в университетской зале собирал вокруг себя многочисленных слушателей и слушательниц.
Жуковский еще мало был известен в первое пятилетие Александрово. Куда ему было вступать в полемику, когда всю жизнь он ее чуждался? Просторечивый и детски или, лучше сказать, школьнически шутливый, он уже был тогда весь исполнен вдохновений, но стыдливый, скромный, как будто колебался обнаружить их перед светом. Не помню, в 1803 или в 1804 году дерзнул он показаться ему. Первый труд его, перевод Греевой элегии7I «Сельское кладбище», остался незамечен толпою обыкновенных читателей; только немногие, способные постигать высокое и давать цену изящному, с первого взгляда в небольшом творении узнали великого мастера. Года два спустя узнали его и, не умея еще дивиться ему, уже полюбили, когда, подобно певцу о полку Игореве, в чудесных стихах оплакал он падших в поражении Аустерлицком72. Видно, в славянской природе есть особенное свойство величественно и трогательно воспевать то, что другие народы почитают для себя унизительным; доказательством тому служат и сербские песни.
В белевском уединении своем, где проводил он половину года, Жуковский пристрастился к немецкой литературе и стал нас потчевать потом ее произведениями, которые по форме и содержанию своему не совсем приходились нам по вкусу. Упитанные литературою древних и французскою, ее покорною подражательницей (я говорю только о просвещенных людях), мы в выборах его увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чер-
[470]
товщина, убийства, освещаемые луною, – да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Леандра, представить нам бешено-страстную Ленору со скачущим трупом любовника! Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но наконец даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус; по крайней мере создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма.
Много говорил я о нем и о таланте его во второй части «Записок» моих. Боюсь повторять себя, но о необыкновенном человеке всегда сыщется сказать в прибавках что-нибудь новое. В беседах с короткими людьми, в разговорах с ними часто до того увлекался он душевным, полным, чистым веселием, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове у него, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе. Оттого-то, мало создавая, все им выбранное на ней спешил он облекать в его свет. Все тянуло его к неизвестному, незримому и им уже сильно чувствуемому.
Не такою ли нежною тоской наполнялись души первых христиан? От гадкого всегда умел он удачно отворачиваться, и, говоря его стихами, всю низость настоящего он смолоду еще позабыл и пренебрег. В нем точно смешение ребенка с ангелом, и жизнь его кажется длящимся превращением из первого состояния прямо в последнее. Как я записался о нем и как трудно расстаться мне с Жуковским! Когда только вспомню о нем, мне всегда становится так отрадно: я сам себе кажусь лучше.
Чтобы переход от него к глупцам сделать менее резким, назову я Макарова. Только не надобно смешивать; между литераторами тогда в Москве их было двое: Петр и Михаил; один был чрезвычайно умен, другой… не совсем. Этот Петр Иванович Макаров был отличный критик, ученый, добросовестный, беспристрастный, пристойный. Он подвизался в журнале, им самим издаваемом, кажется, в «Московском Меркурии», и, разумеется, более за Карамзина. Это продолжалось недолго: он умер слишком рано, едва в зрелых летах, как много других у нас полезных и достойных людей. А Макаров 2-й уцелел <…>.
[471]
Каков бы он ни был, этот Михаил Николаевич Макаров, мне все непонятно, как мог он Шаликову позволить взять перед собой первенство? Разве из уважения к старшинству лет и заслуг. Между сими мужиками и еще одним третьим составился крепкий союз, долго существовавший. У меня глупая привычка всегда узнавать имя и отчество человека и потом сохранять их в памяти. Итак, третьего звали Борис Карлович Бланк (хорошо, что и это еще упомнил, зато уже ничего более о нем не знаю). Эти люди, в совокупности с какими-то другими, много, много, долго, долго писали, а что они писали? Этого ныне в Москве почти никто не помнит, и их творения, еще при жизни их, только с трудом отыскивались в собраниях древних редкостей. Все они, не спросясь здравого рассудка и Карамзина, даже ему незнакомые, принялись его передразнивать, и это в Петербурге назвали его партией.
Один только из них, Шаликов, и то странностями своими, получил некоторую известность. Еще при Павле писал он и печатал написанное. Как в дни терроризма, под стук беспрестанно движущейся гильотины, французские поэты воспевали прелести природы, весны, невинную любовь и забавы, так и он в это время, среди общего испуга, почти один любезничал и нежничал. Его почти одного только было и слышно в Москве, и оттого-то, вероятно, между не весьма грамотными тогда москвичами пользовался он особенным уважением *. У него видели манеру Карамзина и почитали будущим его преемником.
Карамзин довольствовался тем, что у себя никого из сих господ не принимал, он полагал, что для них жестоко обидно будет, если он явно станет отрекаться от них. Они же оставались преспокойны, почитая себя в совершенной безопасности от петербургских нападений и думая, что все стрелы недоброжелательства должны падать на избранного ими. Правда, в Петербурге о них и не думали, а наоборот изречения: «поражу пастыря – и разыдутся овцы», хотели, нападая на паршивых овец, истребить пастыря, который им никогда даже не бывал.
* Мне сказывал Загоскин, что во время малолетства случалось ему с родителями гулять на Тверском бульваре. Он помнит толпу, с любопытством, в почтительном расстоянии идущую за небольшим человечком, который то шибко шел, то останавливался, вынимал бумажку и на ней что-то писал, а потом опять пускался бежать. «Вот Шаликов,– говорили шепотом, указывая на него,– и вот минуты его вдохновения». (Прим. автора.)
[472]
Только Дмитриев окружал себя этим народом и в особенности любил тешиться Шаликовым. Оно, конечно, довольно забавно видеть ворону, которая воркует голубком; но, кажется, скоро это должно прискучить. Вот до чего нас, старых холостяков, доводит иногда скука одиночества! Не знаю, как Дмитриев мог с этим ладить. Он очень дорого ценил высокое звание свое и умел его поддерживать, а до министерства своего и после него жил в Москве всегда в обществе так называемых литераторов. Известно, что все эти мелкие писачки, все люд заносчивый и тщеславный: напечатает четверостишие и думает уже иметь права на бессмертие и на равенство с Вольтером. Если б Данте и Шекспир воскресли, мне кажется, что самый последний из них, не задумавшись, сел бы с ними рядом и начал говорить им «ты». Ничего не может быть труднее, как удерживать тварей, всегда готовых положить ноги на стол, а этой работе посвятил себя Иван Иванович. Он стоял так высоко, что она ему была легче, чем кому другому; однако же не раз и он вынужден был забывающим себя отказывать от дому. И как ни говори, это несколько роняло его в мнении и приготовило то нестерпимое обращение словесников, которое мы ныне видим. Нет, я придерживаюсь французской поговорки, что лучше быть одному, чем худо сопровождаемому.
Ни с Жуковским, ни с Шаликовым не нашел я приличным назвать вместе Владимира Васильевича Измайлова73. Он, говорят, был человек почтенный и добрый, только также чересчур вдавался в ложную чувствительность. Недавно попытался я прочесть «Путешествие» его в полуденную Россию; и что же? Слогом отменно опрятным написаны все пустяки, о коих не стоило говорить. Нет возможности читать это наркотическое произведение: скука и зевота так и одолевают.
Около 1806 года Карамзин перестал издавать «Вестник Европы» и передал его молодому другу своему, Жуковскому. Я говорил уже об этом журнале в предшествующей части сих «Записок». Примечательно в нем было быстрое развитие таланта издателя, и до того уж необычайного; он рос не по дням, а по часам, так что сама Бедная милая Лиза уже казалась девчонкой в сравнении с величественною Марфой: что это за красота и что за сила в ее изображении! С этого времени он умолк и предался великому, бессмертному труду, с высочайшего соизволения им предпринятому.
[473]
Про другие московские тогдашние журналы слышал я только вскользь. Помню, что еще до «Вестника» при «Московских ведомостях» еженедельно выдавался литературный листок под названием «Ипокрены» и что сей мутный, неприметный ручей тек без всякого шума. После, если не ошибаюсь, были и «Эфемериды»; а после еще и «Меркурий», издаваемый Макаровым, про который я уже говорил. Вдруг вздумалось затейнику Макарову 2-му, который первому совсем не был родня, объявить об издании «Амура» под вымышленным именем небывалой княжны Елизаветы Трубецкой. Дорого было пришлось ему расплачиваться за эту совсем неумную проказу: все Трубецкие восстали, и начальство архивское едва могло дело сие утушить. Эротическими названиями надеялись эти господа привлекать и женщин. Таким образом явилась и шаликовская «Аглая», и были читатели, которые дуру эту принимали за «Грацию».
Совсем в ином духе, в ином роде показался наконец «Русский вестник». Для успехов более всего нужно умение выбирать время. Когда изданием сего журнала Сергей Николаевич Глинка74 сделался известен, москвичам начинало уже тошниться от подслащенного рвотного, приготовляемого другими журналистами и их сотрудниками, и любовь к отечеству приметно возрастала с видимо умножающимися для него опасностями. Глинка был истинный патриот, без исключения превозносил все отечественное, без исключения поносил все иностранное. Пусть ныне смеются над такими людьми: я люблю их непреклонный характер целиком. В обстоятельствах, в которых мы тогда находились, журнал его, при всем несовершенстве своем, был полезен, даже благодетелен для провинций. <…>
Да что же ты ничего не говоришь о сенаторе-кураторе Кутузове? Скажут мне, что с ним сделалось? Или что он делал? Он отмалчивался, ни с кем не ссорился и оставался представителем и корреспондентом Петербурга.
Гораздо опаснее его и гораздо его сердитее был новый противник, который сначала тайно, а потом явно восставал на Карамзина. Он, так же как и Зоил, был родом и душою грек, находился профессором истории в Московском университете и назывался Михаил Трофимович Каченовский73. Все недруги его, а их было много, отдавали справедливость его уму и учености; но вместе с тем имел он все те ненавистные свойства, которые от-
[474]
личают греков нынешнего и всех прошедших времен и которые после имел я случай так коротко узнать: беспокойный дух, ужасное высокомерие, пронырство, неблагодарность, раздражительность и вечная жажда мести. Можно себе представить, как все выше и выше полет Карамзина должен был терзать его мрачную душу. Долго, весьма долго один парил, как орел, а другой не переставал шипеть, как змея.
В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед и защитником Карамзина от неприятелей и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их.
Один из богатых и просвещеннейших московских вельмож, князь Андрей Иванович Вяземский76, вручил судьбу и руку прекрасной любимицы своей, дочери сердца своего, другу своему Карамзину и, чувствуя приближение смерти, ему же поручил воспитание и будущую участь единственного малолетнего своего сына. Со всею силой нежного и пылкого сердца ребенок привязался к зятю, опекуну, второму отцу своему; а этому казалось, что бог даровал ему сына, и какого же? – исполненного благородства, ума и чувствительности. Может быть, снисходительность, слепое к нему пристрастие его после во многом повредили отроку, который слишком рано захотел быть юношей и мужем. Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любовью же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть еще тешится; а дитя куда тяжел был на руку! Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич кого за руку – рука прочь, кого за голову – голова прочь. И это было в Москве, где всегда с нежным восторгом говорят о Западе и стараются подражать ему, а между тем в обыкновенном быту сохраняют все навыки Востока, где глупцы всегда стояли и стоят еще под защитою законов целого общества, высшего, низшего; где животные всякого рода хранимы так же всеобщим скотолюбием, как в Цареграде собаки и кошки; где юродивые почитаются существами священными, как делибаши7Т по всей Азии. В этом странном, старинном русском европействующем городе, где всякий, не опасаясь названия клеветника, не обинуясь, может по заочности такого-то и такого-то, иногда весьма честного человека, назвать мошенником, вором, злодеем, беда, если кто острым слов-
[475]
цом заденет дурака; а из Вяземского они так и сыпались.
Он мог бы пострадать: как ни зубаст он был, его бы заели, но он был молод, богатый жених и чрезвычайно влюбчив. И женщины-матери, и дочери, охотно видя в нем будущего зятя, любовника или мужа, стояли за него горой. К тому же везде женщины более способны понимать тонкости ума и во всех странах любят смелость мужчин: то и другое они в нем находили и всем составом своего пола отстаивали его. И не одни еще: он скоро сделался идолом молодежи, которую роскошно угощал и с которою делил ее буйные забавы. Да не подумают, однако же, что этот остряк, смельчак был с кем бы либо дерзок в обращении; он всегда умел уважать пол и лета. Баловень родных, друзей и прекрасного пола, при постоянных успехах и среди многих заблуждений своей счастливой молодости он никогда не зазнавался, всегда оставался доброжелателен, сострадателен и любящ. Он служил доказательством, что остроумие совсем не плод дурного сердца, а скорее живого, веселого нрава. О чрезвычайном стихотворном его таланте пока ни слова; будет еще место и время поговорить о нем, если поживется. <…>
С Москвою кое-как еще я справился; не знаю, как-то будет с Петербургом.
Державин находился в нем в том же самом состоянии успокоившегося патриарха, как Херасков в Москве, и тем самым перед нею давал уже ему перевес в отношении к словесности. Заживо он сопричтен уже был к сонму богов: два верховные жреца, Шишков и Шаховской, ему поклялись и именем его управляли толпою мелких служителей, дьячков, пономарей, звонарей Аполлона.
О счастливой мысли первого посредством славянских изречений и оборотов украсить и усилить русский язык я уже говорил. Она родилась в голове совсем негениальной, тем не менее должны мы чтить память весьма почтенного, хотя немного смешного старца. Много говорил я и о последнем, может быть, слишком много.
О Крылове неоднократно упоминал я. В изображении русского театра об Озерове высказал все, что знал. Мне остается еще представить множество рядовых писателей, которые слепо шли под знаменами двух вышесказанных предводителей, особенно же Шишкова; простых
[476]
работников, которые словесностью, как ремеслом, втихомолку промышляли. Их ничтожество давно поглощено забвением, я не вижу ни возможности, ни нужды их оттуда вытаскивать. Если же который взбредет на память, то, да простит мне читатель, я не оставлю назвать его.
Между сими мелкими лицами в памяти моей возникает одно крупное лицо, которое раза два мимоходом пришлось мне назвать. Дмитрий Иванович Хвостов, первый и предпоследний граф сего имени (ибо пожилой сын его, вероятно, не женится), был известен всей читающей России. Для знаменитости, даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства. Когда и как затеял он несколько поколений смешить своими стихами, этого я не знаю; знаю только понаслышке, что в первой и в последующих за нею молодостях, лет до тридцати пяти, слыл он богатым женихом и потому присватывался ко всем знатным невестам, которые с отвращением отвергали его руку. Наконец, пришлась по нем одна княжна Горчакова, которая едва ли не столько же славилась глупостью, как родной дядя ее Суворов – победами. Этот союз вдруг поднял его: будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером пятого класса – звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось восемнадцатилетним знатным юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. «Что мне делать,– отвечала она,– я ни в чем не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал».
Тут начинается его известность. Придворный чин, родство с Суворовым, большое состояние, все это высоко ценилось; при этом поэзия его шла даром: никто не обращал на нее внимания. А в ней-то и видел он надежды на будущее свое величие. Обер-прокурорство, сенаторство, лента, наконец, графское достоинство, в память Суворова сардинским королем ему дарованное, все это, конечно, тешило его тщеславие, но не удовлетворяло честолюбия: ему хотелось прославиться, жить в веках. Обманывал ли он сам себя насчет дарования своего, или морочить хотел людей, чтобы при жизни насладиться их рукоплесканиями, вот что трудно разобрать. Всю долголетнюю жизнь свою просуетился, промучился он напрасно только из того, чтоб его похвалили; желание это об-
[477]
ратилось у него в болезнь, в чесотку, в бешенство. Чего он ни делал? Подличал известным авторам, дарил сочинения свои книгопродавцам и нераспроданное сам покупал, чтобы приступить к другому изданию; кормил, угощал голодных стихотворцев, ссужал их деньгами.
Хвалить его было им невозможно: никто не решился бы на столь позорное дело; совестливые молчали, а бессовестные над ним же ругались в стихах. Вошло в обыкновение, чтобы все молодые писатели об него оттачивали перо свое, и без эпиграммы на Хвостова как будто нельзя было вступить в литературное сословие; входя в лета, уступали его новым пришельцам на Парнас, и таким образом целый век молодым ребятам служил он потехой.
Такое общее ожесточение можно бы назвать бесчеловечием, если б сам он поступками своими не беспрестанно подавал повод к насмешкам. За все брался он: сочинял, переводил трагедии, комедии, поэмы, оды, послания, басни, одно хуже, одно нелепее другого; метромания нигде еще не являлась в столь смешном, неугомонном и запачканном виде. Он имел характер неблагородный, наружность подлую и наряд всегда засаленный. Неизвестно, примечательная нечистоплотность от жены ли к нему привилась, или от него к ней; только неопрятность обоих супругов была баснею Петербурга. Кажется, сам он никогда не умывался, а в комнатах его, подобных хлевам, до того дышало заразительным воздухом, что мефитизм78 стали знать под названием хвостивизма. Он не принадлежал ни к какой партии, но втирался без разбору во все литературные общества и во всех оставался нулем, хотя, разумеется, нигде в глаза не смели его дурачить. <…>
Природа поставила Николая Ивановича Гнедича на той самой точке, где кончается глупость и начинается ум; но в него с этой точки довольно часто умел он делать набеги. Лицо его, которому говорят, суждена была красота, изуродовано и изрыто было оспою, которая в опустошительной ярости своей лишила его глаза. Муза его была чопорна, опрятна, суха и холодна, как он сам; на выдумки не была она великая мастерица, да и в подражаниях и переводах более всего отличалась точностью и верностью. По приезде его первый раз в Петербург обстоятельства его, видно, были до того плохи, что он решился на неслыханное средство, на искание покрови-
[478]
тельства и помощи графа Хвостова. В послании к нему, которое, к счастью его, не было напечатано, но с которого, к несчастью его, не все успел он потом истребить копии, в сем послании, где, умоляя его, старается он его разжалобить, находится между прочим этот стих:
И дурен я, и крив, и денег не имею.
Счастье ему помогло: он скоро нашел другого покровителя, посильнее, поумнее и поблагороднее Хвостова, который во вверенных управлению его частях успел доставить ему покойных места два с хорошим содержанием. Тогда задумал он приступить к труду важному, долголетнему, который успешно он продолжал и счастливо кончил, к переводу «Илиады». Для поддержания его в сем труде испрошено ему было великое поощрение, пенсион в полторы тысячи рублей от великой княгини Екатерины Павловны79. <…>
Говоря о русском театре, я называл несколько человек, переводивших трагедии. Литературные их достоинства были так слабы, что сего было бы достаточно, если бы в некоторых из них не было бы чего другого примечательного. Например, Преображенский офицер, потом полковник и флигель-адъютант, Сергей Никифорович Марин, переводчик «Меропы», был военный остряк, от которого в стихах крепко доставалось и словесникам, и светским людям. Они с Шаховским, будучи бессменными у Александра Львовича Нарышкина, сделались почти его домашними поэтами. Был еще к ним в прибавку и третий автор, не на одной ноге с ними принятый. Не знаю, как попал в этот дом один бедный, своенравный и самолюбивый грек, воспитанный в кадетском корпусе и в нем же потом служивший. Имя его было Геракос, которое на славяно-российский язык перевел он Гавриилом Гераковым80 и любил, чтоб так его называли. Известно, что между греками для ума нет среднего состояния: все богачи или нищие и что им убогие всегда горды душою. Тогда в России стоило что-нибудь написать да только напечатать, чтобы приписаться к цеху даже ученых; столько было сметливости в Геракове, чтоб это увидеть, и он начал что-то писать и отдавать в печать. Его тщеславие беспрестанно тревожили и кололи, а когда начинал он выходить из терпения, то спешили успокаивать его какою-нибудь похвалой или лаской; право похвастать тем, что он короток в знатном доме, было лучший бальзам, врачевавший раны, наносимые его кичли-
[479]
вости, и ослепление его насчет его достоинств не позволяло ему видеть, что вход в него доставляет ему единственно титул шута. Марин был его казнью: в пародии стихов Державина на рождение порфирородного отрока он собирает у колыбели его колдунов и таким образом заставляет их предрекать его будущность:
Он пылал страстью ко всему прекрасному полу, восхвалял его в прозе и вечно ругал нежных своих московских соперников. Этим угодил он Шишкову и заслуживал от него самые лестные отзывы.
Несколько слов еще об одном военном стихотворце, однополчанине Марина, об офицерчике Павле Александровиче Катенине, переводчике «Сида» и «Гофолии». Круглолицый, полнощекий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на конфорке. Он был довольно хорош с Шаховским, ибо далеко превосходил его в неистощимой хуле писателям: ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым, и Вергилий82 всегда бывал первою его жертвой. Мудрено завидовать людям, две тысячи лет назад умершим; может быть, ему не хотелось быть наряду с обыкновенными людьми, почтительными к давно признанным достоинствам, и смелостью суждений стать выше их; а скорее не было ли это следствием страсти его к спорам? В новейшее время мы также знали одного поэта83, только настоящего, который в словесной борьбе находил величайшее наслаждение; но он брал диалектикой, умом и всегда умел сохранять в ней учтивость и хладнокровие. Катенину же много помогали твердая память и сильная грудь; с их помощью он всякого перекрикивал и долго продолжал еще спорить, когда утомленный противник давно отвечал ему молчанием. Не из угождения Шишкову (ибо он никому не хотел нравиться, а всех поражать), а так, из оригинальности, в надежде служить примером, Катенин свои трагедии, стихотворения без меры и без искусства начинял славянизмами. И что это было? Верх безвкусия и бессмыслия! Видал я людей самолюбивых до безумия,
[480]
но подобного ему не встречал. У него было самое странное авторское самолюбие: мне случилось от него самого слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовет его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это готов он вступиться с оружием в руках. Если б он стал лучше прислушиваться, то ему пришлось бы драться с целым светом.
И граф Сергей Павлович Потемкин был тоже поэт и офицер, и того же Преображенского полка. Тройственный союз его с Шапошниковым и Висковатовым недолго продолжался. Стихотворство у него было прихоть богача, роскошь его: он любил не театр, а актрис, не литературу, а маленькое меценатство. Он соскучился, женился, переехал в Москву и там принялся за другого рода роскошь, более блистательную, в которой показал он гораздо более вкуса и уменья, но которая довела его почти до нищеты. Оба товарища его пропали потом без вести, как будто канули в воду. Наши предки, которые, вероятно, слыхали о Лете, под этим разумели быть поглощену забвением.
Была еще пара писателей, которые по сходству названий всегда вместе близнецами приходят мне на память. Один из них, Евстафий Станевич84, кажется, малороссиянин, переводчик Юнговых «Ночей»85, с душою мрачною, почитался у нас Рембрандтом поэзии. Другой, Анастасевич86, поляк, употребляем был графом Хвостовым для разных послуг, замечателен был тем, что в русские свои переводы и сочинения вводил множество польских слов, западных императоров называл заходными и слуг именовал всегда холуями. <…>
Вообще в первое десятилетие Александрово, петербургский так называемый ученый мир молодечеством и самохвальством старался взять верх над московским; а в сей последней, как бы смотря с презрением на варваров, хотели отличить себя от них любезностью и нежностью и, как Дон-Кихот в Дмитриевой басне говорит грубиянам: «не бей меня, но пой», одни облекались в броню и вооружались мечом, другие венчались розами и в руках держали свирель. Жаль только, что петербургские писатели со смелостью соединяли мало ума и таланта и что вечные похвалы их отечеству, как, например, в «Храме славы российских героев» новгородского губернского прокурора Павла Юрьевича Львова87, никого не воспламеняя, на всех наводили сон и зевоту.
[481]
Владея бесспорно Парнасом, не дозволяя никому иметь литературного мнения, противного их мнениям, и полагая, что мнимые их противники осуждены никогда не покидать Москвы, петербургские главные писатели не могли предвидеть, что против их неограниченной власти может скоро составиться союз и заговор. И действительно, в целом Петербурге всего на все был один только не с большим двадцати лет молодой человек, Блудов, полный ума и вкуса, который позволял себе явно осмеивать их недостатки и претензии и писать на них эпиграммы. Для обуздания его хотели они, хотя тщетно, употребить даже высшую власть. Прибывший в 1805 году Александр Тургенев пристал к нему, но был более его осторожен. Я слушал их с удивлением: мне казалось странно и непонятно живое участие, принимаемое ими в сем деле. Мне было не до Шишкова: я бредил тогда Лагарпом, Парни, Фонтаном88 и Шатобрианом.
Вдруг пришла ужасная весть. В Твери, у Екатерины Павловны, Карамзин читал императору Александру несколько глав своей истории, этой истории, где, по словам их, должны были встречаться все одни милые Святополки и нежные Мстиславы. Не прошло месяца, как Дмитриев назначен министром юстиции и скоро прибыл в Петербург; и он прибыл не один, а привел с собою немногочисленную, но избранную дружину. Его сопровождали три юноши, Милонов89, Грамматин90 и Дашков91; первые два были только что поэтами, последний тем, чем бы только захотел он быть. Огромный талант Милонова можно сравнить с прекрасною зарей никогда не поднявшегося дня; много было его и в Грамматине, но он также далеко не пошел. Первый талант свой потопил в вине или, лучше сказать, в водке; последний зарыл его в деревне, куда навсегда переселился хозяйничать. О Дашкове, о незабвенном Дашкове, о котором воспоминание останется всегда прекраснейшим в моей жизни, здесь говорить не буду: в эту минуту я не чувствую себя способным достойным образом изобразить его.
Глава славянофилов или варягороссов, как их тогда называть начали, со товарищи видели в министерстве Дмитриева опасность для своего всемогущества, тогда как обязанности государственного сановника вовсе не оставляли времени Дмитриеву заниматься литературой. Правда, он часто принимал у себя Блудова и Тургенева,
[482]
за тихою трапезой с ними и с живущим у него Дашковым часто любил беседовать о любимом предмете, между ними почитал себя как бы главою семейства, был отечески ласков и оказывал нежную снисходительность и покровительство Грамматину и Милонову. Конечно, все это можно было почитать зародышем оппозиции; но ее еще не было, а противники замышляли уже задушить ее при самом рождении.
Этого мало: им хотелось, в случае первой неудачи, поставить твердый оплот против распространения ее дальнейших успехов. Российская Академия была тогда ветхое укрепление, почти на две трети защищаемое ветеранами литературы. И хотя Шишков был уже ее душою и убылые в ней места пополнял одними своими клевретами, но все еще упрямился жить и президентствовать в ней полумертвый действительный тайный советник Андрей Андреевич Нартов92, не совсем ему покорный. Надобно было из-за нее воздвигнуть твердыню, которая, содержа ее в повиновении, служила бы ей в одно время и защитою. Следствием глубоко обдуманных мер, плодом искусно начертанного стратегического плана было, в октябре месяце 1810 года, рождение «Беседы любителей российского слова»93.
Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ее учреждению и началам. Мудрено объяснить состояние умов тогда в России и ее столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим; но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением; вера в природного, законного защитника нашего была потеряна, и люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились вокруг знамени, некогда водруженного на Голгофе, и вокруг другого невидимого еще знамени, на котором уже читали они слово: отечество. Пристрастие к Европе приметно начало слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное; но в ней была порабощенная Италия, страждущая и борющаяся Испания, Германия, которая тайно молила о помощи, и Англия, которая не переставала предлагать ее. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, на-
[483]
чинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что «Беседа» составилась единственно с целью возвратить и сохранить ему его чистоту и непорочность; и они все взялись быть главными ее поборницами.
Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний «Беседы» отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние, торжественные собрания «Беседы». Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, статс-дамы – в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах.
Часть театральная, декорационная, была совершенство; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением. Горе было только тем, которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту. Модный свет полагал, что торжество отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества.
Наподобие государственного совета, составленного из четырех департаментов, и «Беседу» разделили на четыре разряда и, так же как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дали по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по нескольку членов и по нескольку членов-сотрудников, которые составляли как бы канцелярию «Беседы». Вообще она имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах. Попечителями были председатели в совете, граф Завадовский94 и Мордвинов и министр просвещения граф Разумовский95; как будто насмех, четвертого посадили
[484]
министра юстиции Дмитриева. Почти все вышепоименованные писатели попали в члены, коих список украшался именем Крылова, как вечерние собрания их оживлялись немного чтением его басен. В числе сотрудников находились и наш Жихарев, который тогда еще был не наш, и Греч98, о котором я тогда не имел еще никакого понятия. Крылов хотя и выдал особу свою «Беседе», но, говорят, тайком подсмеивался над нею. Доказательством тому поставляют вскоре после ее открытия выданную им басню «Квартет», где проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка спорят о местах, и автор говорит им: «Друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь».
Что бы ни говорили, а «Беседа», может быть, не весьма с похвальными намерениями основанная, по мнению моему, была во многом полезна. Во-первых, самого Карамзина грубости Шишкова сделали несколько осмотрительным; он указывал ему на средства дать более важности и достоинства историческому слогу (более он сделать не мог), а тот с своим чудесным умом и талантом не оставил ими воспользоваться.
Несколько молодых писателей были поудержаны от жеманства, в которое, по неопытности, могли бы впасть, глядя на московских вздыхателей. Наконец, покровительство и уважение, оказываемые в столице отечественной словесности правительством и высшими сословиями, имели благотворное действие на провинции и некоторым образом способствовали сближению разных состояний и согласию между ними, столь необходимых в эту памятную эпоху.
Как ни велико было авторское полчище, набранное «Беседою», все еще оставалось много людей, упражняющихся в литературе, которых она воспринять не захотела или которые сами в ней быть не пожелали. В это время число их до того увеличилось, что можно было, по примеру Ривароля97 до революции, составить в одном Петербурге маленький словарь маловеликих людей. Служащий в министерстве просвещения Дмитрий Иванович Языков98, человек ученый, переводчик Шлецерова «Нестора»99, нашел, что из сих остатков можно создать еще новое особое общество, предложил им о том, получил их согласие, для заседаний выпросил одну из зал опустевшего Михайловского замка и сделался первым президентом общества любителей наук, словесности и художеств.
[485]
Никто из членов его не смел и подумать вступить в соперничество и борьбу с «Беседой»; хотя Дашков, Милонов и Грамматин были приняты в число их, однако же умели сохранить некоторую от нее независимость. Между ними были примечательны два человека: петербургский Измайлов100, которого звали Александр Ефимович, да еще Александр Христофорович Востоков101, который из любви к России бросил немецкое прозвание Остенек.
Первый был всем известный баснописец вроде Крылова. Между ними была та разница, что Крылов умел облагораживать простонародный язык, а этот сохранял ему всю первобытную его нечистоту. Одним словом, и все в том соглашались, это был Крылов навеселе, зашедший в казарму, в харчевню или в питейный дом.
Востоков, кажется, был нечто вроде Мерзлякова, более профессор поэзии, чем поэт, искусный учитель пения, у которого не было голоса. Он заикался, и это напоминает мне стихи его, о самом себе написанные:
Многие уверяли, что и на этом он заикается.
Еще было одно общество, но не столько литературное или ученое, сколько приятельское. Оно состояло тогда из пяти или шести человек и собиралось только отобедать, потолковать или провести вечер у мецената своего, Алексея Николаевича Оленина, о котором также не здесь, а далее должен буду много говорить. Принадлежа ко всем и ни к которой из партий или общества, члены оленинские, даже в доме его, хлебосольном, для всех открытом, и принимая участие в общей веселости, составляли какой-то особый мир, имеющий особые мнения, особые правила. Отличнейшими или отличенными между ними были Крылов и Гнедич. Других не назову, кроме одного, Александра Ивановича Ермолаева, скромного, молчаливого и ученого человека по части русских древностей. Он был из числа тех людей, кои, оторвавшись от житейского, всем духом своим погружаются в любимую науку.
Труды свои одна только «Беседа» издавала периодически, книжками, после каждого собрания и публичного чтения. Журналов в продолжение этого времени было много в Петербурге, все менее, чем в Москве; но, как
[486]
уже я сказал, я мало ими занимался и немногие помню. «Северную почту» называть бы не следовало, ибо это была официальная газета, называемая политическою.
Еще был «С.-Петербургский вестник», да еще «Улей», журнал непозволительно безобразный и глупый как по содержанию своему, так и по наружной форме: оберткой служила ему темно-серая, толстая бумага с волосьями, а издателем Анастасевич, под руководством графа Хвостова. <…>
Осень стояла сначала столь же ясная102, тихая и жаркая, как лето; многие приписывали это действию кометы, которая все продолжала еще бедой сверкать нам в очи. Эта осень замечательна была двумя событиями в столице: окончанием и освящением Казанского собора и основанием Царскосельского лицея.
Вообще цари, и особенно самодержавные, любят оставлять потомству огромные памятники своего царствования и замечательно, что чем более народ был угнетен, унижен, тем выше они воздымались: доказательством тому служат в преданиях существующий Вавилон, пирамиды, Колизей и все египетское и римское гигантское зодчество (греческие произведения в сем роде более отличаются грацией и совершенством форм). Когда император Павел окончил свой, по мнению его, чудо-дворец, что ныне Михайловский или Инженерный замок, и на короткое время поселился в сем сооруженном себе храме, то задумал воздвигнуть другой храм и божеству, и незадолго перед смертью своею заложил новый Казанский собор. Старый, даже при Елизавете, стоял почти на краю распространившегося еще города, над мутным ручьем, называемым Черною речкой, что ныне вычищенный, но все-таки грязный Екатерининский канал. Подобно некоторым, находящимся доныне в Петербурге церквам, был он не что иное, как продолговатый, просторный каменный сарай с довольно высоким деревянным куполом, позади его находилось обширное место, избранное для помещения его великого преемника.
Великим строителем нового храма назначен был граф Александр Сергеевич Строганов103. Он всегда был покровитель художников и любитель художеств, не знаю до какой степени в них сведущий; с иностранным воспитанием и вкусами сочетая русские навыки и хлебосоль-
[487]
ство, жил он барски, по воскресеньям угощал у себя не одним рождением, но и талантами отличающихся людей. Он был старик просвещенный, умный и благородный, однако же вместе с тем довольно искусный царедворец, чтобы ладить со всеми любимцами царей и пользоваться благосклонностью четырех венценосцев. Ему удалось устранить от строения собора строившего Михайловский замок самозванца-архитектора Бренну104, весьма любимого Павлом, бывшего в Италии едва ли посредственным маляром, и предложить доморощенного своего зодчего Воронихина105. У Павла совсем не было вкуса, у Александра – очень много: но в первые годы своего царствования чрезвычайно любил он колонны, везде они были ему надобны, и оттого-то сохранил он утвержденный отцом его план, ибо на нем находились они в большом изобилии.
Все огороженное место вокруг новостроящегося храма, равно как и вход во внутренность его, когда строение его начало приходить к окончанию, оставались открыты для любопытных; не так, как ныне, когда никому, исключая самых избранных, не дозволяется взглянуть на работы, производящиеся десятки лет, когда как будто опасаются, чтобы порядочно одетые люди днем не утащили лежащие кирпич и известку, когда фиглярство строителей хочет какою-то таинственностью закрыть от народа совершаемые им чудеса. Мне иногда случалось входить в достраивающееся здание, и нельзя было не подивиться богатству, расточаемому для внутреннего его убранства. Мраморный узорчатый помост, необъятной величины полированные монолиты, составляющие длинную колоннаду, серебряные решетки, двери и паникадилы, покрытые золотом и облитые бриллиантами иконы,– все должно было изумлять входящих во храм. Некоторые, однако же, позволяли себе сравнивать архитектора с неискусным поваром, который, начиняя все кушанья свои перцем, имбирем, корицей, всякими пряностями, думает стряпне своей придать необычайно приятный вкус.
Ровно через десять лет после венчания на царство императора Александра, 15 сентября, происходило освящение нового храма. Все носящие мундир, без изъятия, были допущены во внутренность его; у меня мундира не было, и я на улице скромно стоял между фраками и крестьянскими кафтанами, в народной толпе.
[488]
Не столь блестящим образом в октябре было открытие Царскосельского лицея. Кто подал мысль или кто первый имел ее об его основании, не знаю, но если не ошибаюсь, то, кажется, сам государь. В первоначальные счастливые годы его царствования любил он свою простонародность (слово, которым я думаю заменить употребляемое ныне «популярность»). Наскучив пышностью и величием, среди коих возрос, всегда любил он также простоту, как в одеянии, так и в образе жизни. Изо всех дворцов своих самый укромнейший, совсем забытый Каменноостровский дворец выбрал он летним своим местопребыванием. Так было до Тильзитского мира, после которого стал он предпочитать Царское Село.
Странная была участь этого казенного городка и дворца его! Он никогда при начале, а всегда под конец царствования государей делался любимым их убежищем. Место, подаренное Петром Великим Екатерине I, в стороне от большой московской дороги, тайком от него засадила она липовыми деревьями и построила на нем трехэтажное высокое, но не обширное здание. В августе 1724 года в первый раз угощала она тут своего дарителя; все ему чрезвычайно понравилось, и он возвестил, что не только гостить, но даже часто будет жить у нее; в следующем январе он скончался. Несколько лет Екатерина II предпочитала петергофский вид на взморье другим увеселительным местам своей столицы, пока не прилепилась к Царскому Селу; тогда наложила она на него свою могущественную руку и тут, как и во всем, что предпринимала, творила чудеса, так что сын ее, малолетний, когда она вступала на престол, все почитал тут ее созданием. Конечно, не из сыновней нежности совершенно бросил он Царское Село и на поддержание его никаких сумм не велел отпускать; все начало глохнуть, порастать крапивой, покрываться тиной, все портиться, валиться, и сие грозящее разрушение певец Екатерины, Державин, грустно изобразил в стихах своих под названием «Развалины». Окружающим Павла I жалко стало русского Версаля, и они, убедив его, что оно творение не одной матери его, но бабки и прабабки, склонили в июле 1800 года в него переехать. Он прожил тут до сентября, с быстротою, с которой от одного чувства переходил к другому, нашел место сие очаровательным, гораздо лучше его Павловска, и объявил намерение свое каждое лето проводить в нем по два месяца. Он не мог его исполнить: в марте его не стало.
[489]
При торжественном открытии лицея находился Тургенев106; от него узнал я некоторые о том подробности. Вычитывая воспитанников, сыновей известных отцов, между прочим, назвал он одного двенадцатилетнего мальчика, племянника Василия Львовича, маленького Пушкина, который, по словам его, всех удивлял остроумием и живостью. Странное дело! Дотоле слушал я его довольно рассеянно, а когда произнес он это имя, то вмиг пробудилось все мое внимание. Мне как будто послышался первый далекий гул той славы, которая вскоре потом должна была греметь по всей России; как будто вперед что-то сказало мне, что беседа его доставит мне в жизни столько радостных, усладительных, а чтение его столько восторженных часов. <…>
От Прасковьи Юрьевны Кологривовой107 имел я письмо к старшей дочери ее и зятю, Вяземским. От Петербурга до Пензы был я наслышан об очаровательности княгини Веры108; о муже ее много я говорил в предыдущей части, а еще более слышал: общие приятели наши заочно всегда восхищались его остроумием. Не знаю, отчего не вдруг решился я к ним ехать, хотя ум в других я более любил, чем боялся его. Они жили в таком квартале, в котором ныне едва ли сыщется порядочный человек. Сему месту, между Грузинами и Тверскими воротами, кем-то дано было приятное название Тишина; ныне называется оно прежним подлым именем Живодерки. Тут находился длинный, деревянный, одноэтажный несгоревший дом, принадлежавший г. Кологривову109, отчиму княгини, со множеством служб, с обширным садом, огородами и прочим, одним словом – господская усадьба среди столичного города.
Меня сначала смутила холодность, с какою, казалось мне, был я принят. Вяземский, с своими прекрасными свойствами, талантами и недостатками, есть лицо ни на какое другое не похожее, и потому необходимо изобразить его здесь особенно. Он был женат, был уже отцом, имел вид серьезный, даже угрюмый, и только что начал брить бороду. Не трудно было угадать, что много мыслей роится в голове его, но с первого взгляда никто не мог надумать, что с малолетства сильные чувства тревожили его сердце: эта тайна открыта была одним женщинам, С ними только был он жив и любезен, как француз прежнего времени, с мужчинами – холоден, как англичанин; в кругу молодых друзей был он русский гуляка. Я не принадлежал к числу их и не имел прав
[490]
на его приветливую искренность. Но с неподвижными чертами и взглядом, с голосом немного охриплым, сделал он мне несколько предложений, которые все клонились к тому, чтобы в краткое пребывание мое в опустевшей Москве доставить мне как можно более развлечений. Он поспешил записать меня в Английский клуб (куда, однако же, я не поехал), пригласил меня на другой день к себе обедать и назначил мне в тот же вечер свидание на Тверском бульваре, лишенном почти половины своих дерев, куда два раза в неделю остатки московской публики собирались слушать музыку, имея в виду целый ряд обгоревших домов.
Супруга его, Вера Федоровна, была также существо весьма необыкновенное. Я знал трех меньших сестер ее, милых, скромно-веселых; она не совсем походила на них. При неистощимой веселости ее нрава никто не стал бы подозревать в ней глубокой чувствительности, а я менее, чем кто другой. Как другие любят выказывать ее, так она ее прятала перед светом, и только время могло открыть ее перед ним. Не было истинной скорби, которая бы не произвела не только ее сочувствия, но и желания облегчить ее. Ко всему человечеству вообще была она сострадательна, а немилосердна только к нашему полу. Какая женщина не хочет нравиться, и я готов прибавить, какой мужчина? В ней это желание было сильнее, чем в других. Пленники красоты суть ее подданные. В молодости женский пол любит царствовать таким образом и долго не соглашается отказаться от престола, воздвигнутого страстями. Иные дорого платят за успехи кратковременного своего владычества. Такого рода честолюбия вовсе не было в княгине Вяземской: все влюбленные казались ей смешны; страсти, ею производимые, в глазах ее были не что иное, как сочиненные ею комедии, которые перед ней разыгрывались и ее забавляли. Не служит ли это доказательством, что при доброте ее сердца, то, что мы называем любовию, никогда не касалось его? Если бы она могла понять ее мучения, то содрогнулась бы. Самым прекраснейшим из женщин одной красоты недостаточно, чтобы увлекать в свои сети; необходимы некоторое притворство, тонкость, уловки, одним словом, вся стратегия кокетства. От них она тем отличалась, что никогда не прибегала к подобным средствам, употребляя, если можно сказать, простые, естественные чары. Никого не поощряя, она частыми насмешками более производила досаду в тех, коих умела привлекать к себе. Как меж-
[491]
ду ископаемыми, в царстве животных нет ли также существ, одаренных магнитною силой? Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась; немного старее мужа и сестер, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелым обхождением она никак не походила на нынешних львиц; оно в ней казалось не наглостию, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал, ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор ее. Такие женщины иногда родятся, чтобы населять сумасшедшие дома. В это время я сам годился бы туда; но, может быть, это и спасло меня. Я не мог прельститься умом, тогда как я пленялся простодушием, т. е. глупостию. Увы, и без меня сколько было безумцев, закланных подобно баранам на жертвеннике супружеской верности тою, которая и мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно!
У Вяземских увидел я в первый раз Катерину Андреевну Карамзину110 и был ей представлен. Она обошлась со мною так же, как и со всеми незнакомыми и даже со многими давно знакомыми, не весьма приветливо; что не помешало мне отдать справедливость ее наружности. Что мне сказать о ней? Если бы в голове язычника Фидиаса111 могла блеснуть христианская мысль, и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости. Одно имя, ею носимое, уже освещало ее в глазах моих: я любовался ею робко и подобострастно и хотя уже был зрелый и едва ли не перезрелый юноша, но, как паж Херубини о графине Альмавива112, готов был сказать о ней: «Qu'elle est belle, mais qu'elle est imposante!» * А душевный жар, скрытый под этою мраморной оболочкой, мог узнать я только позже. После обеда приехал сам Карамзин и разговаривал со мною; ему нельзя было узнать человека, которого, вероятно, едва заметил он мальчиком, а я не смел ему напомнить о себе в Марфине.
Тут за обедом находился один персонаж, с которым меня познакомили и который мне вовсе не полюбился. Это был многоглаголивый генерал и камергер Алексей
*Как она красива и как величественна! (фр.)
[492]
Михайлович Пушкин113, остряк, вольтериянец, циник и безбожник. Он был гораздо просвещеннее современника своего Копьева114; его ум был забавен, но не довольно высок, чтобы снять с него печать, наложенную обществами восемнадцатого века. Странно и довольно гадко было мне слушать обветшалые суждения и правила философизма, отчасти породившего революцию, в ту самую минуту, когда казалось, что она сокрушена была навсегда. Этот Пушкин был родственник кроткого, безобидного Василия Львовича и вечный его гонитель, мучитель.
Также прискорбно показалось мне, что в два или три посещения, сделанных мною Вяземским, не слыхал я ни одного русского слова. В городе, который нашествие французов недавно обратило в пепел, все говорили языком их. Один только Карамзин говорил языком, можно сказать, им созданным. Стыдно, право, Вяземскому, который так славно писал на нем, так чудесно выражался на нем в разговорах, что не попытался ввести его в употребление в московском обществе, где имел он такой вес. Но он с малолетства, так же как и я с первой молодости, прельстился французскою литературой, а от пристрастия к творениям до любви к сочинениям недалеко. И мне ли упрекать его, когда с любезными ему французами он храбро сражался и в славной Бородинской битве готов был проливать кровь за отечество, тогда как я в Пензе об участи его проливал одни только слезы? <…>
Я возобновил в это время много старых знакомств и сделал несколько новых. После долгой разлуки первое свидание мое с Дмитрием Николаевичем Блудовым было одною из радостных минут моей жизни. В продолжение двух лет с половиною сколько перемен! Нужно ли говорить, что взаимные чувства наши не изменились? Любопытно мне было человека, которого оставил я беспечным юношей, найти мужем, отцом и хозяином дома. Желания его совершились: весной 1812 года вступил он в брак с княжною Щербатовой. Военные происшествия омрачили первые месяцы его супружества, и вскоре потом, когда собирался он к новому месту назначения, советника посольства в Стокгольме, должен был похоронить он тещу. Он оставил эту должность и приехал в Петербург незадолго до возвращения моего в сию столицу.
Находясь в Стокгольме, он имел случай близко узнать славного воина Бернадотта115, мудрого и дальновидного человека, который, несмотря на все быстрые пе-
[493]
ремены обстоятельств, умел твердо удержаться на ступенях шведского престола и на нем самом. Потом был он в коротких сношениях с ученым и достопочтенным библиофилом, графом Сухтеленом116 <…>
Тут познакомился он и сблизился с знаменитою Сталь, которая, бегая от Наполеона из государства в государство, целую зиму провела в Швеции. Чужой ум пристает только к тем, кои сами им изобилуют; им только одним идет он впрок. Обмен мыслей есть обширная торговля, в которой непременно надобно быть капиталистом, чтобы сделаться миллионером, и в этом смысле я нашел, что Блудов еще более разбогател. Он часто удивлял меня своим умом, а после возвращения его из Швеции и моего – из Пензы начинал он ужасать меня им.
Как приятно мне было видеть его счастливым в домашней жизни! Более по слуху уже изобразил я Анну Андреевну; лично узнав ее, не могу здесь умолчать о ее почтенных и любезных свойствах. Природа одарила ее чувствами самыми нежными и кроткими: я не знавал женщины более способной любить ближних, любить не пылко, но искренно и постоянно. Около нее была атмосфера добра и благосклонности; разумеется, что те, кои были ближе к ней, муж, дети и родственники, более других испытывали усладительное действие оной; но и друзья и знакомые их, вступая в этот благорастворенный круг, подчинялись его приятному влиянию.
Если сначала я несколько завидовал Блудову как супругу, то отнюдь не как отцу. На руках терпеливой шведской дамы (кормилицы) было маленькое создание, в котором уже можно было угадывать ум, затейливость по прихотям, кои возрастали по мере беспрестанного удовлетворения их. Отец в полном смысле боготворил дочь свою, а мне девочка казалась несносною. Мог ли я думать тогда, что придет время, в которое высокие чувства души, любезность ее, доброта и успехи в свете будут радовать меня как родного и, повторяя слова Пушкина, я буду гордиться ею, как старая няня своею барышней? <…>
Перед отъездом моим из Пензы часто начал посещать меня плут Магиер, который перессорился с пленными наполеоновскими французами. Он старался уверить меня, что втайне никогда не переставал быть предан законным государям своим, Бурбонам, и прочитал письмо или просьбу к герцогу Ангулемскому, в котором, объяс-
[494]
няя, что отец его (не упоминая в какой должности) служил графу д'Артуа, отцу герцога, он, наследник верности, желает посвятить жизнь свою его высочеству. Когда совсем собрался я в путь, вручил он мне другое письмо к Екатерине Федоровне Муравьевой, желая, чтобы я отдал его лично, присоединив мои просьбы к его молениям о помощи, дабы мог он освободиться от ссылки и возвратиться в отечество. Я рад бы был избавить Россию от всех иностранных негодяев и дал ему слово исполнить его требование.
Даму, к которой адресовал он меня, я лично не знал. Она слыла добродушною и добродетельною, т. е. строгой нравственности в отношении к супружескому долгу. Последнее было справедливо и, я думаю, не весьма трудно, ибо она была дурна, как смертельный грех, и с богатым приданым лет тридцати едва могла найти жениха. Я немного совестился быть ходатаем за мошенника и старался разжалобить ее; к изумлению моему, она горячо принялась за это дело, и участие мое в нем послужило мне лучшею у нее рекомендацией. Она оказала мне много благосклонности и просила почитать себя у нее как дома.
Муж ее, Михаил Никитич, был примером всех добродетелей и после Карамзина, в прозе, лучшим у нас писателем своего времени. Он вместе с Лагарпом находился при воспитании императора Александра, платил дань своему веку и мечтал о народной свободе, пока она была еще прекрасною мечтою, а не ужасной истиной; кроткую душу его возмущало слово «тиранство». Свои правила передал он жене, и они сделались наследием его семейства. Но втайне она была исполнена гордости и тщеславия, а только по наружности заимствовала у мужа вид смирения. По мнению ее, он не был достойным образом награжден по воцарении воспитанника своего за попечения его о нем.
Он не один пользовался его доверенностью и был только товарищем министра народного просвещения; при первом случае верно был бы он и министром, но смерть рано его похитила, и государь забыл о вдове его, которую, впрочем, и не знавал. Неудовольствие на правительство часто обращается в постоянную оппозицию и принимает вид свободомыслия.
Сия малорослая женщина, худая, как сухарь, вечно судорожно-тревожная, от природы умная и образованная мужем, в гостиных умела быть тиха, воздерживать-
[495]
ся от гнева и всех дарить улыбками. Горе только тем, кои находились в прямой от нее зависимости: она была их мучительницей, их губительницей. Но подобно самкам всех лютых животных, чувство материнской нежности превосходило в ней все, что вообразить можно.
У нее было два сына, которые оба походили на отца душой и сердцем, а старший даже и умом. Меньшой, малолетний, находился при ней; старшего, Никиту117, офицера генерального штаба, ожидала она с нетерпением из армии. Все радости, все надежды ее сосредоточивались на нем, и он был действительно того достоин. К несчастию, поручила она образование его сорванцу, якобинцу Магиеру. Идеями, согласными с ее образом мыслей, вкрался он в ее доверенность и заразил ими воображение отрока, но не мог испортить его сердца. Не могла того сделать и мать, вливая в него желчь свою и раздражая его против верховной власти.
Я сказал, что она была богата; тогда пользовалась она только частью следуемого ей имущества. У нее жив был еще отец, восьмидесятилетний скупой старец, сенатор Федор Михайлович Колокольцев, барон поневоле*. Долго, очень долго голос опытного, умного и злого старика увлекал в сенате невнимательных или несведущих сочленов. Он уже слабел и вскоре потом умолк. Тогда дом разбогатевшей его дочери сделался одним из роскошнейших и приятнейших в столице. Встречая в нем почти всех моих знакомых, сделался я частым его посетителем. Что я после в нем увидел, увидят и читатели, если «Записки» сии не прекратятся.
В домах Блудова и Муравьевой познакомился я с двумя молодыми людьми, коих приязнию и благорасположением имею право гордиться. Я только что назвал Дмитрия Васильевича Дашкова, когда он приехал с Дмитриевым служить в Петербурге; несколько раз видел я его, кажется, даже и разговаривал с ним, но вообще он не спешил знакомиться. Он был в лучших годах жизни, высок ростом, имел черты правильные и красивые, вид мужественный и скромный вместе. В обществе казался он даже несколько угрюм, смотрел задумчиво и рассеянно и редко кому улыбался; зато улыбка его была
* Надеясь на кредит зятя, в коронацию Александра Колокольцев изъявил желание получить графское достоинство. Государь, улыбаясь, пожаловал его бароном, и раздосадованный Колокольцев даже в официальных бумагах никогда не хотел употреблять сего титула. (Прим. автора.)
[496]
приятна, как от скупого дорогой подарок; только в приятельском кругу скупой делался расточителен. Незнакомые почитали Дашкова холодным и мрачным: он весь был любовь и чувство; был чрезвычайно вспыльчив и нетерпелив, но необычайная сила рассудка, коим одарила его природа, останавливала его в пределах умеренности. Эта вечная борьба с самим собою, в которой почти всегда оставался он победителем, проявлялась и в речах его, затрудняла его выговор: он заикался. Когда же касался важного предмета, то говорил плавно, чисто, безостановочно; та же чистота была в душе его, в слоге и даже в почерке пера.
Он принадлежал к древнему дворянскому роду, но не был богат. Когда был он еще мальчиком, Дмитриев заметил его литературные способности и поощрял их. Он служил в иностранной коллегии, когда Дмитриева сделали министром юстиции; привлеченный им, он перетлел на другую стезю. На трех дорогах, по которым в самой первой молодости повела его судьба, умел он отличиться. Упражняясь пристально в делах судебных, в минуты отдохновения продолжал он предаваться любимым юношеским занятиям своим. Маленькая брошюра под названием: «О легчайшем способе отвечать на критики»118 была праща, с которою сей новый Давид119 вступил в борьбу с тогдашним Голиафом, Шишковым. Я счел не излишним означить здесь первые начала прекрасной полезной жизни, которой конец осужден я был оплакать. Я знавал людей, которые имели несчастие ненавидеть Дашкова; презирать его никто не смел и не умел.
Двоюродный племянник покойного Муравьева, Константин Николаевич Батюшков, в доме его вдовы был принят как сын родной. Под руководством благодетельного дяди120 с малолетства посвятил он себя поэзии. Но лишь только прошел первый слух о дальней опасности, грозящей отечеству, бросил он лиру и схватил меч. Он вступил в петербургскую милицию и с нею, будучи почти мальчиком, сражался в 1807 году и был ранен. Из военной службы его не выпустили и перевели офицером в гвардейский егерский полк; тут опять пошел он в поход против шведов121, опять дрался и опять был ранен. Сложения был он не крепкого, здоровье и нервы его после того расстроились; он должен был оставить службу. Когда силы возвратились к нему, в 1813 году поспешил он к знаменам отчизны и под ними вступил в Париж. Потом
[497]
опять принялся он петь стихи свои; я говорю петь, ибо они – музыка. В них и в его гармонической прозе видна вся душа его, чистая, благородная, то детски веселая, то нежно унылая. В такие лета, когда рассудок еще не образовался, врожденный вкус уже указал ему на недостатки многих бездарных наших писателей, и когда другие безотчетно поклонялись им, он в забавных стихах «Видение на берегах Леты»122 позволил себе их осмеять. Ими почти никого не раздражал он; не то если бы нам грешным! И вот привилегия добродушия: его насмешки получают всегда просто названия шуток.
Он давно уже был завербован в оленинское общество, о коем говорил я в предыдущей части. Во время долгого отсутствия моего из Петербурга согласие в образе мыслей сблизило его сперва с Тургеневым123, потом с Дашковым и Блудовым. Составилась приятная, беспритворная холостая компания, и вечерние беседы наши оживлял Батюшков веселым, незлобивым остроумием своим. Мы недавно были знакомы, а его уже беспокоило затруднительное положение мое, и он помышлял о средствах меня из него вывести.
После смерти графа Строганова Оленин был назначен президентом Академии художеств и директором императорской публичной библиотеки. Она помещена была в прекрасном закругленном здании, построенном при Екатерине на углу Невского проспекта и Садовой улицы, и на две трети составлена была из завоеванной в Варшаве библиотеки графа Залуцкого. С приобретенными прежде и вновь приобретаемыми творениями число книг было довольно значительно, но все они, неразобранные, лежали грудами. Заботливый Оленин составил новое положение и новый штат для заведения сего, и они были утверждены в начале 1812 года; после того книги кое-как приведены в некоторый порядок. Тут нужны были ученые, а новые места, разделенные на библиотекарей и их помощников, Оленин раздал поэтам и приближенным своим. В числе первых прежде его находился один человек, который бы мог быть весьма полезен, брат генерала графа Сухтелена, Руф Корнилович, с которым путешествовал я по Сибири. Но он устарел, без брата жить не мог и, получив отпуск, отправился к нему в Стокгольм; оттуда прислал он просьбу об отставке. Его-то место втайне прочил мне Батюшков и для того желал познакомить меня с домом Олениных. Сим местом могли быть
[498]
удовлетворены скромные желания мои: хорошая квартира с дровами, полторы тысячи рублей ассигнациями жалованья и занятия по вкусу, вот что, по тогдашнему мнению моему, казалось достаточным на целую жизнь.
Хотя по известности Батюшкова его чрезвычайно и приголубливали у Олениных, но он на одного себя не понадеялся, зная, что есть существо, которое мало-помалу овладело всем этим домом. Раз, прогуливаясь со мною вместе, как будто не нарочно завел он меня к другу своему, Гнедичу. Кривому Пиладу было мало одного Ореста124, Крылова; тот никогда не отпирался от его дружбы, но никогда и не сознавался в ней; легче было приобрести ее у пылкого Батюшкова. Тесная связь между ними сплетена была как из хитрости украинца, так и из добросердечия и доверчивости русского. Предупредив Гнедича о своих и моих намерениях, он как будто нечаянно вспомнил о том, дабы у первого посещения отнять вид презентации125 и просительности. Приемом остался я доволен; в нем было даже нечто приязненное. Через несколько дней Гнедич сам зашел навестить меня и объявить, что дело можно почитать, как говорится, в шляпе; что оно могло бы тотчас быть окончено, но что Сухтелен при отставке требует полный пенсион и чин статского советника, чего нельзя сделать без государя, а он, кроме самоважнейших бумаг, не велел ничего присылать к себе в Вену, но, вероятно, скоро возвратится. Он сказал мне, что Оленин сам очень желает познакомиться со мной, но что чрезвычайно озабочен по новой должности, на него возложенной, и свободные минуты посвящает семейству своему, живущему до зимы на даче его, Приютине, в двадцати верстах от Петербурга. И действительно, контраст между Сперанским, столь примечательным по необыкновенному уму своему и познаниям, и преемником его Шишковым, который вне славянской лингвистики ничего не смыслил, был слишком разителен, чтобы сей последний мог долго оставаться на его месте государственным секретарем. Он уволен, и исправление этой должности поручено было Оленину.
Живши посреди друзей русской литературы, я неприметным образом с нею ознакомился и стал более зани-
[499]
маться ею. Все, что ни затевал я в жизни, приходило мне в голову внезапно, неожиданно; раз поутру сказал я сам себе: дай попробую, и принялся писать, что бы вы думали? Исторический словарь великих мужей в России. Этот труд уж сам по себе мне был не под силу; но был еще другой, гораздо важнее, отрывать источники, копаться в них; сей последний испугал меня, отнял у меня всю бодрость. А покамест написал я несколько статей и имел бесстыдство показать их Блудову. Его неистощимая снисходительность ко мне ослепила ли его, или он нашел, что для неопытного действительно недурно и надеялся, что со временем могу набить я руку, только похвалил меня. Похвала из уст такого строгого судьи в литературе чрезвычайно возбудительна и… и, как говорится, пошла писать! Судя по связям моим, хотя написал я немного строк и ни одной не напечатал, безграмотные начали подозревать меня в авторстве, и сие дало мне новое право на звание библиотекаря.
Наконец, в ноябре Алексей Николаевич и Елизавета Марковна Оленины возвратились из Приютина и открыли дом свой.
Я вступил в него твердою ногой, упираясь на трех поэтов, на прежнего наставника моего Крылова, на Гнедича и на Батюшкова. Подобного дома трудно было бы сыскать тогда в Петербурге, ныне невозможно, и я думаю услужить потомству, изобразив его. Начнем с хозяина. Принадлежа по матери к русской знати, будучи родным племянником князя Григория Семеновича Волконского126, Оленин получил аристократическое воспитание, выучен был иностранным языкам, посылаем был за границу. Древность дворянского рода его и состояние весьма достаточное не дозволили бы, однако же, ему, подобно знатным, ожидать в праздности наград и отличий, подобно им быть знакому с одною роскошью и любезностью гостиных. Вероятно, он это почувствовал, а может быть, по врожденной склонности стал прилежать к наукам, приучать себя к трудам; он прослужил целый век и приобрел много познаний, правда, весьма поверхностных, но которые в его время и в его кругу заставили видеть в нем ученого и делового человека. Его чрезмерно сокращенная особа была отменно мила; в маленьком живчике
[500]
можно было найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце. Он не имел пороков, а несколько слабостей, светом извиняемых и даже разделяемых. Например, никогда не изменяя чести, был он, как все служащие в Петербурге быть должны, искателен в сильных при дворе и чрезвычайно уступчив в сношениях с ними. Также, по пословице, всегда гонялся он за всеми зайцами вдруг; но, не по пословице, настигал их: у которого оторвет лоскут уха, у которого клочок шерсти, и сими трофеями любил он украшать не только кабинет свой, а отчасти и гостиную. Он имел притязания на звание литератора, артиста, археолога; даже те люди, кои видели неосновательность сих претензий, любя его, всегда готовы были признавать их правами. Сам Александр, шутя, прозвал его Tausendkünstler, тысячеискусником.
Его подруга, исключая роста, была во многом с ним схожа. Эта умная женщина исполнена была доброжелательства ко всем; но в изъявлении его некоторая преувеличенность заставляла иных весьма несправедливо сомневаться в его искренности. Она была дочь известного при Елизавете и потом долго при Екатерине Марка Федоровича Полторацкого127, основателя придворной капеллы певчих и чрезвычайно многочисленного потомства. Характер имеет также свою особую физиономию, как и лицо, и единообразие ее выпечатано было на всех детях его обоего пола; все они склонны были, смотря по уму каждого, к приятному или скучному балагурству <…> Склонность, о которой сейчас говорил я, и любовь к общежитию побеждали в Елизавете Марковне самые телесные страдания, коим так часто была она подвержена. Часто, лежа на широком диване, окруженная посетителями, видимо мучась, умела она улыбаться гостям. Я находил, что тут и мужская твердость воли и ангельское терпение, которое дается одним только женщинам. Ей хотелось, чтобы все у нее были веселы и довольны, и желание беспрестанно выполнялось. Нигде нельзя было встретить столько свободы удовольствия и пристойности вместе, ни в одном семействе – такого доброго согласия, такой взаимной нежности, ни в каких хозяевах – столь образованной приветливости. Всего примечательнее было искусное сочетание всех приятностей европейской жизни
[501]
с простотой, с обычаями русской старины. Гувернантки и наставники, французы, англичанки и дальние родственницы, проживающие барышни, несколько подчиненных, обратившихся в домочадцев, наполняли дом сей, как Ноев ковчег, составляли в нем разнородное, не менее того весьма согласное общество и давали ему вид трогательной патриархальности. Я уверен, что Крылов более всех умел окрасить его в русский цвет. Заметно было, как приятно было умному и уже несколько пожилому тогда холостяку давать себя откармливать в нем и баловать. Посещаемый знатью и лучшим обществом петербургский дом сей был уважаем; по-моему, он мог назваться образцовым, хотя имел и мало подражателей. В последние годы существования старых супругов, когда Россия так и въелась в европеизм, он сделался анахронизмом. Мир праху вашему, чета неоцененная! Оставайтесь неразлучны в другом мире, как связаны были в этом! Я иногда тоскую по вас. Простите мне, если беспристрастие и правдолюбие мое вынудили меня коснуться некоторых несовершенств, нераздельных с человеческою слабостию. Тени, наведенные мною на светлую картину жизни вашей, я думаю, еще более выказывают все красоты ее.
У Анны Андреевны Блудовой была меньшая единственная сестра, фрейлина, княжна Марья Андреевна Щербатова. Она по зимам жила вместе с нею, а лето и осень проводила в Павловском и в Гатчине у императрицы Марии Федоровны, которой особенною милостью она пользовалась. Дабы понять нижеописанное, надобно знать, что она была нрава веселого, но совсем не живого; столько флегма ни в ком не случалось мне находить. Один вечер (это было 6 марта) провели мы очень весело у старшей сестры ее. Она довольно поздно воротилась из дворца от императрицы; входя, очень равнодушно она сказала нам: «Слышали ли вы, что Наполеон бежал с острова Эльбы?» Мы с изумлением посмотрели друг на друга. «Успокойтесь,– продолжала она,– не знали, куда он девался и были в тревоге; но получили
[502]
хорошее известие: он вышел на берег неподалеку от Фрежюса».– «Ну, правда,– невольно усмехаясь, сказал Блудов,– добрые вести привезли вы нам!» Мы подивились, потолковали и разъехались.
В следующие дни все бросились нарасхват читать газеты и ничего не находили в них ободрительного. Вечная война в лице Наполеона быстрыми шагами шла к Парижу. Возвратившиеся из России многочисленные старые солдаты его поступили опять в полки, и новое правительство имело неосторожность послать их к нему навстречу. С хвастливым красноречием, приспособленным к их понятиям и сильно действующим на французское тщеславие, были написаны объявления его. От башни до башни,– говорил он,– полетят его орлы до Парижского собора. И он сдержал слово. В тот самый день, в который могли бы мы праздновать взятие Парижа, 19 марта, вечером у Оленина я узнал, что он вступил в него и что Бурбоны бежали.
Важное это происшествие потревожило и Россию; однако же в изъявлениях беспокойства ее жителей видно было более досады, чем страха. В одной только Москве, говорят, приостановились было с новыми постройками, но недолго: дело весьма естественное, она более других была настращена, а пуганая ворона, по пословице, и куста боится. <…>
В это гремучее время поэзия у нас не умолкала: ее голос иногда громко раздавался, и воины, равно как и граждане, с восторгом внимали ему. Жуковский, Вяземский, Батюшков, Шаховской и многие другие литераторы и стихотворцы вступили в дружины и ополчились на врагов отечества. Но только первый из них, певец во стане русских воинов, как они назвали его, и как сам он назвал прекрасное стихотворение свое, был счастливо вдохновен ужасным и новым для него зрелищем.
Все журналы гласили только о военных или политических происшествиях. На сцене ничего не показывалось нового, кроме небольших патриотических пьес, приноровленных к настоящим обстоятельствам. Из-под пера славного баснописца нашего, Крылова, выходили басни, также к сему предмету относящиеся. В одной из них воро-
[503]
на попадает к французам в суп128, в другой129 ловчий Кутузов говорит волку Наполеону: «Ты сер, а я, брат, сед, и волчью вашу я натуру знаю».
Когда же, после взятия Парижа, Александр возвратился в Петербург, тогда вся восхищенная им толпа поэтов в честь и хвалу его возвысила свои искренние, не купленные голоса. Послание свое к нему Жуковский начинал сими словами:
Когда летящие отвсюду шумны клики130,
В один сливаясь глас, к тебе зовут, великий…
Когда раздался всеобщий сей бесподобный, трогательный гимн, то в нем различить можно было и умирающие звуки лиры Державина, и нежный, но уже сильный голос еще ребенка Пушкина, который посвятил ему первые плоды чудного своего таланта. Крылов нашел средство в маленькой, премилой басне «Чиж и Ёж» также воспеть ему хвалу. Все напоминало первые дни его царствования; сердца русских, казалось, еще сильнее пылали к нему, но он был уже не тот.
Пока продолжался Венский конгресс, внутри России, так же как и в Петербурге, начали забывать и прошедшее горе и минувшую радость; всякий помаленьку стал приниматься за прежнее дело, и сочинители стали по-прежнему пописывать и слегка перебраниваться.
«Беседа» открыла вновь свои торжественные заседания, но они становились все реже и совсем потеряли великое значение, которое имели до войны. Раз вздумалось нам с Блудовым (помнится, в ноябре 1814 года) из любопытства отведать их препрославленной скуки, и, можно сказать, были ею пресыщены. Ни забавного, веселого и остроумного, ни глубокомысленного или ученого ничего мы не слыхали, а все что-то такое, о чем бы не стоило говорить. Не одною скукою были мы жестоко наказаны за сию не совсем благоприязненную попытку. Блудов отослал домой карету и слугу; они еще не воротились, когда кончилось чтение; свет начал гаснуть в зале, и она скоро закрылась. Нам пришлось оставаться в передней между лакеями, ибо в гостиную к Державину, куда переселились чтецы и слушатели, одному незнакомому, а другому известному противнику «Беседы» и Шишкова яви-
[504]
ться было неприлично. Мы предпочли в одних фраках идти пешком вдоль по Фонтанке, при сильном холодном ветре и осыпаемые мелким снегом. Скоро встретилась нам карета, мы сели в нее и, только согревшись, нашли, что случившееся с нами довольно забавно. Впоследствии Блудов весьма искусно поместил сие происшествие в одном шуточном произведении своем.
Во время продолжительного отсутствия моего из Петербурга произошла в нем перемена, несмотря на мой патриотизм, для меня весьма неприятная. Французский театр для холостых, для молодых людей, большой свет мало посещающих, был усладительным препровождением времени. В 1812 г., по мере как французские войска приближались к Москве, начал он пустеть и, наконец, всеми брошен. Государь, который никогда не был охотник до театральных зрелищ, сим воспользовался, чтобы велеть его закрыть и рассчитаться с актерами, которые почти все один за другим через Швецию уехали. Публика лишилась пленительных Филис131 и Жорж132, сперва, по-видимому, мало о том жалела, а, наконец, и совсем их забыла. Для меня же без них Петербург потерял более половины своей прелести. <…>
Мода на трагедии как будто прошла. Новых комедий тоже что-то не было. Ополчившемуся Шаховскому сперва не до того было; но он уже замышлял вступить в новый бой, ему более свойственный, а покамест новым маленьким творением потешил публику. Его «Казак-стихотворец» очень милый малый и особенно примечателен тем, что первый выступил на сцену под настоящим именем водевиля. От него потянулась эта нескончаемая цепь сих легких произведений, которых ныне по три и по четыре ежедневно появляется на сцене. В первые годы появление каждого из них было происшествием для любителей театра. Оперы почти все по-прежнему были переводные с французского; опасаясь сравнения, преимущественно играли те, кои гвардия вновь привезла с собою из Парижа,– «Жана парижского», «Жаконду», именно те, в коих зрители не видали Филис.
В 1815 г., откуда ни возьмись, показался новый комик, который в произведениях своих сделался известен не на одном драматическом поприще. Мне был он давно знаком,
[505]
равно и тем, кои с некоторым вниманием прочтут меня. Никто не подозревал в родственнике моем Михаиле Николаевиче Загоскине тех редких способностей, которые труды и время развили в нем, а я, может быть, менее, чем кто другой. Отец его, почтенный чудак, исполнен был религиозного духа и любознательности, жил всегда в деревне, и на ярмарках запасался всякого рода книгами, выходящими на русском языке; их давал он читать сыновьям своим. У старшего было чрезвычайно много живости в крови и мыслей в голове; к тому же с ребячества имел он любовь (которую назову я страстною) к истине и справедливости и какой-то свой особенный, но не менее того верный и ясный взгляд на людей и их недостатки. Одним словом, в нем воображение сочеталось с рассудком, а из чего же составляется ум? Проведя отрочество в деревне и первую молодость в среднем тогдашнем кругу, его наблюдательности представились сперва самые низшие слои общества. Он тем воспользовался, и я готов назвать его Крыловым в прозе и романах. Но кипеть его характера делала его рассеянным и невнимательным к этой глазури света, которую посредственность, а часто и ничтожество так удачно наводить на себя умеют. Как человек совершенно русский, он любил подтрунивать; видя зло, горячился, сердился, но никогда до ненависти, и в сегодняшнем враге так и хотелось ему видеть завтрашнего друга. Я всегда любил его за доброту и веселонравие, но не имел довольно опытности, чтобы уметь достойным образом оценить качества его души и ума: в глазах моих всякий гостинный эмабельный133 дурак стоял выше его. До 12 года оставался он мирным канцелярским чиновником; казалось, что он не имеет ничего общего с военным ремеслом, как вдруг любовь к отчизне вызвала его на поле брани; он вступил в петербургское ополчение и храбро дрался с ним под Полоцком и под Данцигом. По возвращении из похода всегдашняя страсть его к театру сблизила его с Шаховским; им ободряемый, он решился написать небольшую комедию «Проказник», довольно плохую, но которая дала ему почувствовать, что он в состоянии творить лучше.
Весной того же года решился, наконец, Жуковский приехать в Петербург на житье. Ему предшествовала вырос-
[506]
шая его знаменитость, и он особенно милостиво был принят у вдовствующей императрицы, которая любила в нем певца обожаемого ею, могущественного, препрославленного сына своего. Несмотря на новый образ жизни, Петербург не мог показаться ему чужбиной: недра дружбы ожидали его в нем. <…>
Приезд Жуковского не нравился большей части беседников, что и подало Уварову134 мысль вступить с ним в наступательный и оборонительный союз против них.
Он обманулся в своих расчетах: Жуковский так же, как и Карамзин, чуждался всякой чернильной брани. Не менее того ошиблись в нем и петербургские его естественные враги. В наружности его действительно не было ничего вселяющего особое уважение или удивление; в обхождении, в речах был он скромен и прост: ни чванства, ни педантства, ни витийства нельзя было найти в них. Оттого в одно время успехам его завидовали, а особу его презирали. Оленинская партия не вьявь, но тайно также не благоволила к нему. Тогда-то Шаховскому (и кому же иному?) вздумалось одним ударом сокрушить сие безобидное, по мнению его, творение его и всю знаменитость, и всех друзей его.
Мы обыкновенно день именин Дашкова и Блудова, 21 сентября, праздновали у сего последнего; Крылов и Гнедич тут также находились за обедом. Афишка в этот день возвещала первое представление 23-го числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием «Липецкие воды, или Урок кокеткам». Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением; все изъявили согласие, кроме двух оленистов.
Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его, ни к селу ни к городу, вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело испортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом,
[507]
перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно, что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена; еще кипящие молодостию Блудов и Дашков спешили поднять ее.
Это можно было почитать продолжением литературной войны между Москвою и Петербургом, некоторые подробности которой описаны мною в предшествующей части сих «Заметок», или, лучше сказать, возобновлением ее, ибо во дни всеобщей борьбы европейских народов сия пустая возня на время прекратилась. Она должна была возгореться с новою силой, когда не оставалось ни малейшего сомнения насчет европейского мира.
Победа казалась на стороне Шаховского; новая пиеса его имела успех чрезвычайный, публика приняла ее с шумным, громогласным одобрением. В тот же вечер, как нам сказывали, по сему случаю было большое празднество у петербургского гражданского губернатора Бакунина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, надела венок на счастливого автора. Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварною улыбкой: «Как быть, les rieurs sont de son côte» *. Торжество Шаховского пуще раздражало нас. Ах, юность, юность! Ну, право, как будто и смешно и совестно за себя и за других, когда вспомнишь, как все эти пустяки почитали мы делом серьезным и важным.
Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете,
* Насмешники на его стороне (фр.).
[508]
который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием: «Видение в какой-то ограде». Арзамасские любители словесности в одно из своих вечерних собраний слышат странный шорох в соседней комнате; Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в памятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина, и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедовать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойтись по рукам и получить общую известность; главное было то, чтоб она дошла до Шаховского и в чашу радости его много подлила она горечи.
Дашков поступил еще лучше, то есть смелее. За начинающимся недостатком политических происшествий, следственно и известий, в «Сыне отечества» Греч начинал уже помещать литературные статьи, но и ими журнал сей не изобиловал. Вероятно, оттого-то согласился он напечатать в нем «Письмо к новейшему Аристофану» Дашкова135, притворяясь, будто не знает, на чье лицо оно писано. А угадать было не трудно: самым пристойным, почти учтивым образом автор письма, как палицей, так и бил сплеча в Аристофана. Шум и великая тревога сделались от того в неприятельском стане.
Принимая в этом деле живейшее участие, не менее того видел я забавную его сторону. С родственником моим Загоскиным, верно преданным Шаховскому, я не прерывал своих сношений; мы часто посещали друг друга. Я любил бесить его, позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей насчет его патрона. С своей стороны, и он не слишком щадил сих последних и в нетерпении своем высказывал мне злые намерения наших противников. Таким образом пламя раздора все более раздувалось, и с обеих сторон готовились к новым битвам. Передавая все слышанное мною дружескому обществу нашему, я в шутку сам прозвал себя его шпионом или лазутчиком, а там, в сердито-веселом расположении духа, находя это название слишком жестоким, перевели его на слово соглядатай. Роль поджигателя была очень веселая, не
[509]
совсем уважения достойная, но как быть? Дело от безделья.
Новое нападение противной стороны, возбужденной мною посредством Загоскина, ограничилось его комедией «Урок волокитам», в трех действиях и в прозе. Она была недурна, особливо как скороспелка. В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, я мог бы не узнать себя в Фольгине, большом врале, ветреном моднике, каким я никогда не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его. Я знал, чем отомстить человеку, который, по всей справедливости, гордился едва ли не более древностию рода своего, чем новостию своей известности. Я уверил его, что все приятели мои не хотят верить его существованию, фамильное имя его почитают вымышленным, одним словом, видят в нем псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию.
Любопытно в это время было видеть Уварова. Он слегка был задет в комедии Шаховского и придрался к тому, чтоб изъявлять величайшее негодование. Мне кажется, он более рад был случаю теснее соединиться с новыми приятелями своими. Мысленно видел он уже себя предводителем дружины, в которой были столь славные бойцы, и на челе его должен был сиять венец, в который, как драгоценный алмаз, намерен был он вставить Жуковского. Опыт доказал ему, что он никакой подчиненности не может ожидать от соратствующих: все равно, в петербургском большом свете он гораздо их более известен и в глазах его может показаться главою партии. Вечно тщеславные расчеты этого человека бывали часто неверны, но иногда и удачны, и тогда помогали ему возвыситься то в общем мнении, то на поприще службы. Друзья литературы поступили бы безрассудно, если б отвергли помощь зятя министра просвещения136, человека, который имел непосредственное влияние на цензуру.
В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на вечер 14 октября137. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага; он обставлен был стульями и казался приготовленным для открытия присутствия. Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски напи-
[510]
санной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов». Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирали со смеху; единогласно избран он секретарем его. Когда же дело дошло до президентства, Уваров познал, как мало готовы к покорности избранные им товарищи. При окончании каждого заседания жребий должен был решать, кому председательствовать в следующем; для них не было даже назначено постоянного места; у одного из членов попеременно другие должны были собираться. Уварову не могло это нравиться, но с большинством спорить было трудно; он остался при мысли, что время подчинит ему эту республику.
Все это знаю я только по слуху, ибо в этом первом заседании я не участвовал: Уваров забыл или не хотел пригласить меня на него. Удивленные моим отсутствием, все другие члены изъявили желание видеть меня между собою. Тогда собралось нас всего семь человек, которых в припадках ослепленного дружелюбия и самолюбия сравнивал я с семью мудрецами Греции, а общество наше называл то плеядой, то семиствольною цевницей138. Всех выводил я на сцену перед читателем, один Жихарев оставался в глубине ее. Теперь его очередь.
Из деревни привезен был он в Московский университетский пансион и оттуда воротился опять в провинцию, где и оставался лет до восемнадцати. Он принял все ее навыки; с большим умом, с большими способностями, в кругу образованных людей, он никогда не мог отстать от них. Наружность имел он азиатскую: оливковый цвет лица, черные, как смоль, кудрявые волосы, черные блистающие глаза, но которые никогда не загорались ни гневом, ни любовию и выражали одно флегматическое спокойствие. Он казался мрачен, угрюм, и не знаю, бывал ли он когда сердит или чрезвычайно весел. Образ жизни тогдашних петербургских гражданских дельцов имел великое сходство с тем, который вели дворяне внутри России. Тех и других мог совершенно развеселить один только шумный пир, жирный обед и беспрестанно опоражниваемые бутылки. Покинутую родину обрел наш Жихарев в Петербурге у откупщиков, у обер-секретарей.
[511]
Потом свел он дружбу с Шаховским и русскими актерами, что и вовлекло его в литературу и даже в «Беседу», куда был принят он сотрудником. Он принялся за труд, перевел трагедию «Атрей», комедию «Розовый черт», написал какую-то поэму «Барды»: все это ниже посредственности. Безвкусие было главным недостатком его в словесности, в обществе, в домашней жизни. У него был жив еще отец, человек достаточный, но обремененный долгами; он поступал с ним, как почти все тогдашние отцы, которые к детям не слишком были чивы* и требовали, может быть, весьма справедливо, чтобы сынки сами умели наживать копейку, а Жихарев любил погулять, поесть, попить и сам попотчевать. Это заставило его войти в долги и прибегать к разным изворотам <…>, строгою совестливостию не совеем одобряемым. Дурные привычки, по нужде в молодости принятые, к сожалению, иногда отзываются и в старости. Бог весть, как приплелся он к моим знакомым, вероятно, через Дашкова, с которым учился; только в 1814 г. нашел я его уже водворенным между ними. Я не встречал человека, более готового на послуги, на одолжения; это похвальное свойство и оригинальность довольно забавная сблизили его со мною и с другими.
Арзамасское общество, или просто «Арзамас», как называли мы его, сперва собирался каждую неделю весьма исправно, по четвергам, у одного из двух женатых членов – Блудова или Уварова. С каждым заседанием становился он веселее; за каждою шуткой следовали новые, на каждое острое слово отвечало другое. С какою целию составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, с тем, чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим. Не совсем прошел еще век, в который молодые люди, как умные дети, от души умели смеяться; но конец его уже близился.
Благодаря неистощимым затеям Жуковского «Арзамас» сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ. Так же, как в первых, каждый член при вступлении обязан был произнесть похвальное слово покойному своему предместнику; таковых на первый случай не было, и положено брать их напрокат из «Беседы». Самим основателям общества нечего было вступать в него; все равно каждый из них в свою очередь должен был играть роль вступающего, и речь президента всякий раз должна
*ЧИВЫЙ, тчивый, точивый; щедрый, тороватый, см. точить и тчивый.(Из словаря В. Даля.) – короче – щедрый, великодушный. – Д. Т.
[512]
была встречать его похвалами. Как в последних, странные испытания (впрочем, не соблюденные) и клятвенное обещание в верности обществу и сохранении тайн его предшествовали принятию каждого нового арзамасца. Все отвечало одно другому.
Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем Жуковским, что уже сильно располагало всех к гиларитету, если позволено так сказать. Он оканчивался вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому в России не известна слава гусей арзамасских? Эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества.
Все шло у нас не на обыкновенный лад. Дабы более отделиться от света, отреклись мы между собою от имен, которые в нем носили, и заимствовали новые названия у баллад Жуковского. Таким образом наречен я Ивиковым журавлем, Уварова окрестили Старушкой, Блудова назвали Кассандрой, Жуковского – Светланой, Дашкову дали название Чу, Тургеневу – Эоловой арфы, а Жихареву – Громобоя.
Ни государь, ни Елизавета Алексеевна в это время не воротились еще из-за границы, а двор со вдовствующею императрицей оставался в Гатчине. Что удивительного, если в Петербурге деятельно занимались тогда всяким вздором. Глухо разнеслась в нем весть о существовании какого-то во мраке возникшего общества. «Беседа» первая догадалась, что оно оживлено не совсем приязненным к ней духом; в ней предполагали, что тайно готовятся на нее сильные нападения: кто скрывается, тот должен иметь дурной умысел, и словесники готовы были приписать нам заговор против правительства. А впрочем, кому же придет в голову, что порядочные люди собираются еженедельно единственно затем, чтоб умно подурачиться! Если бы некоторые из членов «Беседы», из тех, которые были поумнее, могли послушать нас, то, верно, были бы успокоены и обезоружены. Правда в похвальных им речах дарования их не слишком высоко оценивались, притязания их на авторство были осмеяны, но личности против них никто себе не позволял. Они бы узнали, что, устранив всякое педантство, арзамасцы между собою не чинились и часто позволяли себе даже трунить один над другим.
[513]
Не менее «Беседы» взволновано было Оленинское общество: «Арзамас» казался ему загадкою, которой тайну я не спешил открыть ему. Из слов и обхождения Крылова и Гнедича мог я заметить, что они чуждаются падших и не дерзнут восстать на торжествующих. Вся эта истинно комическая история (ибо комедия Шаховского была началом ее) должна была иметь влияние на судьбу мою. В доме у Олениных Жуковский был принят с усиленною ласкою; со мною как будто ни в чем не бывало. Несмотря на то, я мог ясно видеть, что недавние связи совершенно разорваны, а все из чего? Батюшков мог бы вразумить этих людей, но его тогда в Петербурге не было: он летом уехал в армию и оттуда еще не возвращался. По приезде он, верно, бы бросился в отверстые ему объятия «Арзамаса», который и по заочности избрал его своим членом под именем Ахилла. <…>
В этой главе хочется мне, кстати, досказать повесть о «Беседе» и «Арзамасе», хотя для того и должен буду выступить за пределы 1816 г. Оно будет не весьма длинно. «Беседа» в этом году как будто исчезла, совсем пропала без вести. Единственное заседание ее, на коем я присутствовал, было едва ли не последнее; если потом и были они, то не публичные и, верно, очень редко, ибо о них и слуху не было. Единственный свет, ее озарявший, слабел и тихо угас на берегах Волхова: летом Державин заснул вечным сном в деревне своей Званке, невольно осудив на то и «Беседу». Божество отлетело, и двери во храм его навсегда затворились.
Когда старуха-«Беседа» в изнеможении сил близилась к концу, в то же самое время молодой соперник ее все более крепился и мужал. Век его был тоже короток, но он оставил по себе долгие воспоминания. Новых членов, коими он обогащался, да позволено мне будет назвать здесь по имени, неизвестных же читателю стараться познакомить с ним.
Первые им восприятие были прибывшие из-за границы два дипломата. По летам своим Петр Иванович Полетика139 мог некоторым образом почитаться нам ровесником, но он всегда был старообразен: ему не было еще сорока лет, а казалось гораздо за сорок, и потому он не совсем подходил под стать к людям, из которых составлялась не академия, а общество довольно молодых еще, пристойных весельчаков. Он родом происходил от одного из греческих семейств, поселенных в Нежине; отец его
[514]
или дед, если не ошибаюсь, был последним архитектором, то есть тем, что мы ныне называем генерал-штаб-доктором. <…>
Лишь только узнали о его приезде, единогласно, громогласно призвали его в наше общество. Он мало занимался русскою литературой, хотя довольно хорошо ее знал; но, я повторяю, не одни литераторы нам были нужны. Его бы следовало принять почетным членом: тогда их у нас еще не было, все были одни действительные, и нареченный Очарованным Челном, не знаю как-то ускользнул он от обязанности произнести вступительную речь. Недолго насладились мы его обществом: следующей весной назначен был он советником посольства в Лондон.
Вместе с ним из Мадрида и Парижа приехал один юноша, впрочем, лет двадцати пяти, приятель Дашкова. Отец Дмитрия Петровича Северина140, Петр Иванович, служил когда-то капитаном гвардии Семеновского полка в одно время с Иваном Ивановичем Дмитриевым. В дни добродушной старины нашей достаточно было товарищества по службе, чтобы составить дружественные связи между людьми совершенно разных свойств. Дмитриев был приятелем Северина и еще более жены его, гораздо умнее и просвещеннее мужа своего. Из этого заключали, что он был ее любовником, и даже приписывали ему родительские права на рожденного от нее сына, хотя она была горбата и настоящий урод. Это была сущая ложь, а не клевета: ибо Дмитриева никто не думал осуждать за такое молодечество. <…>
Что сказать мне о сем новом сочлене нашем? В сокращенном виде был он Уваров, с тою, однако, великою разницею, что последний был знатнее родом, гораздо красивее, во сто раз умнее и богаче и даже добродушнее его. Я думаю оттого, что безмерные притязания Уварова давно уже обратились в права, а Северина и поныне еще терзает неудовлетворенное честолюбие. С нами, по крайней мере, не мог и не умел он позволять себе ничего резкого. Кто же в первой молодости был совершенно зол? Счастие почти всегда ласкает юность, да и самые неудачи так скоро забываются посреди тысячи развлечений, тысячи наслаждений. В это время худенький Северин был точно на молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. С годами взволнованная желчь, разливаясь по жилам и чертам его в самый неприятный цвет, наконец, окрасила его лицо. Вот его наружность.
[515]
Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться – никогда еще не видал я холопство, облеченное в столь щеголеватые и благородные формы. У него были и литературные права: благоволящий к нему Жуковский имел слабость чью-то басенку в восьми стихах напечатать под его именем в собрании русских стихотворений. Он был совоспитанник Вяземского141, товарищ по службе Дашкова, приятелем обоих, и потому-то двери «Арзамаса» открылись перед ним настежь.
Сейчас только что назвал я Вяземского, а он тут и является. Он и Пушкин, как сказал я выше, приехали в Петербург с Карамзиным и месяца через два с ним же воротились в Москву. В сие короткое время один усладил, а другой потешил «Арзамас» своим соприсутствием. Весело и совестно вспомнить ныне проказы людей, хотя еще молодых, но уже совсем не мальчиков: кто из тридцатилетних теперь позволит себе так дурачиться? В первой части говорил уже я о первой встрече моей с Васильем Львовичем Пушкиным, о метромании его, о его чрезмерном легковерии; здесь нужно прибавить, в похвалу его сердца, что всегда верил он еще более доброму, чем худому. Знакомые, приятели употребляли во зло его доверчивость. Кому-то из нас вздумалось, по случаю вступления его в наше общество, снова подшутить над ним. Эта мысль сделалась общим желанием, и совокупными силами приступлено к составлению странного, смешного и торжественного церемониала принятия его в «Арзамас». Разумеется, что Жуковский был в этом деле главным изобретателем; и сие самое доказывает, что в этой, можно сказать, семейной шутке не было никакого дурного умысла, ничего слишком обидного для всеми любимого Пушкина.
Ему возвестили, что непосвященные в таинства нашего общества не иначе в него могут быть приняты, как после довольно трудных испытаний, и он согласился подвергнуть им себя. Вяземский успел уверить его, что они совсем не безделица, и что сам он весьма утомился, пройдя через все эти мытарства. Жилище Уварова, просторное и богато убранное, могло одно быть удобным для представления затеваемых комических сцен. Как странствующего в мире сем без цели, нарядили его в хитон с раковинами, надели ему на голову шляпу с широкими полями и дали в руку посох пилигрима. В этом наряде, с завязанными глазами, из парадных комнат по
[516]
задней, узкой и крутой лестнице свели его в нижний этаж, где ожидали его с руками полными хлопушек, которые бросали ему под ноги. Церемония, потом начавшаяся, продолжалась около часа: то обращались к нему с вопросами, которые тревожили его самолюбие и принуждали морщиться; то вооружали его луком и стрелою, которую он должен был пустить к чучелу с огромным париком и безобразною маской, имеющую посреди груди написанный на бумаге известный стих Тредьяковского:
Сие чудище, повергнутое после выстрела его на пол и им будто побежденное, должно было изображать дурной вкус или Шишкова. Потом заставили его, поддержанного двумя аколитами, пронести на блюде огромного замороженного гуся, а после того… всего не припомню. Между всеми этими проделками члены произносили ему речи назидательные, ободрительные или поздравительные. В заключение, из темной комнаты, в которой он находился, в другую длинную, ярко освещенную, отдернулась огненного цвета занавесь, ее скрывавшая, он с торжеством вступил в собрание и сказал речь весьма затейливую и приличную. Когда после я спросил его, не досадовал ли он, не скучал ли он сими продолжительными испытаниями? – Совсем нет,– отвечал,– c'étaient d'aimables allégories *. Подите же после того: родятся же люди как будто для того, чтоб трунили над ними.
В протоколе, который прочитал потом секретарь Жуковский, прописан был весь этот обряд, в предыдущем заседании якобы совершенный над Вяземским. При этом все члены, исключая новопринятого, приступили с требованием на будущее время отменить его как тягостный для вступающих, так и довольно убыточный для вступивших. Недоставало баллад, чтоб давать их названия новым членам; довольствовались тем, чтобы для того брать из них примечательные имена и слова: вот почему в это же, кажется, заседание Вяземский наречен «Асмодеем», Пушкин стал называться «Вот», а Северин удачно прозван «Резвым Котом». И действительно, этот, ныне старый, тощий кот был тогда ласков, по крайней мере с приятелями, и про них держал в запасе когти, но не выпускал их, и в самых манерах имел еще игривость котенка.
*Это были приятные аллегории (фр.).
[517]
В следующее заседание приглашены были некоторые более или менее знаменитые лица: Карамзин, князь Александр Николаевич Салтыков, Михаил Александрович Салтыков142 – известные моему читателю, и, наконец, Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий143. Все они, вместе с отсутствующим Дмитриевым, единогласно выбраны почетными членами, или почетными гусями: титул сей, разумеется, предложен был Жуковским. В это время только удалось мне видеть Нелединского, невысокого роста, умного, веселого, толстенького старичка, исполненного нежнейшей чувствительности и предававшегося самой грубой чувственности, написавшего немного прелестных стихов и, к сожалению, так много непотребных.
В этот же день потешили и Пушкина. Некогда приятель и почти ровесник Карамзина и Дмитриева, сделался он товарищем людей, по меньшей мере пятнадцатью годами его моложе. Надобно им было чем-нибудь отличить его, признать какое-нибудь первенство его перед собою. И в этом деле помог Жуковский, придумав для него звание старосты «Арзамаса», с коим сопряжены были некоторые преимущества. Из них некоторые были уморительные и остались у меня в памяти; например: место старосты «Вота», когда он налицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия – в сердцах друзей его; он подписывает протокол… с приличною размашкой; голос его в нашем собрании… имеет силу трубы и приятность флейты, и тому подобный вздор.
Я полагаю, что если б это общество могло ограничиться небольшим числом членов, то оно жило бы согласнее и могло долее продлить свое веселое существование; но Жуковский беспрестанно вербовал новых. Необходимо их представить здесь.
Первого назову я Дмитрия Александровича Кавелина144. Гораздо старее Жуковского, он, однако же, учился с ним вместе в Московском университетском пансионе, который оставил он несколько годов прежде него. Он принадлежал к партии Сперанского, находился под покровительством и в тесной дружбе с Магницким145. Он никогда не был выскочкою, держал себя тихо, скромно, удалялся от общества, оттого, может быть, не увлечен был их падением и сохранял значительное место директора медицинского департамента. Но без них он как бы осиротел и, как кажется, желал составить новые связи, пристать к чему-нибудь, к кому-нибудь. Придравшись
[518]
к прежнему соученичеству, он очень ласкался к Жуковскому и предложил ему печатать его сочинения в типографии своего департамента. Он был человек весьма неглупый, с познаниями, что-то написал, казался весьма благоразумным, ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний. Жуковский наименовал его «Пустынником». Безнравственность его обнаружилась в скором времени; постыдные поступки лет через семь или восемь до того обесславили его, что все порядочные люди от него удалились, и в России, где общее мнение ко всем так снисходительно, к нему одному осталось оно немилосердно. Как будто сбылось пророчество Жуковского: около него сделалась пустыня, и он всеми забыт.
Одного только члена, предложенного Жуковским, неохотно приняли. Не знаю, какие предубеждения можно было иметь против Александра Федоровича Воейкова146. Я где-то сказал уже, что наш поэт воспитывался в Велевском уезде в семействе Буниных. Катерина Афанасьевна Бунина, по мужу Протасова, имела двух дочерей, которые, вырастая с ним, любили его как брата; говорят, они были очаровательны. Меньшая выдана за соседа, молодого помещика Воейкова, который также писал стихи, и оттого-то у двух поэтов составилось более чем приязнь, почти родство. Совершенная разница в наружности, чувствах, обхождении супругов, конечно, бросалась в глаза: он был мужиковат, аляповат, неблагороден; она же настоящая Сильфида147, Ундина, существо неземное, как уверяли меня (ибо я только вскользь ее видел). Неужели это ему ставили в вину?148. Да какое неуклюжество не простил бы я, кажется, за ум; а в нем было его очень много. В душе его не было ничего поэтического, и стихи, столь отчетливо, столь правильно им написанные, не произвели никакого впечатления, не оставили никакой памяти даже в литературном мире. Лучшее произведение его был перевод Делилевых «Садов»149. Как сатирик имел он истинный талант; все еще знают его «Дом сумасшедших», в который поместил он друзей и недругов: над первыми смеялся очень забавно, последних казнил без пощады. Он был вольнопрактикующий литератор, не принадлежал ни к какой партии, ни к какому разряду, и потому-то мне не случилось доселе упомянуть о нем. Никто, может быть, так хорошо не знал
[519]
русскую словесность; доказательством любви его к ней служит принятие звания профессора ее в Дерптском университете150. Это всех удивило и многим не понравилось; наши дворяне, и особенно старинные, как он, гнушались тогда всем, что походило на учительство: они не были современниками Гизо151 и Шевырева152. Воейков никак не обиделся данным ему у нас названием «Дымной печурки».
Еще одного деревенского соседа, но вместе с тем парижанина в речах и в манерах, поставил Жуковский в «Арзамасе». В первой молодости представленный в большой свет Александр Алексеевич Плещеев153 пленил его необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно же мастерски умел он кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. С такою способностью нетрудно было ему перенять у французов их поговорки, все их манеры; и сие делал он уже не в шутку, так что с первого взгляда нельзя было принять его за русского.
Дочь фельдмаршала графа Ивана Григорьевича Чернышева154, фрейлина Анна Ивановна после смерти отца перед целым двором обнаружила стыд свой; чтобы прикрыть его, строгий, а иногда и снисходительный, император Павел велел скорее приискать ей жениха. Плещеев был вхож в дом ее родителя; за него первого взялись, и он тут очень кстати случился.
После того молодые супруги удалились в Орловскую губернию и при жизни ее никогда не возвращались в Петербург. <…>
Когда, овдовев, Плещеев приехал в Петербург, он возвестил нам его как неисчерпаемый источник веселий; а нам то и надо было. Сначала, действительно, он всех насмешил, но вскоре за пределами фарсы увидели совершенное ничтожество его. По смуглому цвету лица всеобщий креститель наш назвал его «Черным Враном»; наскучило, наконец, слушать этого ворона даже тогда, когда он каркал затверженное, а своего уже ровно у него ничего не было. Ему было повезло: он попал в чтецы к императрице Марии, сделан камергером и членом театральной дирекции; а после бог знает, что из него вышло.
По заочности были приняты еще два члена: Батюшков, как уже сказал я, под именем «Ахилла», и партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов, под именем «Армянина». Первый следующею осенью обрадовал нас своим
[520]
приездом, последнего никогда мы меж собой не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и Пушкиным составили они отделение «Арзамаса», и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев. Новых членов они не набирали без согласия горнего «Арзамаса», не имея на то права. <…>
Показалось Орлову155, что свободная стихия достаточно наполняет «Арзамас», чтобы сделаться в нем преобладающею. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление. В один прекрасный весенний вечер собрались мы на даче у г. Уварова; заседание открыто было в павильоне Штейна как в месте особенно вдохновительном. В приготовленной им речи, правильно по-русски написанной, Орлов, осыпав всех нас похвалами, с горестью заметил, что превосходные дарования наши остаются без всякого полезного употребления. Дабы дать занятие уму каждого, предложил он завести журнал, коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России. Расширив таким образом круг действия общества, он находил необходимым и умножить число его членов; сверх того, предлагал каждому отсутствующему члену предоставить право в месте пребывания его учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного. Изумив сочленов своих неожиданностью предложений, он надеялся вырвать их согласие.
Не знаю, каким образом о намерении его заблаговременно предупрежденный Блудов отвечал ему также приготовленной речью. Учтивее, пристойнее и вместе с тем убедительнее нельзя делать опровержений; он доказывал ему невозможность исполнить его желание, не изменив совершенно весь первобытный характер общества. Касаясь до распространения света наук, о коем неоднократно упоминал Орлов, заметил он ему, что сей светоч в руках злонамеренных людей всегда обращается в факел зажигательства; и сие сравнение после того не раз случалось мне слышать от других. Когда вспомнишь это прение, кажется, что будущий жребий сих людей был написан в их речах.
Орлов не показал ни малейшего неудовольствия, вечер кончился весело, и все разъехались в добром согласии. Только с этого времени заметен стал совершенный раскол: неистощимая веселость скоро прискучила тем, у коих голова полна была великих замыслов; тем же,
[521]
кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто политическим вопросам. Два века, один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в «Арзамасе»; как при вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли. И действительно, в этом году, с отлучкою многих членов, и самых деятельных, прекратились собрания, и «Арзамас» тихо, неприметно заснул вечным сном. Но прежде кончины своей породил он чувство, редко, никогда почти ныне не встречаемое,– неизменную, твердую дружбу между людей, которые, оказывая великие услуги государству, в век обмана и златолюбия служили примером чести и бескорыстия. <…>
ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ
(1792–1878)
Помещаемые здесь отрывки «Записных книжек» – ничтожно малый фрагмент мемуарного наследия Вяземского. Собственно, включение их в сборник преследует единственную цель – еще раз привлечь внимание читателя к тому факту, что разнообразные записи, статьи, воспоминания и письма Вяземского составляют неотъемлемую часть русской мемуарной литературы прошлого столетия.
Рассказывать биографию Вяземского здесь не будем: сведения о нем не трудно найти в любом справочнике, антологии, издании его сочинений (см. список литературы на с. 524).
Следует заметить только, что над подготовкой своих долголетних записей к изданию обер-шенк двора, сенатор, член Государственного совета, товарищ министра просвещения, глава цензурного ведомства старый князь Вяземский трудился, словно оглядывая свой сложный, противоречивый, трудный и необычайно интересный жизненный путь. В известном смысле это было его возвращение к прошлому перед смертью. С 1813 года вел он записные книжки. Их накопилось 36 – в сафьяновых, красных и зеленых, переплетах, картонных обложках, оклеенных мраморной бумагой; карманных – в коже, с петельками для карандашей, альбомов в цветной бумаге; календарей с записями на чистых листах…
Отступничество от идеалов молодых лет не может быть «прощено» Вяземскому, но оно не должно и затмевать то лучшее, что совершил и написал он в светлые для русской культуры пушкинские десятилетия. Нельзя забывать также, сколь многим мы обязаны Вяземскому для сохранения памяти о пушкинском времени: записные книжки и переписка хранят бездну фактов, метких характеристик, живых зарисовок, без которых кажется
[523]
теперь немыслимым никакое исследование о русской культурной истории XIX века. Пересмотр записных книжек составлял истинное содержание жизни Вяземского в старости: ему было дорого прошлое и чуждо настоящее. В 1873 г., оговорив анонимность публикации, он отправил из Саратовской губернии (там было имение жены) часть записных книжек издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу. В предуведомлении к одной из публикаций Бартенев писал: «Не знаем как и благодарить саратовского доставителя этих очерков, заметок и рассказов, в которых в таком обилии разбросаны драгоценные указания по словесной, политической и общественной и бытовой истории нашей».
Работая над старыми записями, Вяземский признавался:
ЛИТЕРАТУРА
Вяземский П. А. Стихотворения. Подготовка текста и прим. Л. Я. Гинзбург.– Л., 1958.
Вяземский П. А. Сочинения. Т. 1–2.– М., 1982.
Вяземский П. А. Записные книжки 1813–1848. Издание подготовила В. С. Нечаева.– М., 1963.
Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика.– М., 1984.
Гиллельсон М. И. Вяземский. Жизнь и творчество.– Л., 1969.
Друзья Пушкина. Т. 1–2.–М., 1984.
Херасков сохранил до глубокой старости холодность, заметную в первых стихах его юности.
Княжнин и Фонвизин, хотя и уважали друг друга, позволяли себе однако же шутить иногда один на счет другого. «Когда же вырастет твой Росслав?1 – спросил Фонвизин однажды.– Он все говорит: я росс, я росс, а все-таки он очень мал».– Мой Росслав вырастет,– отвечал Княжнин,– когда вашего Бригадира пожалуют в генералы2.
Херасков в одном примечании к поэме «Пилигримы» говорит: «Брут, дерзкая трагедия Вольтерова». Его трагедии не имели этой дерзости.
Озеров за первые свои успехи на театре должен был заплатить терпением и твердостью. «Эдип», «Фингал», «Дмитрий»3 навлекали ему постепенно новых врагов. «Поликсена»4 вооружила всю сволочь на него, и он был принужден укрыться в Казань от своих бешеных зоилов. Он может сказать с Вольтером: «Si je fais encore une tragédie où fuirai-je»*.
– Знаете ли вы Вяземского? – спросил кто-то у графа Головина5.– «Знаю! Он одевается странно».– Поди после, гонись за славой! Будь питомцем Карамзина, другом Жуковского и других ему подобных, пиши стихи, из которых некоторые, по словам Жуковского, могут назваться образцовыми, а тебя будут знать в обществе по какому-нибудь пестрому жилету или широким панталонам! – Но это Головин, скажете вы! – Хорошо! но, по несчастью, общество кипит Головиными.
У нас прежде говорилось: воевать неприятеля, воевать землю, воевать город; воевать кого, а не с кем. Принятое ныне выражение двоесмысленно. Воевать с пруссаками может значить вести войну против них и с ними заодно против другого народа. Желательно было
* Если я напишу еще трагедию, куда мне бежать? (фр.)
[525]
бы, чтобы изгнанное выражение получило снова право гражданства на нашем языке. Сколько еще подобных выражений, слов значительных, живописных, оторванных от нашего языка не прихотливым, своенравным употреблением, но просто слепым невежеством. Мы не знаем своего языка, пишем наобум и не можем опереться ни на какие столбы. Наш язык не приведен в систему, руды его не открыты, дорога к ним не прочищена. Не всякой имеет средство рыться в летописях, единственном хранилище богатства нашего языка, не всякой и одарен потребным терпением и сметливостию, чтобы отыскать в них то, что могло бы точно дополнить и украсить наш язык. Богатство языка не состоит в одном богатстве слов: Шихматов6, употребив несколько дюжин или вовсе новых, или не употребляемых слов в своей лирической поэме7, не обогатил нимало казны нашего языка. Бедняк нуждается хлебом, а скупец отдает ему лед, оставшийся у него в погребе. Мне кажется, что Николай Михайлович, познакомивший нас со славою предков, должен был бы, оставя на время блестящее свое поприще для поприща тернистого и скучного, но не менее полезного согражданам, утвердить наш язык на незыблемых столбах не одним практическим упражнением, но теоретическим занятием. Критически исследовав деяния предков, исследовал бы он критически и язык их. Светильник истории осветил бы ему и мрак словесности и, озаряя нас двойным сиянием, рассеял бы он ночь невежества, в которой бродим мы по отечественной земле, нам незнакомой.
В женщинах мы видим торжество силы слабостей. Женщины правят, господствуют нами, но чем? Слабостями своими, которые нас привлекают и очаровывают. Они напоминают ваяние, представляющее амура верхом на льве. Дитя обуздывает царя зверей.
Английской министр при дворе Екатерины, присутствующий ее похоронам, сказал: «On enterre la Russie»*.
«Недвижима лежит, кем двигалась Вселенна!» – сказал о ней же Петров в одном своем стихотворении8.
Война 1812 года была так обильна спасителями Москвы, Петербурга, России, что истинному спасителю при-
* Хоронят Россию (фр.).
[526]
шлось сказать: «Parmi tant de souveurs, je n'ose me nommer» *.
«За что многие не любят тебя? – спрашивал кто-то у Ф. И. Киселева9.– За что же всем любить меня,– отвечал он,– ведь я не империал».
Критик Болтин10 был пасынок Кроткова, который по шалостям и от долгов объявил себя мертвым и выехал из Петербурга в Симбирск в гробе. Молодой Болтин поехал с ним и попечительным о воспитании его вотчимом был употребляем в хорах, составленных из кучеров и лакеев, которыми Кротков утешал свой слух на веселых и приятельских попойках. Природные склонности боролись в молодом Болтине с силой развратных примеров и победили ее. Он урывал от пьяных бесед и предавался трезвому пьянству Муз, перевел два полные тома Энциклопедии. Наконец, возвратясь в Петербург, посвятил он себя любимой науке Истории и едва ли не первый и не последний у нас вносил светильник критики в мрак невежества и предрассудков пристрастия.
Говоря о блестящих счастливцах, ныне окружающих государя, я сказал: от них несет ничтожеством.
Карамзин говорит, что в наше время промышляют текстами из Священного Писания. Он же говорил, что те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и в лимфе.
Кажется, Полетика сказал: «В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение».
Как странна наша участь. Русский11 силился сделать из нас немцев. Немка12 хотела переделать нас в русских.
* Я не осмеливаюсь присоединить имя свое к такому количеству спасителей (фр.).
[527]
Шаховской, когда кусает, только что замуслит.
Хитрость – ум мелких умов. Лев сокрушает; лисица хитрит.
Иные люди хороши на одно время, как календарь на такой-то год: переживши свой срок, переживают они и свое назначение. К ним можно после заглядывать для справок; но если вы будете руководствоваться ими, то вам придется праздновать Пасху в страстную пятницу.
По первому взгляду на рабство в России говорю: оно уродливо. Это нарост на теле государства. Теперь дело лекарей решить: как истребить его. Свести ли медленными, но беспрестанно действующими средствами? Срезать ли его разом? Созовите совет лекарей: пусть перетолкуют они о способах, взвесят последствия и тогда решитесь на что-нибудь. Теперь, что вы делаете? Вы сознаетесь, что это нарост, пальцем указываете на него и только что дразните больного тогда, когда должно и можно его лечить.
Близ царя, близ смерти. Честь царю, если сия пословица родилась на войне! Горе, если в мирное время!
О девице N. N. говорят на всякий случай, что она замужем.
Август13, будучи в Египте, велел раскрыть гробницу Александра14. Его спросили: не хочет ли он раскрыть и гробницы Птолемеев15. «Нет!– отвечал он,– я хотел видеть царя, а не мертвецов!»
Сытый Сганарель16 думал, что вся его семья пообедала.
Нелединский говорит, что при дворе завтра не есть последствием сегодня. Он же в 1812-м годе после Боро-
[528]
динского сражения отвечал в Ярославле Екатерине Павловне в разговоре о преданности и любви русских к государю: «Любовь народа к царю родится от доверенности, а доверенность от успехов».
Если бы мнение, что басня есть уловка рабства, еще не существовало, то у нас должно бы оно родиться. Недаром сочнейшая отрасль нашей словесности: басни. Ум прокрадывается в них мимо цензуры: Хемницер, Дмитриев и Крылов часто кололи истиною не в бровь.
Я желал бы уместить все бытие свое в одно чувство, а это чувство издержать в одном ощущении.
Я думаю, мое дело не действие, а ощущение: меня надобно держать как комнатный термометр: он не может ни нагреть, ни освежить покоя, но никто скорее и вернее его не почувствует настоящей температуры.
Слог одного из древних, сильный и плотный, но отрывистый и преломленный, сравнивали с щитом Минервы17, обломанным на куски.
Бирон был большой охотник до лошадей. Граф Остейн18, венский министр при Петерб<ургском> дворе, сказал о нем: «Он о лошадях говорит, как человек, но о людях или с людьми, как лошадь».
Генерал Рожнецки19 рассказывал мне, что около Гжатска в 12-м году пойман был крестьянин и допрашиваем о какой-то дороге. «Не знаю» – было единственным его ответом, несмотря на угрозы ему делаемые, несмотря на побои. Вот герой в своем быту. Сие упорство и твердость весьма поразили Наполеона и окружающих его; но Наполеон не хотел показать неприятного впечатления и ругал допрашивающих, уверяя, что они, верно, изъясняются с ним не по-русски.
Я всегда люблю в многолюдном обществе мысленно допрашивать спины предстоящих: которые из них пода-
[529]
лись бы на палки? И всегда пугаюсь числом моих изысканий. Я не говорю уже о спинах, битых с рождения, а только о тех, кои торговались бы с палками и выдавали бы себя на некоторых условиях: иные щекотливые согласились бы с глазу на глаз: другие – менее, на при двух или трех свидетелях. Вот испытание, которое я, будучи царем, предлагал бы при выборах людей. Как трудно с девственною спиною ужиться в обществе! Как собаки обнюхивают и бегут прочь, когда ошибутся, так и битые тотчас, встречаясь с вами, обнюхиваются вашу спину и, удостоверившись, пристают к вам или от вас отходят. Нет сомнения, что общежитие более или менее уничтожает души. Сколько людей, которые сквозь строй пробежали к честям и достоинствам. Как мало дошли до них недотронутые.
Морков20 говорил в Москве о Ростопчине и Обольянинове: «Voici monuments ambulants du règne de la terreur» *.
Я никогда не позволил бы себе сыну своему сказать: «Угождай ближнему», а твердил бы: «Угождай совести!» Любовь к ближнему должна быть запечатлена в сердце; благоговейное уважение к совести – в правилах.
Я хотел бы славы, но для того, чтобы осветить ею могилу отца и колыбель моего сына.
Ник<олай> Ник<олаевич>21 рассказывал, что раз за столом у государя Румянцев22, по возвращении своем из Парижа, в подтверждение своего мнения приводил, что однажды, разговаривая с Наполеоном, сказал он ему: «Как, государь, вам, творцу такого величия, не подумать, что сколько вы ни всемогущи, но закон природы падет и на вас: избрали ли вы достойного наследника, преемника такой славы…– Поверите ли вы, граф,– отвечал Наполеон, ударяя себя по лбу,– что мне это и в мысль не приходило. Благодарю, вы меня надоумили».– Оставляю на произвол решить, кто из них трех солгал.
* Вот странствующие памятники царствования террора (фр.).
[530]
В Павле были царские движения, то есть великодушные движения могущества. Они пленяли приближенных к нему и современников, искупая порывы исступления. Я видел слезы отца моего и Нелединского, оплакивающие Павла. Слезы таких людей – свидетельства похвальные.
Третьего дня или четвертого дня имел я во сне разговор с каким-то иностранцем о России. Между прочим, говорили мы с ним о 14 декабря. Он удивлялся, что мятежники полагали возмутить народ именем царевича. Я отвечал ему: «Nous ne pouvons pas avoir de révolution pour une idée, nous ne pouvons en avoir que pour un nom» *. Я готов подтвердить наяву сказанное во сне: история тому свидетельница.
Что есть любовь к отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения. В этой любви патриот может сказать с Жуковским:
В любви я знал одни мученья23.
Какая же тут любовь, спросят, когда не за что любить? Спросите разрешения загадки этой у строителя сердца человеческого. За что любим мы с нежностию, с пристрастием брата недостойного, сына, за которого часто краснеем? Собственность – свойство не только в физическом, но и нравственном, не только в положительном, но и в отвлеченном отношении действует над нами какою-то талисманною силою.
Можно сказать о старике Кутайсове, что он вышел в люди с легкой руки своей.
Журналы наши так грязны, что нельзя читать их иначе, как в перчатках.
Живого автора должно печатать с хорошей стороны: мертвого – со всех. После смерти нет лжи: а утаить что-нибудь из написанного автором, то есть из умственной
* У нас не может быть революции ради идеи; они могут быть у нас лишь во имя определенного лица (фр.).
[531]
жизни его есть ложь. Я хочу знать не только автора, но и человека: вот от чего чтение записок занимательно и назидательно.
Я сегодня читал указ о Шервуде. Правительство превозносит его подвиг и придает его имени в вечное и потомственное владение прозвание верный. Не одобряю этого. Правительство может и должно вознаграждать такие политические добродетели деньгами, но не похвалами, подобающими одним нравственным деяниям. По рассудку оно обязано признательностию за такую услугу; но по совести не может уважать услужника. Зачем же ханжить и выдавать перед светом черное за белое, доносчика за спасителя отечества. Если Шервуд и спас его, то он не более как подкупленный гусь. Таких спасителей можно подкупать за сто рублей. Легко найти человека, который из корысти выдаст вам тайну вашего противника. Дают ли гласные государственные знаки отличия лазутчикам, переметчикам в военное время? Их отличают одними червонцами. Таково и положение Шервуда. В его деле нет нисколько великодушия, ибо он предавал слабых сильным; нельзя и назвать его подвига верностию, ибо достойное уважения соблюдение верности должно быть сопряжено с пожертвованиями, с опасностию. Здесь нет ни того, и другого. Не сужу лично Шервуда, ибо не знаю его, но каждый благоразумный подлец поступил бы как он, рассчитав, что, во всяком случае, он по крайней мере меняет неверное на верное. Не от того ли он и верный, что сыграл наверное? Успех заговорщиков был сомнителен: его успех, выдавая их правительству, был математической очевидности. Довольно и того, что выгоды правительства часто основаны на нравственных непристойностях, чтобы не сказать хуже, но, по крайней мере, пользуйтесь ими во мраке тайной полиции, а не выводите их с наглостию на белый свет и помните, что можно любить измену, но должно презирать всегда изменников. Шервуд, вошел ли в заговор добросовестно или как тать, чтобы наложить на них руку, равно играл он ролю, которую честный человек не хотел бы добровольно принять на себя. Как же правительству объявить всенародно добродетельным подвигом то, чем стал бы гнушаться честный человек. Пожалуй, скажут, что это верх добродетели, род геройского самоотвержения, но в таком случае не переходят в гвардию. Если само-
[532]
убийство терпимо и понятно, то разве в таком случае когда долг чести и голос совести принуждает вас совершить поступок бесчестный и бессовестный. Такое двусмысленное положение должно непременно разрешить ознаменованием беспрекословного бескорыстия. Правительству не должно слишком явно ругаться простосердечием нашим; довольно и того, что его и, следовательно, наша польза не дозволяет ему отплатить презрением и опозорить гласным образом услугу Шервуда. Мы тут видим одну из политических необходимостей, от коих сердце ноет, но перед коими разум молчит. Но не жалуйте его в герои, а то негодование и частное убеждение совести каждого заглушат голос политической необходимости и падут на вас неотразимою укорою. Двух нравственностей быть не может: частной и народной. Она все одна: могут быть две пользы, два образца суждения относительно истин частных и народных или государственных,– это дело другое! На то у вас и деньги, чтобы кормить государственную нравственность. Но берегитесь жаловать гражданственными венцами и цицеронскими отличиями предателей товарищества, шпионов, доносчиков. Они навоз общества политического: им пользуешься при случае, но все держишь на заднем дворе и затыкаешь себе нос, когда мимо проходишь. Что скажете вы, если страстно благодарный агроном, в память хорошего урожая, доставленного ему навозом, станет держать его в гостиной, на почетном месте, в богатом хрустальном сосуде и станет заставлять гостей своих прикладываться к нему?
По вашей совести Шервуд верный, а по нашей того мало: должно еще придать две буквы и разрешить на этот раз ошибку правописания.
Генрих IV ревностно покровительствовал успехи земледелия и садоводства. Как наш Петр, он имел на все время. Мы не только покоимся под сению славы, им насажденной в России, но и под тению дерев, насажденных им. Новая, то есть настоящая Россия, есть точно творение его мысли всеобъявшей. Царствование Екатерины споспешествовало созрению. Другие царствования ничего не насадили, а разве только простригли чащу: иное очистили, но зато и многое погубили и извели самые
[533]
соки. Теперь во многом нужен новый Петр, то есть новый зиждитель. После Екатерины след был еще горячий: теперь остыл.
Не знаю, справедлива ли догадка моя <…>, но по крайней мере 13-е число24 жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го.– По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного. Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные. Правительство должно обеспечить государственную безопасность от исполнения подобных покушений, но права его не идут далее. Я защищаю жизнь против убийцы, уже подъявшего на меня нож, и защищаю ее, отъемля жизнь у противника, но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности, еще только возможной, лишением жизни его самого, то выходит, что уже убийца настоящий не он, а я. Личная безопасность, государственная безопасность, слова многозначительные, и потому не нужно придавать им смысл еще обширнейший и безграничный, а не то безопасность одного члена или целого общества будет опасностию каждого и всех. Правительство имело право и обязанность очистить, по крайней мере на время, общество от врагов его настоящего устройства, и обширная Сибирь предлагала ему свои безопасные заточения. Других должно было выслать за границу, и Европа и Америка не устрашились бы наводнения наших революционистов. Не подобными им людьми совершаются революции не только вчуже, но и дома. Пример казней, как необходимый страх для обуздания последователей, есть старый припев, ничего не доказывающий. Когда кровавые фазы Французской революции, видевшей поочередную гибель и жертв, и притеснителей, и мучеников, и мучителей, не служат достаточными возвещениями об угрожающих последствиях, то какую пользу принесет лишняя виселица? Когда страх казни не удерживает руки преступника закоренелого, не пугает алчного и низкого корыстолюбия, то испугает ли он
[534]
страсть, возвышаемую благородными побуждениями и упоенную всеми возможными чарами славы, страсть, ослепленную бедственными заблуждениями,– положим и так,– но все вдыхающую в душу необыкновенный пламень и силу, чуждые душе мрачного разбойника, посягающего на вашу жизнь изо ста рублей. Плаха грозит и ему так же, как и государственному преступнику, но ему она является во всем ужасе позора, а последнему в полном блеске апофеоза мученичества. Когда страх недействителен на порок, всегда малодушный в существе своем, то подействует ли он на фанатизм, который в самом начале своем есть уже исступление или выступление из границ обыкновенного. Одни безумцы могут затеять революцию на свое иждивение и для своих барышей. Рассудок, опыт должны им сказать, что первые затейщики бывают первыми жертвами, но они безумцы,– в них нет слуха для внимания голосу рассудка и опыта! Следовательно, и казнь их будет бесплодною для других последователей, равно безумных. А для того, который замышляет революцию в твердом и добросовестном убеждении, что он делает должное, личный успех затмевается в ложном или истинном свете того, что он почитает истиною!
Кровь требует крови. Кровь, пролитая именем закона или побуждением страсти, равно вопит о мести, ибо человек не может иметь право на жизнь ближнего. Закон может лишить свободы, ибо он ее и даровать может; но жизнь изъемлется из его ведомства. Смерть таинство: никто из смертных не разгадал ее. Как же располагать тем, чего мы не знаем? Может быть, смерть есть величайшее благо, а мы в святотатственной слепоте ругаемся сею святынею! Может быть, сие таинство есть звено цепи нам неприступной и незримой, и что мы, расторгая его, потрясаем всю цепь и расстроиваем весь порядок мира, запредельного нашему. Сии предположения могут быть приняты в уважение не одним суеверием, конечно, они сбиваются на мечтательность, но чем доказать их неосновательность, какими положительными опровержениями их низринуть? Человек, закон не могут по произволу даровать жизнь, следовательно, не властны они даровать и смерть, которая есть естественное и непосредственное последствие.
Я писал сегодня Жуковскому. «Чувство, которое имели к Карамзину живому, остается теперь без употребления: не к кому из земных приложить его. Любим, ува-
[535]
жаем иных, но все нет той полноты чувства. Он был каким-то животворным, лучезарным средоточием круга нашего, всего отечества. Смерть Наполеона в современной истории, смерть Байрона в мире поэзии, смерть Карамзина в русском быту оставила по себе бездну пустоты, которую нам завалить уже не придется. Странное сличение, но для меня истинное и неизысканное! При каждой из трех смертей у меня как будто что-то отпало от нравственного бытия моего и как-то пустее стало в жизни. Разумеется, говорю здесь, как человек, член общего семейства человеческого, не применяя к последней потере частных чувств своих. Смерть друга, каков был Карамзин, каждому из нас есть уже само по себе бедствие, которое отзовется на всю жизнь; но в его смерти, как смерти человека, гражданина, писателя, русского, есть несметное число кругов, все более и более расширяющихся и поглотивших столько прекрасных ожиданий, столько светлых мыслей».
Карамзин говаривал, что если заживет когда-нибудь домом, то поставит в саде своем благодарный памятник Вальтеру Скотту за удовольствие, вкушенное им в чтении его романов.
МОСКОВСКОЕ СЕМЕЙСТВО СТАРОГО БЫТА
Князь Петр Александрович Оболенский1, родоначальник многоколенного потомства Оболенских, был в свое время большой оригинал (то есть таковым был бы он преимущественно ныне, а в прежнее время, в эпоху особенных личностей и физиономий более определенных, оригинальность его не удивляла и не колола глаза). Последние свои двадцать – тридцать лет прожил он в Москве почти безвыходным домоседом. Из посторонних он никого не видал и не знал. Дома занимался он чтением русских книг и токарным мастерством. Он, вероятно, был довольно равнодушен ко всему и ко всем, но дорожил привычками своими. День его был строго и в обрез размежеван; чересполосных владений и участков тут не было: все имело свое определенное место, свою грань, свое время и меру свою. Разумеется, он рано и в назначенные часы ложился, вставал и обедал: обедал всегда
[536]
один, хотя дома семейство его было многолюдно. Старичок был он чистенький, свеженький, опрятный, даже щеголеватый; но платье его, разумеется, не изменялось по моде, а держалось всегда одного и им приспособленного себе покроя. Все домашние или комнатные принадлежности отличались изящностью. Английский комфорт не был еще тогда перенесен в наш язык и в наши нравы и обычаи; но он угадал его и ввел у себя, то есть свой комфорт, не следуя ни моде, ни нововведениям. Осенью, даже и в года довольно престарелые, выезжал он с шестью сыновьями своими на псовую охоту за зайцами. Как ни дичился он или, по крайней мере, как ни уклонялся от общества, но не был нелюдим, суров и старчески брюзглив. Напротив, часто добрая и несколько тонкая улыбка озаряла и оживляла его младенчески-старое лицо. Он любил иногда и слушать и сам отпускал шутки, или веселые речи, которые на французском языке называются gaudrioles *, а у нас не знаю как назвать благоприлично, и которые обыкновенно имеют особенную прелесть для стариков далее и беспорочно целомудренных в нравах и в житье-бытье: лукавый всегда чем-нибудь, так или сяк, а слегка заманивает нас в тенета свои. Князь Оболенский одиночеством или особничеством своим не тяготился, но любил, чтобы дети его – все уже взрослые – заходили к нему поочередно, но ненадолго. Если они как-нибудь забудутся и засидятся, он, дружески и простодушно улыбаясь, говаривал им: милые гости, не задерживаю ли я вас? Тут мгновенно комната очищалась до нового посещения. В детстве моем мне всегда было приятно, когда он допускал меня в свою изящную и светлую келью: бессознательно догадывался я, что он живет не как другие, а по-своему.
Женат князь Оболенский был на княжне Вяземской2, сестре князя Ивана Андреевича. В продолжение брачного сожительства их имели они двадцать детей. Десять из них умерло в разные времена, а десять пережили родителей своих. Несмотря на совершение своих двадцати женских подвигов, княгиня была и в старости, и до конца своего бодра и крепка, роста высокого, держала себя прямо, и не помню, чтобы она бывала больна. Таковы бывали у нас старосветские помещичьи сложения. Почва не изнурялась и не оскудевала от плодовитой растительности. Безо всякого приготовительного образования была
* Вольные шутки (фр.).
[537]
она ума ясного, положительного и твердого. Характер ее был таков же. В семействе и хозяйстве княгиня была князь и домоправитель, но без малейшего притязания на это владычество. Оно сложилось само собою к общей выгоде, к общему удовольствию, с естественного и невыраженного соглашения. Она была не только начальницею семейства своего, но и связью его, средоточием, душою, любовью. В ней были нравственные правила, самородные и глубоко засевшие. В один из приездов в Москву императора Александра он обратил особенное внимание на красоту одной из дочерей ее, княжны Наталии3. Государь с обыкновенною любезностью своею и внимательностью к прекрасному полу отличал ее: разговаривал с нею в Благородном собрании и в частных домах, не раз на балах проходил с нею полонезы. Разумеется, Москва не пропустила этого мимо глаз и толков своих. Однажды домашние говорили о том при княгине-матери и шутя делали разные предположения. «Прежде этого задушу я ее своими руками»,– сказала римская матрона, которая о Риме никакого понятия не имела. Нечего и говорить, что царское волокитство и все шуточные предсказания никакого следа по себе не оставили. Это семейство составляло особый, так сказать, мир Оболенский. Даже в тогдашней патриархальной Москве, богатой многосемейным и особенно многодевичьим составом, отличалось оно от других каким-то благодушным, светлым и резким отпечатком. Налицо были шесть сыновей и четыре дочери. Было время, что все братья, еще далеко не старые, были в отставке. Это также было в своем роде особенностью в наших служилых нравах. Некоторые из них, уже в царствование Александра, щеголяли еще по большим праздникам в военных мундирах екатерининского времени: тут являлись на показ особенный покрой, разноцветные обшлага, красные камзолы с золотыми позументами и, помнится мне, желтые штаны. Все они долго жили с матерью и у матери. Будничный обеденный стол был уже порядочного размера, а праздничный вырастал вдвое и втрое. Особенно в летние и осенние месяцы, в подмосковной, эта семейная жизнь принимала необыкновенные размеры и характер. Кроме семейства в полном комплекте, приезжали туда погостить и другие родственники. Небольшой дом, небольшие комнаты имели какое-то эластическое свойство: размножение хлебов, помещений, кроватей, а за недостатком их размножение диванов, размножение для при-
[538]
езжей прислуги харчей и корма для лошадей, все это каким-то чудом, по слову хозяйки, совершалось в этой ветхозаветной стороне. А хозяева были вовсе люди не богатые. Помнится мне, что в отрочестве моем по приказанию княгини отводили мне всегда на ночь кровать не кровать, диван не диван, а что-то узкое и довольно короткое, которое называла она, не знаю почему, лодочкою. Где эта лодочка? Жива ли она? Что сделалось с нею? Как мне хотелось бы ее увидать и, хотя еще более скорчившись, чем во время оно, улечься в ней. Вспоминаю о ней с сердечным умилением. Я уверен, что нашел бы в ней и теперь прежний и беззаботный сон, со светлыми сновидениями и радостным пробуждением. Но много утекло с того времени воды, светлой и прозрачной, мутной и взволнованной; с нею, без сомнения, утекла и лодочка моя и разбилась вдребезги. Во всяком случае, мы, русские,– не антикварии и не бережливы в отношении к семейным мебели, утварям, портретам предков. Мы привыкли и любим заживать с нынешнего текущего дня.
Мой отец, родной племянник Екатерины Андреевны, с молодости своей до конца питал к ней особенную преданность и почти сыновнюю любовь. Мой дед был, кажется, нрава довольно крутого и повелительного; сын его находил при матери своей (урожденной княжне Долгоруковой4) и при тетке своей теплый приют, а иногда и защиту от холодного и сурового обращения родителя своего.
В памяти моей врезался один разговор отца моего с теткою своею. Она обедала у нас; мне тогда было, может быть, лет десять. Уже сказано было выше, что она мало была учена и образованна. Мир был тогда полон именем Бонапарта, немудрено, что оно дошло и до нее. За обедом речь как-то коснулась Франции. Она просила отца моего объяснить ей, что это за человек, о котором все говорят. Отец мой был пламенный приверженец Наполеона, генерала и первого консула. Он в сжатом, но живом рассказе нарисовал очерк Бонапарта, перечислил дела его, объяснил значение его во Франции, а следовательно, и во всей Европе, одним словом, преподал в импровизации полный исторический урок. Помню и теперь, какое впечатление произвела на меня эта словом оживленная и раскрашенная картина. Мой отец, как и почти все образованные люди его времени, говорил более по-фраицузски; но здесь нужно было говорить по-
[539]
русски, потому что слушательница никакого другого языка не знала. Жуковский, который введен был в наш дом Карамзиным, говорил мне, что он всегда удивлялся скорости, ловкости и меткости, с которыми в разговоре отец мой переводил на русскую речь мысли и обороты, которые, видимо, слагались в голове его на французском языке. У отца моего в спальне висел на стене большой бонапартовский портрет, тканный шелком в Лионе и высланный ему в подарок фабрикантом, приезжавшим в Москву. Эти частно-исторические отметки кидают некоторый свет на эпоху. Нельзя не заметить и не повторить, что в то время было более свободы, нежели ныне, разумеется, не в политическом и гражданском отношении, а в личном и самобытном. Были открытые симпатии и антипатии; никто не утаивал их, и общество покрывало все и обеспечивало своею беспристрастною терпимостью. Никто, даже и несогласные с отцом моим, не упрекали его за французские сочувствия его.
Брачные союзы в продолжении времени должны были вносить новые и разнородные стихии в единообразную и густую среду семейства Оболенских. Оно так и было. Но такова была внутренняя сила этого отдельного мира, что и пришлые, чуждые приращения скоро и незаметно сливались, спаивались, сцеплялись, срастались вместе в благоустроенном организме, первоначальном и цельном. После некоторого времени, более или менее краткого или продолжительного, и мужья, вошедшие в семейство, и жены, в него поступившие, казались также искони урожденными Оболенскими. Ничего подобного этой ассимиляции, этому объединению никогда и нигде не было. Политике можно бы позавидовать, глядя на это само собою, тихо и будто бессознательно совершавшееся перерождение отдельных частностей и личностей, всецело, сердцем и обычаями, примыкавших к господствующему единству. Такова была привлекательная и нежнолюбивая сила семейная, которая образовалась и окрепла под сенью и благословением умной, твердой и чадолюбивой матери. Не было ни зятей, ни невесток, ни доморощенных и природных, ни присоединенных: все были чада одной семьи, все свои, все однородные.
Тут, например, был князь Щербатов5, брат известной княжны Щербатовой6, которой суждено было озаботить и подернуть тенью несколько дней из светлой жизни императрицы Екатерины. Молодому и блестящему флигель адъютанту императора Павла7, живому, светскому,
[540]
казалось, мудренее было бы подладить под уровень нового семейства, в которое он вступил; но сначала любовь, а потом оболенская атмосфера переродили и его. Он, приехав из Петербурга в Москву, влюбился в красавицу княжну Варвару8, Брак их совершен был романически и таинственно. Его мать, женщина суровая и властолюбивая, противилась этому браку, со всеми последствиями отказа в материнском согласии. Разумеется, и мать невесты не могла в подобных условиях одобрить этот брак. Но, кажется, мой отец благоприятствовал любви молодой четы и способствовал браку, уговорив свою тетку остаться в стороне и, по крайней мере, не мешать счастию влюбленных. Они тайно обвенчались и в тот же день отправились в Петербург. Помню, как она, в дорожном платье, заезжала к отцу моему проститься с ним и, вероятно, благодарить его за усердное и успешное участие; помню, как поразила меня красота ее и особенность одежды; вижу и теперь платье темно-зеленого казимира, в роде амазонки. На голове шляпа более круглая, мужская, нежели женская. Из-под шляпы падали и извивались белокурые кудри. Детство мое угадывало, что во всем этом есть какая-то романическая тайна. После многих лет старуха княгиня Щербатова простила сына своего и приняла у себя невестку.
Во многом противоположный Щербатову, сделался после членом семейства генерал Дохтуров9, с честью вписавший имя свое в наши военные летописи. И сей боевой служака, женившись, стал мирный и добрый семьянин, совершенно свыкшийся с новым бытом своим. При пробуждении моих воспоминаний о нем предо мною рисуется человек уже довольно пожилой, роста небольшого, сложения плотного, обращения тихого и скромного; помнится мне, был он довольно молчалив, что называется, серьезен и невозмутим. Невозмутим бывал он, говорят, и в пылу битвы. Кажется, Михаил Орлов говорил мне, что в каком-то жарком сражении, посреди самого разгара, нашел он его спокойно сидящего на барабане и дающего приказания войскам, а пули и ядра так кругом и сыпались. Но смерть поджидала его не тут. Видел я его за полчаса до кончины. Это было в Москве. В семействе Оболенских праздновалась обедом, кажется, чья-то свадьба. Дохтуров не садился за стол, чувствуя себя не совершенно здоровым. Но он несколько раз обходил гостей, обменивался с ними несколькими словами, выпил бокал шампанского за здоровье новобрачных и тотчас
[541]
после обеда уехал. Дома велел он затопить камин, сел пред ним и тут же умер. Нежно любившая жена его была в отлучке и должна была в тот же день или на другое утро к нему приехать. Один из братьев поехал к ней навстречу, чтобы уведомить о постигшем ее несчастии. Она пережила мужа многими годами, нежно и верно преданная памяти его. Я всегда питал к ней чувство особенной привязанности. Из семьи Оболенской она более других дружна была с матерью моею, молодою, из далекого края переселенною в мир ей совершенно чуждый и незнакомый. Добрая приятельница, вероятно, руководством и участием облегчала и поддерживала ее в минуты трудные, неизбежные, когда вступаешь на новый путь. Влечением позднего, но не менее того живого чувства ставлю себе в обязанность и приятно мне заявить здесь памяти ее мою нежную и сыновнюю благодарность.
Князь Александр Петрович Оболенский10 водворил в семейство свое дочь Ю. А. Нелединского11. Вот это было уже из совершенно другого лагеря. Но последствия были те же. Нелединская не была красавица, роста небольшого, довольно плотная, но глаза и улыбка ее были отменно и сочувственно выразительны; в них было много чувства и ума, вообще было много в ней женственной прелести. В уме ее было сходство с отцом: смесь простосердечия и веселости, несколько насмешливой. Она очень мило пела; романсы отца ее, при ее приятном голосе, получали особую выразительность. В сочинениях Жуковского есть очень милое и теплое к ней послание12; содержание его наиболее посвящено памяти сестры моей13, бывшей впоследствии замужем за князем Алексеем Григорьевичем Щербатовым14, с которою с самого детства была ода очень дружна. Сначала волокитство князя Александра шло не очень удачно. Приятельница Нелединской, остроумная Хомутова15, по этому поводу шуточно перефразировала стихи французской трагедии:
(а, право, много ума и веселости было в нашу молодость!). Нелединская с своим обожателем немножко кокетничала, флертечничала, или, как мой отец говаривал, пересеменивала, дело все на лад не шло, но наконец пошло: они обвенчались и многие годы провели в согласии
* Вы видите перед собой несчастного принца, незабываемый пример гнева богов (фр.).
[542]
и любви. Молодая внесла новый, свежий элемент литературной и более утонченной светскости в патриархальную среду принявшего ее семейства. Но не менее того добрый, простодушный строй его вскоре подчинил и ее общему семейному настроению. В этой семье не могло быть разноголосицы. Одним словом, в княгине Аграфене Юрьевне заметно было, что она дочь Нелединского, но вместе с тем было видно, что она и жена Оболенского. Прекрасные и благородные свойства князя достаточно верно выразились в напечатанной прошлым годом книге «Хроника недавней старины»16. Умная и разборчивая в людях великая княгиня Екатерина Павловна отличала особенным доверием и уважением двух братьев Оболенских, князей Василия17 и Александра, служивших адъютантами при герцоге Ольденбургском18.
Старший сын был князь Андрей Петрович19. Уже вдовый (первая жена его была урожденная Маслова) женился он за границею на княжне Гагариной20, дочери той Темиры21, которую некогда так нежно и пламенно, с таким страстным самоотвержением любил и воспевал Нелединский. Княжна Гагарина была, кажется, воспитана за границею или довершила там свое воспитание. Это нежное молодое растение было внезапно пересажено с дальной, чуждой почвы на московскую почву, в другой климат, под условия совершенно новые, которые не могли иметь ничего общего и сходного с тою атмосферою, которою оно до того дышало. Муж был уже не первой молодости, следовательно, не могло быть упоения и особенного увлечения, но не менее того она, так сказать, с первого дня обрусела, омосквичела и переродилась в купели Оболенского крещения. Нельзя достаточно надивиться этой силе объединения, которое царствовало в этой многочисленной и частью разнородной семье. И вся эта сила почерпала свое законное, освященное, любвеобильное начало в одном чувстве, чувстве семейной связки; в одном имени, в одной власти: имени и власти матери. Река принимает в себя, сосредоточивает в своем лоне влекущиеся к ней ручьи просто, естественно, потому что она река. Мать общим притягательным притоком сосредоточивает в себе семью просто потому, что она мать. Нет власти естественнее, святее власти материнской.
После смерти родителей своих старший в семье, прямой, законный наследник, был князь Андрей Петрович. Без предварительных соглашений, без избрания, а также просто, по общему влечению, он и сделался главою
[543]
семейства. Авторитет его, не имея законного освящения давности, может быть, и не имел вполне нравственное значения, которым пользовалась первоначальная власть но в этой династии Оболенских закон прямонаследия не мог быть никем оспариваем. Таким образом, это семейство, это колено Оболенских составило опять, или, вернее сказать, осталось, в Москве не разрозненным, не раздробленным племенем, а живою, самобытною и крепко сплоченною единицею.
Время между тем шло своим порядком и со своими видоизменениями. Дом сына не был уже старосветским домом матери. Новые обычаи, новые требования заглянули и отчасти, как бы незаметно, вторглись и в него. Сохраняя, впрочем, свой индивидуальный отпечаток, свою особенную первенствующую ноту, он согласовался с господствующим настроением общежития. Тут бывали и балы, и спектакли. Но главным признаком и отличительною принадлежностью этого дома была семейная жизнь. Семейные обеды еще разрослись с размножением семейства, уже усиленного народившимися поколениями. Отличительною чертою этих обедов было и то, что число служивших за столом почти равнялось числу сидевших за столом. В старых домах наших многочисленность прислуги и дворовых людей была не одним последствием тщеславного барства: тут было также и семейное начало. Наши отцы держали в доме своем, кормили и одевали старых слуг, которые служили отцам их, и вместе с тем призревали и воспитывали детей этой прислуги. Вот корень и начало этой толпы более домочадцев, чем челядинцев. Тут худого ничего не было; а при старых порядках было много и хорошего, и человеколюбивого.
Вовсе не будучи англоманом, князь Андрей Петрович живал большую часть года в подмосковной своей, селе Троицком Подольского уезда. Подмосковная была настоящим и любимым местопребыванием его. Там он жил, в Москве гостил. Там была и довольно богатая библиотека с некоторыми роскошными изданиями. Собрал он ее во время пребывания своего за границею. Сам мало пользовался он ею, по крайней мере в последние года; Однажды сказал он мне, что ныне, кроме духовных, он никаких книг не читает. Не знаю, принадлежал ли он к какой-нибудь масонской ложе; но приятельские связи, его с Плещеевым22, князем А. Н. Голицыным, Кошелевым23, графом Львом Разумовским24 могут удостоверить, что он по крайней мере сочувствовал их духовному
[544]
и мистическому настроению. Особенно в осенние месяцы деревенский троицкий дом был многолюден и оживлен: все родные с своими чадами и домочадцами, дядьками, гувернантками, прислугою переселялись туда на несколько недель. Бывали некоторые и посторонние из приятелей. Между прочими бывал некто Митрофанов, не знаю, кто и что именно и откуда он. Но он очень любим был в семействе. От него, собственно, слыхал я только одно: «А что, ваше сиятельство, каковы табачки?» То есть каков последний мною купленный турецкий табак. (Тогда сигары были еще мало известны.) Находился тут и отставной генерал Муромцев, большой чудак, но человек честный, умный, крепко изувеченный в екатерининских войнах и сам добровольно и с любовию крепко изувечивавший французский язык, к особенному удовольствию графа Ростопчина, также приятеля его. В Муромцеве было много и сердечности. В 12 году, незадолго до московского разгрома, зная, что денежные средства Карамзина довольно ограниченны и что собирается он выехать из Москвы с семейством своим, он добровольно предложил ему взять у него заимообразно десять тысяч рублей. В тогдашних обстоятельствах, когда будущее было очень сомнительно, подобное предложение человеку, с которым не был он в дружеских связях, а только в светско-приятельских, верно определяет оценку и нравственное достоинство его. Даже Карамзин, которого утро было исключительно посвящено исторической работе, жертвовал ею раз или два в течение лета и езжал из Остафьева на день или два в село Троицкое.
Осенние сборы имели здесь преимущественно целью охоту за зайцами. Охота и все принадлежности ее были хорошо и богато устроены. В промежутках при охоте за зайцами усердно шла охота и за картами; не в виде выигрыша, потому что все были свои и что игра была по маленькой; но надобно же было русской честной компании не терять золотого времени. Иногда садились за карты тотчас после завтрака вплоть до обеда, разумеется по деревенскому обычаю, в час пополудни. Тут все играли: отцы и дети, мужья и жены, старые и малые. За обедом обыкновенно съедали, в разных видах и приготовлениях, всех зайцев, затравленных накануне.
Карты имели вообще значение в жизни князя Андрея Петровича, хотя он был вовсе не игрок. В первой молодости своей приехал он из Москвы в Петербург с рекомендательными письмами к родным, но не имея в виду
[545]
никакого особенного покровительства. Положение довольно затруднительное и почти безысходное; но здравый ум его и рассудительность нашли исход. В обществах, где он бывал, сильные мира сего по вечерам играли в коммерческие игры. Чтобы не быть в таком обществе не только лишним, но сделаться и нужным, он решился отложить из небольшого капитала своего потребную частичку и пожертвовать ею для завоевания себе места в новой среде своей. Он предложил себя участником в игре. Определенную сумму он, может быть, и спустил; но главное было добыто: он ознакомился, сблизился с разными значительными лицами, он приобрел право гражданства в городском обществе. После этого остальное пошло само собою. В этом расчете его, в этой отрывочной черте довольно ясно обозначился и склад ума его, и склад тогдашнего общества. Но, впрочем, исключительно ли и одного ли тогдашнего?
Князь Андрей Петрович умер в поздних летах и оставил по себе довольно многолюдное семейство. Дочь его от первого брака была замужем за Николаем Аполлоновичем Волковым25, сыном известной в Москве Маргариты Александровны26 и братом известной Марии Аполлоновны27, которая неожиданно и непредвидимо для самой себя получила загробную журнальную известность по милости писем ее, довольно нескромно, а частью и не кстати обнародованных в журналах.
Можно положительно сказать, что князь оставил по себе добрую и честную память в московском обществе и даже в Московском университете, которого он был несколько лет попечителем, хотя, конечно, ни приготовительные условия, ни самые личные склонности и желания не предназначали его на подобное звание. Он был, как сказано выше, честный, высокой нравственности, здравомыслящий и духовно-религиозный человек. Эти качества, и не без некоторой основательности, обратили на него внимание и выбор императора Александра и министра просвещения князя Голицына. Впрочем, положение, которое умел он заслужить в обществе, побудило еще прежде великую княгиню Екатерину Павловну предложить ему место губернатора в Твери, от которого он отказался. Кажется, позднее было ему предложено звание сенаторское, от которого он также уклонился.
Вот посильный очерк семейной картины старого быта. Краски, мною употребленные, неярки, но верны. Само содержание картины не богато движением и замыс-
[546]
ловатостью; но оно взято с натуры, писано с памяти, но памяти сердечной, а по выражению Батюшкова:
Признаюсь, мне отрадно было писать эту картину и уловлять в ней мелкие принадлежности и подробности, которые могут посторонним зрителям казаться неуместными и лишними. Но я сам имею свой уголок в этой картине: и я был в ней действующим лицом. Весело, а может быть, и грустно смотреть на себя, как в волшебном зеркале, и увидеть себя, каковым был ты в любимом и счастливом некогда.
Впрочем, в попытке моей отзывается не одно частное и личное, или, как говорится ныне, субъективное побуждение; здесь есть еще и более и широкое, и объективное. Как ни заглядывай в минувшее, как ни проникай в него, а все же, хотя по соображению и по сравнению, не минуешь настоящего: невольно наткнешься на него. Так и со мною. Посмотрев на то, что было, хочется мне окинуть беглым взглядом и то, что есть. Мне кажется, что ныне едва ли найдется семейство, подобное тому, которое мною обрисовано. Не говорю уже о численности. Старое время было урожайнее нашего. Во всяком случае, семейное начало потрясено и урезано, на Западе еще более, нежели у нас. Семейства раздроблены, одни личности выступают вперед. В этом, может быть, есть признак и выражение некоторого улучшения и освобождения или также, как говорится ныне, социального прогресса. Не спорим. Но есть вместе с тем, может быть, и признак, зародыш некоторого таящегося общественного разложения. Есть русская пословица: «Прибыль и убыток на одних санях ездят». Люди, а особенно мы, русские, во всех вопросах смотрим на одну прибыль, которую возим и катаем, а на попутчика ее не смотрим. Между тем он тут; рано или поздно, может быть, он даст себя знать. Вот отчего наши окончательные расчеты часто неверны, иногда нам и внаклад. Семейное начало есть почва, есть основа, на которой зиждется и общественное. Если не признавать семейного авторитета и дома не приучаться уважать его, едва ли будем мы позднее способны признавать авторитет общественный и честно и с любовью служить ему. Если мы из родительского дома выносим начало розни, то неминуемо внесем ту же рознь и в общество. Тогда уже общества, собствен-
[547]
но, нет, а будут отдельные общества, расколы, которые каждый создает по образу и подобию своему. Искусственные узы политического родства не могут иметь прочность и святость естественных семейных уз. <…>
Но когда найдется женщина, которая не только мать многочисленного семейства, но и нравственная связь и нравственная сила его; но когда эта мать, подобно крепкой и доблестной жене Священного Писания, наблюдает в доме своем за семейством и хозяйством своим и «не ест хлеба праздности», то, без сомнения, общее и глубокое уважение ей особенно и преимущественно подобает.
О подобной женщине молчать не следует. Еще более: в нашу эпоху, прыткую и легко разгорающуюся пред каждою новизною, а вместе с тем, может быть, чересчур скептическую и отрицательную в других отношениях, сознается полезным и почти обязательным возбуждать или по крайней мере попытаться возбуждать сочувствие к отдаленным образцам, к характеристическим личностям другого времени, другого порядка, других понятий и, так сказать, верований. Не худо иногда сравнивать настоящее время с минувшим и проверять себя, то есть человека. При этом все хорошее, добытое новыми поколениями, при них и останется; никто и ничто не может посягнуть на него. Но при сравнении, при поверке если что-нибудь окажется не совсем удавшимся, если окажется где-нибудь пробел, то почему не позаимствовать у минувшего то, что не сокрушит, не изменит, не ослабит настоящего, а, напротив, может служить ему опорою и целебною силою?
Под влиянием этих соображений я вызвал из мрака забвения, из замогильного молчания имя и образ княгини Екатерины Андреевны Оболенской.
Написанное мною стихотворение «Поминки по Бородинской битве» дало мне мысль перебрать в голове моей все, что сохранилось в ней из воспоминаний о том времени. 1812 год останется навсегда знаменательною эпохою в нашей народной жизни. Равно знаменательна она и в частной жизни того, кто прошел сквозь нее и ее пережил. Предлагаю здесь скромные и старые пожитки памяти моей.
[548]
I
Приезд императора Александра I в Москву из армии 12 июля 1812 года был событием незабвенным и принадлежит истории. До сего война, хотя и ворвавшаяся в недра России, казалась вообще войною обыкновенного, похожею на прежние войны, к которым вынуждало нас честолюбие Наполеона. Никто в московском обществе порядочно не изъяснял себе причины и необходимости этой войны; тем более никто не мог предвидеть ее исхода. Только позднее мысль о мире сделалась недоступною русскому народному чувству. В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Можно сказать вообще, что мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этою войною, которая таинственно скрывала в себе и те события, и те исторические судьбы, которыми после ознаменовала она себя. В обществах и в английском клубе (говорю только о Москве, в которой я жил) были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск вовнутрь России. Но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров ввиду подобных же обстоятельств. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось почти в их глазах. Помнится мне, что на успокоительные речи таких господ один молодой человек – кажется, Мацнев – забавно отвечал обыкновенно стихом Дмитриева:
Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там1.
Но никто, и, вероятно, сам Мацнев, не предвидел, что этот Миловзор-Наполеон скоро будет тут, то есть в Москве. Мысль о сдаче Москвы не входила тогда никому в голову, никому в сердце. Ясное понятие о настоящем редко бывает уделом нашим: тут ясновиденью много препятствуют чувства, привычки, то излишние опасения, то непомерная самонадеянность. Не один русский, но вообще и каждый человек крепок задним умом. Пора действия и волнений не есть пора суда. В то время равно могли быть правы и те, которые желали войны, и те, которые ее опасались. Окончательный исход и опыт утвердили торжество за первыми. Но можно ли было, по здравому рассудку и по строгому исчислению вероятностей, положительно предвидеть подобное торжество – это другой вопрос.
[549]
С приезда государя в Москву война приняла характер войны народной. Все колебания, все недоумения исчезли; все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном святом чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторжения неприятеля. Уже до появления государя в собрание дворянства и купечества, созванное в Слободском дворце2, все было решено, все было готово, чтобы на деле оправдать веру царя в великодушное и неограниченное самопожертвование народа в день опасности. На вызов его единогласным и единодушным ответом было – принести на пользу отечества поголовно имущество свое и себя. Настала торжественная минута. Государь явился в Слободской дворец перед собранием. Наружность его была всегда обаятельна. Тут он был величаво-спокоен, но видимо озабочен. В выражении лица его обыкновенно было заметно, и при улыбке, что-то задумчивое на челе. Это отличительное выражение метко схвачено Торвальдсеном3 в известном бюсте государя. Но на сей раз сочувственная и всегда приветливая улыбка не озаряла лица его; только на челе его темнелось привычное облачко. В кратких и ясных словах государь определил положение России, опасность, ей угрожающую, и надежду на содействие и бодрое мужество своего народа. Последствия и приведение в действие мер, утвержденных в этот день, достаточно известны, и мы на них не остановимся. Главное внимание наше обращается на духовную и народную сторону этого события, а не на вещественную. Оно было не мимолетной вспышкой возбужденного патриотизма, не всеподданнейшим угождением волей требованиям государя. Нет, это было проявление сознательного сочувствия между государем и народом. Оно во всей своей силе и развитости продолжалось не только до изгнания неприятеля из России, но и до самого окончания войны, уже перенесенной далеко за родной рубеж. С каждым шагом вперед яснее обозначалась необходимость расчесться и покончить с Наполеоном не только в России, но и где бы он ни был. Первый шаг на этом пути было вступление Александра в Слободской дворец. Тут невидимо, неведомо для самих действующих лиц Провидение начертало свой план: начало его было в Слободском дворце, а окончание в Тюильерийском.
Самое назначение пред тем графа Ростопчина главнокомандующим в Москву на место фельдмаршала графа Гудовича4, который был изнурен годами и, следова-
[550]
тельно, недостаточно бдителен и деятелен, было уже предвестником нового настроения, нового порядка. Ростопчин мог быть иногда увлекаем страстною натурою своею, но на ту пору он был именно человек, соответствующий обстоятельствам. Наполеон это понял и почтил его личною ненавистью. Карамзин, поздравляя графа Ростопчина с назначением его, говорил, что едва ли не поздравляет он калифа на час, потому что он один из немногих предвидел падение Москвы, если война продолжится. Как бы то ни было, но на этот час лучшего калифа избрать было невозможно. Так называемые «афиши» графа Ростопчина были новым и довольно знаменательным явлением в нашей гражданской жизни и гражданской литературе. Знакомый нам Сила Андреевич 1807 года ныне повышен чином. В 1812 году он уже не частно и не с Красного крыльца, а словом властным и воеводским разглашает свои «Мысли вслух» из своего генерал-губернаторского дома на Лубянке. Карамзину, который в предсмертные дни Москвы жил у графа, разумеется, не могли нравиться ни слог, ни некоторые приемы этих летучих листков. Под прикрытием оговорки, что Ростопчину, уже и так обремененному делами и заботами первой важности, нет времени заниматься еще сочиненьями, он предлагал ему писать эти листки за него, говоря в шутку, что тем заплатит ему за его гостеприимство и хлеб-соль. Разумеется, Ростопчин, по авторскому самолюбию, тоже вежливо отклонил это предложение. И признаюсь, по мне, поступил очень хорошо. Нечего и говорить, что под пером Карамзина эти листки, эти беседы с народом были бы лучше писаны, сдержаннее и вообще имели бы более правительственного достоинства. Но зато лишились бы они этой электрической, скажу: грубой воспламенительной силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ. Русский народ – не афиняне: он, вероятно, мало был бы чувствителен к плавной и звучной речи Демосфена5 и даже худо понял бы его. <…>
Составитель пользуется приятной возможностью выразить искреннюю благодарность за разностороннюю помощь в работе над книгой Л. Н. Клименюк, А. М. Конечному, К. А. Кумпан, В. Ф. Муленковой, З. И. Розановой.
Л. Л. БЕННИГСЕН
Записки
Печатаются с небольшими сокращениями по изданию: Цареубийство 11 марта 1801 года – СПб., 1908.
1 Вы сами видите, генерал…– Записки Беннигсена, имеющие форму письма, обращены к генерал-майору Александру Борисовичу фон Фоку.
2 Панин Никита Петрович (1770–1837) – граф, дипломат, вице-канцлер. Воспитанный своим дядей, Н. И. Паниным, усвоил свободный образ мыслей и ненависть к деспотизму. Был одним из инициаторов дворцового переворота 1801 г. Вернулся из-за границы осенью 1799 г.
3 Рибас де Осип (Иосиф) Михайлович (1749–1800)–русский адмирал. Испанец по происхождению, сподвижник Г. А. Потемкина. Один из участников заговора против Павла I, намеревавшийся, по ряду версий, предать заговорщиков.
4 …граф Панин обратился к великому князю.– Современный исследователь Н. Я. Эйдельман пишет по этому поводу: «Довольно рано участники заговора (Панин, Пален) установили тайные контакты с наследником Александром <…> Наследник колебался, но Панин и Пален воздействовали на него доводами о «страдающем отечестве», о необходимых переменах…> (Эйдельман Н. Я. Грань веков.– М., 1982, с. 187).
5 …Панин обещал ему арестовать императора <…> бразды правления.– По плану Н. П. Панина, Александр должен был стать регентом при своем отце. В этом Панин резко расходился с П. А. Паленом, считавшим необходимым физически уничтожить Павла I. Пален впоследствии говорил Ланжерону: «Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее и что
[552]
если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темниц скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обагрит и столицу, и губернии» (Из записок графа Ланжерона.– Сб.: Цареубийство 11 марта 1801 г., с. 135–136).
6 Пален Петр Алексеевич (1745–1826) – граф, генерал от инфантерии, петербургский военный губернатор.
7 Сперва Александр отверг эти предложения…– По свидетельству А. Чарторыйского, Александр предпочел бы, чтобы заговор был осуществлен втайне от него. «Но такой образ действий был почти немыслим и требовал от заговорщиков или безответной отваги, или античной доблести, на что едва ли были способны деятели этой эпохи» (Сб.: Цареубийство 11 марта 1801 г., с. 216).
8 …граф Панин, попав в опалу…– 15 ноября 1800 г. Панин был удален из иностранной коллегии и переведен в Сенат. Через три дня ему было предписано покинуть столицу. Панин поселился в своем подмосковном имении Петровско-Разумовском. Н. Я. Эйдельман пишет, что с опалой и отъездом из Петербурга Панина, «состав участников предполагаемого дела становился все более однородным, более практическим, «циничным»; благородно-сентиментальные окраски переворота сильно блекнут» (Эйдельман Н. Я., с. 206).
9 …поссорились между собой…– Речь идет о дуэли между князем Б. Святополком-Четвертинским и А. И. Рибопьером. По неосновательному предположению Павла I, ссора возникла из-за Анны Гагариной. Павел сослал мать и сестер А. Рибопьера, а вслед за ними, как только позволило его состояние, и самого дуэлянта.
10 …уже не терпящий отлагательства.– По замыслу Палена, переворот должен был произойти 10 марта. «Великий князь,– сообщал Пален,– заставил меня отсрочить до 11 марта, когда дежурным будет третий батальон Семеновского полка, в котором он был уверен еще более, чем в других остальных» (Цареубийство 11 марта 1801 г., с. 140).
11 Зубов Платон Александрович (1767–1822)–князь, генерал-губернатор Новороссии, командующий Черноморским флотом; фаворит Екатерины II, участник переворота 1801 г.
12 …я не думал, что время уже настало.– Н. Я. Эйдельман пишет: «Очень вероятно, что до последнего дня Беннигсен был просто среди недовольных, готовых на многое, 11-го же выяснилась его потенциальная роль, о которой Пален знал раньше самого исполнителя: роль фактического вождя «колонны цареубийц», которая отправится в покои императора» (Эйдельман Н. Я., с. 272–273).
13 Обольянинов Петр Хрисанфович (1752–1841) – приближенный Павла I, генерал-прокурор.
14 …графа Николая…– Зубов Николай Александрович (1763– 1805) – граф, обер-шталмейстер.
15 …одно было из сената…– По убедительному предположению Н. Эйдельмана, речь идет о Д. П. Трощинском, который должен был тотчас же после ареста Павла I составить документ об его отречении от престола.
16 …это лицо…– то есть великого князя Александра.
17 Талызин Петр Александрович (1767–1801) –генерал-майор, с 1799 г. командир лейб-гвардии Преображенского полка.
18 Депрерадович Леонтий Иванович (1766–1844) –генерал-майор; в 1799–1807 гг. командир Семеновского полка.
19 Уваров Федор Петрович (1773–1824) – граф, генерал, участник войн с Наполеоном и заговора против Павла I. Впоследствии
[553]
был обласкав Александром I. Пушкин писал: «На похоронах Уварова пок<ойный> государь следовал за гробом. Аракчеев сказал громко (кажется, А. Орлову): «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 12.–М.-Л., 1949, с. 321).
20 Зубов Валериан Александрович (1771–1804) – граф, генерал-майор.
21 Аргамаков Александр Васильевич (1776–1833) – в 1801 г. поручик, дежурный адъютант Преображенского полка. Позднее полковник того же полка.
22 …лишен жизни непредвиденным, образом…– М. И. Муравьев-Апостол воспроизводит слышанный им от А. В. Аргамакова рассказ, противоречащий этой версии Беннигсена: «Услышав об отречении Павла, Беннигсен снял с себя шарф и отдал сообщнику, сказав: «Мы не дети, чтоб не понимать бедственных последствий, какие будет иметь наше ночное посещение Павла для России и для нас. Разве мы можем быть уверены, что Павел не последует примеру Анны Иоанновны?» Этим смертный приговор был решен» (В кн.: Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма.– Пг., 1922, с. 30).
Н. А. САБЛУКОВ
Записки
Печатаются в извлечениях по изданию: Цареубийство 11 марта 1801 г. Перевод с английского К. Военского.
1 …чрезвычайно опасно…– Ф. Ф. Вигель писал, например, что число недовольных Павлом «было так велико, что, несмотря на деятельность тайных агентов, никто не опасался явно порицать и злословить его. Употребляемые секретной полицией не могли иметь довольно времени, чтобы доносить на всех виновных в нескромности <…>; к тому же они сами трепетали и ненавидели правительство, коему столь постыдным образом служили» (Вигель, т. I, с. 121–122).
2 …Константин и его измайловские мирмидоны.– Константин Павлович (1779–1831) – великий князь, сын Павла I. Мирмидоны (мирмидоняне; греч.) – название ахейского племени в Фессалии. Иносказательно: подчиненные, неуклонно выполняющие полученные ими приказания.
3 …и переехал в Михайловский…– Павел I вместе с двором переехал в Михайловский замок 1 февраля 1801 г.
4 …у Хитровых…– Хитрово Николай Федорович (1771–1819) – генерал, зять М. И. Кутузова.
5 Тончи Сальватор (1756–1844) – итальянский художник, портретист; с 1800 г. жил в Москве.
8 Палатин – почетный сан некоторых германских вассалов.
7 …поражение Корсакова под Цюрихом…– Римский-Корсаков Александр Михайлович (1753–1840) – генерал-лейтенант в 1799 г. Командовал русским корпусом в Швейцарии. Был разбит генералом Массена в сражении 14–15 сентября 1799 г. при Цюрихе. Отозван в Россию и отставлен от службы.
8 …неудача знаменитой кампании Суворова в Италии, откуда он отступил на север, через Сен-Готард.– Суворов должен был соеди-
[554]
ниться с корпусом Римского-Корсакова в Шанце, куда он и направился через Сен-Готард. Преодолев Сен-Готард, Суворов узнал, что Римский-Корсаков отброшен на север, а в Швице его ожидают французы в надежде окружить его и взять в плен. Чтобы спасти армию, Суворов совершил труднейший Швейцарский поход, оставив Швейцарию в руках французов. Считая виновниками этой неудачи австрийцев, Павел I в 1800 г. разорвал свой союз с ними.
9 Англии была объявлена война…– В 1800 г. Павел разорвал отношения с Англией, так как русский вспомогательный корпус, который воевал вместе с англичанами против французов в Голландии, терпел военные неудачи и испытывал недостаток в пище и одежде. Павел начал готовиться к войне с Англией, задумав сухопутный поход в индийские владения англичан. Однако смерть Павла прервала эти приготовления.
10 …поместивший свою любовницу в замке…– Речь идет о фаворитке Павла I Анне Петровне Лопухиной.
11 Муханов Сергей Ильич (1762–1842) – обер-шталмейстер.
12 Марин Сергей Никифорович (1775–1813) – в 1801 г. подпоручик Преображенского полка; впоследствии флигель-адъютант Александра I; поэт. Декабрист М. А. Фонвизин писал: «Во внутреннем карауле Преображенского лейб-батальона стоял тогда поручик Марин. Услыша, что в замке происходит что-то необыкновенное, старые гренадеры, подозревая, что царю угрожает опасность, громко выражали свое подозрение и волновались. Одна минута, и Павел мог быть спасен ими. Но Марин не потерял присутствия духа, громко скомандовал; «Смирно! от ноги!» и во все время, когда заговорщики управлялись с Павлом, продержал своих гренадер под ружьем неподвижными: ни один не смел пошевелиться! Таково было действие дисциплины на русских солдат. В строю они становились машинами» (Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 11. Сочинения.– Иркутск, 1982, с. 143–144).
13 Ливен Карл Андреевич (1767–1844) – князь, генерал, в 1828 –1833 гг. министр народного просвещения.
14 Ушаков Николай Васильевич – в 1801 г. поручик лейб-гвардии Конного полка.
15 Тормасов Александр Петрович (1752–1819)–граф, генерал, участник войн с Наполеоном; в 1814–1819 гг. главнокомандующий, затем генерал-губернатор Москвы.
16 Штандарт (нем.) – полковое знамя.
17 Аргамаков Александр Васильевич см. с. 552; в 1812 г. командир 1-го егерского полка; поэт, двоюродный брат М. А. Фонвизина. М. А. Фонвизин писал: «В замке гарнизонная служба отправлялась, как в осажденной крепости, со всею точностью. После пробития зари весьма немногие доверенные особы, известные швейцару и дворцовым сторожам, допускались в замок по малому подъемному мостику, который опускался только для них. В числе этих немногих был адъютант лейб-батальона Преображенского полка Аргамаков, исправлявший должность плац-адъютанта замка. <…> Павел доверял Аргамакову, и даже ночью он мог входить в царскую спальню. Мостик для Аргамакова всегда опускался по его требованию. Чрез это Аргамаков сделался самым важным пособником заговора» (Ф о н в и з и н М. А. Сочинения и письма. Т. II, с. 140–141).
18 Кутайсов Иван Павлович (ок. 1759–1834) – граф, обер-шталмейстер, фаворит Павла 1.
[555]
19 …в левый висок императора…– Версия Саблукова совпадает с теми сведениями, которыми располагал М. А. Фонвизин: Зубов «держал в руке золотую табакерку и с размаху ударил ею Павла в висок – это было сигналом, по которому князь Яшвиль, Татаринов, Гарданов и Скарятин яростно бросились на него, вырвали из его рук шпагу; началась с ним отчаянная борьба. Павел был крепок и силен; его повалили на пол, били, топтали ногами, шпажным эфесом проломили ему голову и, наконец, задавили шарфом Скарятина» (Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. II, с. 142–143).
Н. Н. МУРАВЬЕВ
Записки
Печатаются с сокращениями по изданию: Русский архив, 1885, № 9-12.
1 Мордвинов Александр Николаевич (1792–1869) – сын Н. С. Мордвинова. В 1831–1839 гг. был управляющим III отделением Собственной его императорского величества канцелярии.
2 Муравьев Александр Николаевич (1792–1863) – участник Отечественной войны 1812 г., полковник Гвардейского генерального штаба, декабрист, член Союза благоденствия и один из основателей Союза спасения. Впоследствии генерал-лейтенант, нижегородский губернатор.
3 Волконский Петр Михайлович (1776–1852) – князь, генерал-фельдмаршал, министр двора и уделов. В 1801 г. был адъютантом великого князя Александра Павловича.
4 Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) – граф (с 1834), государственный деятель, адмирал. После падения М. М. Сперанского, с которым был дружен, находился в оппозиции. Декабристы предполагали ввести Мордвинова в состав конституционного правительства. Был привлечен к участию в суде над декабристами, однако отказался подписать смертный приговор. Отличался благородством и независимостью суждений.
5 Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793–1886)–декабрист, член Южного общества, майор Полтавского пехотного полка.
6 Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796–1826) – декабрист, член Южного общества, подполковник Черниговского полка. Казнен.
7 …на Охту…– река в Ленинградской области. При впадении Охты в Неву был расположен Охтенский пригород; после постройки моста через Неву он вошел в черту Петербурга.
8 Парголово – пригород Петербурга.
9 Н. Н.– Наталия Николаевна Мордвинова, дочь Н. С. Мордвинова.
10 Быки – так называлась маленькая пристань на Неве напротив Таврического дворца.
11 Урусов Александр Васильевич (1731–?) –князь, генерал-майор в отставке.
12 В числе частным образом у меня учившихся…– Речь идет о частной школе колонновожатых, которую возглавлял отец автора записок, Николай Николаевич Муравьев (1768–1840). Ф. Ф. Вигель писал: «Муравьев взялся образовать молодых дворян для пополне-
[556]
ния ими великого недостатка в офицерах, чувствуемого в генеральном штабе и по части артиллерийской и инженерной. Преподавая им высшие математические науки, он вселял в них и высокие чувства народной гордости» (В и г е л ь Ф. Ф., т. I, с. 346).
13 Муравьев Артамон Захарович (1794–1846) – впоследствии декабрист, полковник, командир Ахтырского гусарского полка, член Южного общества.
14 Муравьев Александр Захарович (1795–1842) – брат Артамона Муравьева. Впоследствии генерал-лейтенант.
15 Муравьев Захар Матвеевич (1759–1832) – отец Артамона и Александра Муравьевых.
16 Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – князь, генерал-фельдмаршал, участник войн с Наполеоном. Впоследствии новороссийский генерал-губернатор, наместник на Кавказе; командовал Отдельным кавказским корпусом.
17 Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761–1818) – князь, генерал-фельдмаршал, военный министр; в 1812 г. командовал 1-й Западной армией и русско-прусской армией.
18 Сестра их…– Екатерина Захаровна Муравьева. «По матери-немке была она двоюродною племянницей жене фельдмаршала Барклая и жила у тетки» (В и г е л ь Ф. Ф., т. II, с. 187).
19 Канкрин Егор Францевич (1774–1845)–граф; с 1823 г. министр финансов.
20 «Общественный договор».– В трактате Руссо «Об общественном договоре» сформулированы принципы народного суверенитета, высказана мысль о праве народа свергать тиранические режимы, разработана структура демократической республики, основанной на всеобщем равенстве.
21 Перовский Лев Алексеевич (1792–1856) – граф, государственный деятель, участник Отечественной войны 1812 г. С 1841 г. министр внутренних дел, с 1852 г. министр уделов.
22 Перовский Василий Алексеевич (1794–1857) – граф, генерал, участник Отечественной войны 1812 г. С 1818 г. адъютант великого князя Николая Павловича. С 1829 г. директор канцелярии морского штаба; в 1833–1842 гг. и в 1851–1857 гг. оренбургский военный губернатор. В 1812 г. был взят в плен французами. В 1814 г., находясь в Орлеане, пытался бежать из плена. См. об этом: Перовский В. А. Из записок.– Русский архив, 1865, № 3.
23 Кутайсов Александр Иванович (1784–1812) – граф, генерал-майор; в 1812 г. начальник артиллерии 1-й армии.
24 …песни Фингала.– Речь идет о «Сочинениях Оссиана, сына Фингала» (1765; рус. перевод отрывков –1788), написанных Дж. Макферсоном.
25 …в феврале месяце…– Александр I стал усиленно готовиться к войне в начале 1812 г., отклонив, однако, проекты наступательных действий. Русские войска были сосредоточены на границе, вдоль реки Неман. Они были разделены на две армии: первой командовал М. Б. Барклай-де-Толли, второй – П. И. Багратион. Александр I находился при войсках в г. Вильно (ныне Вильнюс).
26 Лядунка (ладунка) – патронташ, сумка для зарядов.
27 …не доезжая города Видзы…– город в Ковенской губернии.
28 Фольварок (фольварк; польск.) – небольшая усадьба, хутор.
[557]
89 Кантонист (нем.) – в первой половине XIX в. в России – солдатские сыновья, принадлежавшие военному ведомству с самого рождения.
30 Орлов Михаил Федорович (1788–1842) – участник Отечественной войны 1812 г., генерал-майор, декабрист, член Союза благоденствия. Участник литературного общества «Арзамас». Ф. Вигель писал, что М. Ф. Орлову, «исполненному доброты и благородства, ими дышащему, казалось мало собственного благополучия: он беспрестанно мечтал о счастии сограждан…» (Вигель Ф. Ф., т. II, с. 108).
31 Владимирский крест – орден св. Владимира, учрежденный в 1782 г. Екатериной II. Имел четыре степени, из которых двум старшим присвоена восьмиугольная звезда с обозначенным на ней девизом: «Польза, честь и слава». Орден давал право на приобретение потомственного дворянства.
32 Шталмейстер (нем.) – один из придворных чинов; буквально: начальник конюшни.
83 …Кастор, а его Поллукс…– В греческой мифологии Кастор и Поллукс – братья-близнецы, знаменитые своими подвигами и нерушимой дружбой.
34 Витгенштейн Петр Христианович (1768–1842) – князь, фельдмаршал, в 1812 г. командовал корпусом, в 1813 г.– русскими и прусскими войсками.
35 Багговут Карл Федорович (1761–1812) – генерал-лейтенант, командующий 2-м пехотным корпусом в армии Барклая-де-Толли в 1812 г.
36 Тучков Николай Алексеевич (1761–1812) – командир 3-го пехотного корпуса. Был смертельно ранен в Бородинском сражении.
37 Шувалов Павел Андреевич (1777–1823) – генерал-адъютант Александра I, генерал-лейтенант. В начале войны 1812 г. командовал 4-м пехотным корпусом, затем по болезни временно оставил армию.
38 Остерман-Толстой Александр Иванович (1770–1857) – граф, генерал, участник Отечественной войны 1812 г. По свидетельствам современников, Остермана-Толстого отличало сильное патриотическое чувство. У П. А. Вяземского есть такая запись: «„Для вас Россия – мундир ваш, а для меня моя кожа“,– сказал Остерман Паулуччи в войну 12-го года» (Вяземский П. А. Записные книжки.– М., 1963, с. 69). О Паулуччи см. прим. 53.
39 Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756–1816) – генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 г. В 1813 г. командующий войсками в Варшаве.
40 Кикин Петр Андреевич (1772–1834) – в 1812 г. дежурный генерал 1-й Западной армии; впоследствии статс-секретарь, сенатор.
41 Кантонир-квартиры – постоянные квартиры.
42 Бороздин Михаил Михайлович – в 1812 г. генерал-лейтенант, командующий 8-м пехотным корпусом. В ноябре 1812 г. назначен специальным уполномоченным по приведению в порядок армейского тыла.
43 Тормасов Александр Петрович (1752–1819) – граф, генерал от кавалерии. В 1812 г. командующий 3-й армией; московский генерал-губернатор.
44 Марков. По-видимому, Ираклий Иванович (1753–1829) – генерал-лейтенант. В 1812 г. был выбран московским дворянством на-
[558]
чальником ополчения вместо Кутузова. Привел Московское ополчение под Бородино и принимал участие во всех сражениях с французами.
45 Каменский Н. М. (1776–1811) – командующий 10-м корпусом и Дунайской армией.
43 Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) – адмирал.
47 …расположена была в Молдавии…– Эта армия была направлена в западные губернии для усиления 3-й Западной армии.
48 Платов Матвей Иванович (1751–1818) – граф, атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии, участник Отечественной войны 1812 г.
49 …кажется, стоял на Немане.– Генерал Платов занимал Белостокскую область. По распоряжению Александра I, которое последовало после переправы французской армии через Неман, Платов и Багратион отступили для соединения с 1-й армией.
60 Эртель Федор Федорович (1767–1825) – генерал от инфантерии; московский (1798–1800), потом петербургский обер-полицмейстер (1802–1808). В 1812 г. генерал-лейтенант, командир корпуса, собранного при Мозыре. В сентябре 1812 г. был подчинен П. В. Чичагову, который вскоре отстранил его от должности. В декабре 1812 г. назначен военным генерал-полицмейстером действующей армии (до 1815 г.).
51 Эссен Петр Кириллович (1772–1844) – граф, генерал от инфантерии; петербургский генерал-губернатор.
62 Митава – официальное название г. Елгава (Латв. ССР) до 1917 г.
63 Паулуччи Филипп Осипович (1779–1849) – маркиз, в 1807– 1829 гг. служил в русской армии, с 1819 г. губернатор Эстляндии, с 1821 г.– также Курляндии и Лифляндии.
54 Штенгель (Штейнгель) Фаддей Федорович (1762–1831) – граф, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Финляндии, командир отдельного Финляндского корпуса. В 1812 г. генерал-лейтенант; во главе 15-тысячного корпуса двинулся из Финляндии на помощь войскам, окруженным в Риге. В октябре присоединился к корпусу П. X. Витгенштейна.
55 …по одному имени солдаты не терпели…– Об этом пишут многие мемуаристы. Современники, как правило, неверно оценивали личность и профессиональные качества Барклая. Оттенок недоброжелательства к нему ощутим и в записках самого Н. Н. Муравьева. Барклай-де-Толли происходил из старинного шотландского рода, но его считали «немцем», как человека иноземного происхождения. Пушкин, по справедливости оценивая роль Барклая, все же отдавал предпочтение Кутузову, как выразителю патриотической идеи народных масс: «И мог ли Барклай-де-Толли совершить начатое им поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!» (Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т., т. 6.– М., 1976, с. 181–182).
66 …французы, переправившись через Неман, отрезали несколько корпусов <…> к отступлению.– Русские войска были действитель-
[559]
но расставлены на границе вдоль Немана на большом расстоянии. Ошибка эта была замечена Наполеоном, который с огромной армией переправился без объявления войны через Неман и отрезал одну от другой две армии – Барклая-де-Толли и Багратиона. Однако тактика отступления, принятая Барклаем, позволила ему без больших потерь дойти до Смоленска и там соединиться с армией Багратиона. Благодаря этой тактике Наполеон не успел разбить порознь русские армии.
57 Лунин Михаил Сергеевич (1787–1845) – декабрист, член Северного и Южного обществ; участник войн с Наполеоном. Подробнее о Лунине см. в записках И. Оже.
58 Лавров Николай Иванович (ум. 1822) – генерал от инфантерии. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир 5-го пехотного (гвардейского) корпуса.
69 Мыт – острая болезнь лошадей, сопровождающаяся лихорадкой и воспалением слизистой оболочки носоглотки.
80 Курута Дмитрий Дмитриевич (1770–1838) – граф, генерал; управлял двором Константина Павловича в Варшаве.
61 Тетери – народность, образованная из различных беглых людей, выходцев из среды приволжских финнов и чувашей. Здесь употреблено иносказательно; ближе всего по смыслу – оборванцы.
62 …мать его была сестра Михайлы Никитича Муравьева.– Мать М. С. Лунина, Феодосия Никитична (ум. 1792; урожд. Муравьева). Муравьев Михаил Никитич (1757–1807) – писатель и сановник, с 1803 г. товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета; отец будущих декабристов Никиты и Александра Муравьевых. По словам Вигеля, Муравьев «был примером всех добродетелей <…> Он вместе с Лагарпом находился при воспитании императора Александра, платил дань своему веку и мечтал о народной свободе, пока она была еще прекрасною мечтою <…>; кроткую душу его возмущало слово тиранство» (В и г е л ь Ф. Ф., т. II, с. 40).
63 Уваров Федор Александрович (ум. 1827) – муж Е. С. Уваровой, шурин М. С. Лунина.
64 …на его сестре.– Екатерине Сергеевне Луниной (1791–1861).
65 …за поединок с Белавиным…– Точных сведений о поединке нет. Об отставке Лунина см. в записках Ип. Оже.
66 …под Руднею…– Рудня – ныне город в Смоленской области.
67 Поречье – с 1918 г. город Демидов в Смоленской области.
68 Коновницын Петр Петрович (1764–1822) – граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В 1812 г. начальник арьергарда 2-й армии. В 1815–1819 гг. военный министр.
69 …удерживая всю французскую армию.– По распоряжению Наполеона, 2-ю армию Багратиона должен был преследовать Жером Бонапарт, который, однако, отстал от Багратиона, задержавшись в Гродно. Обе русские армии смогли соединиться только у Смоленска. Они насчитывали 120 тыс. человек, тогда как французская армия составляла приблизительно 200 000 (Ж и л и н П. А. Гибель наполеоновской армии в России,– М., 1974, с. 114–115). Сохранилась интересная запись П. А. Вяземского о его беседе с А. П. Ермоловым. «Говорили вчера про войну 1812 г.– По словам его, наши две армии чудом соединились под Смоленском – и Наполеон мог бы легко разбить нас поодиночке. Он читал отрывки из писем к нему Багратиона, во время отступления. Между прочим, пишет он, что если
[560]
будут продолжать отступление, он выйдет в отставку – ужасно поносит действия Барклая <…> При всем уважении к храбрости и к дарованиям Багратиона, Ермолов говорит, что ему нельзя было поручить предводительство армиею и что, и по соединении двух армий, мы не в силах были предпринять против неприятеля наступательные действия, что разделение на две армии было пагубное, особенно по несогласию и неприязни двух главнокомандующих» (В я з е м с к и й П. А. Записные книжки, с. 335–336).
70 Неверовский Дмитрий Петрович (1771–1813).– Дивизия Неверовского была почти уничтожена в Бородинском сражении. Неверовский принимал участие в заграничных походах. В битве под Лейпцигом был смертельно ранен.
71 Толь Карл Федорович (1777–1842) – граф, генерал от инфантерии, генерал-квартирмейстер Главного штаба, затем начальник штаба 1-й армии.
72 Колет (фр.) – короткий мундир из белого сукна.
73 Штуцер (нем.) – старинное нарезное ружье.
74 Редан (фр.) – полевое укрепление, имеющее форму выступающего наружу угла.
75 Цитадель (фр.) – сильно укрепленное сооружение внутри крепостной ограды и приспособленное к самостоятельной обороне.
76 …прославился в войну 1805 года против французов…– Во время русско-австрийско-французской войны 1805 г. Кутузов командовал русскими войсками в Австрии и искусным маневром предотвратил угрозу их окружения.
77 …Кутузов командовал Молдавскою армиею и, разбив турок, заключил с ними выгодный мир…– Кутузов командовал Молдавской армией во время русско-турецкой войны 1806–1812 гг., завершившейся подписанием Бухарестского мирного договора (май 1812), по которому Россия получила Бессарабию и ряд областей Закавказья.
78 Квартирьеры (нем.) – военнослужащие, посылаемые при передвижении войск вперед для подыскания квартир в населенных пунктах или для выбора бивачных мест.
79 …гораздо слабее неприятеля…– В Бородинском сражении 26 августа (7 сентября) 1812 г. участвовало 132 тысячи русских войск и 624 орудия против 135 тысяч французов и 587 орудий. Французы потеряли в сражении 58 тысяч человек, русские – 44 тысячи.
80 Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) – граф, генерал от инфантерии; в 1812 г. начальник авангарда Главной армии; впоследствии петербургский военный губернатор.
81 Эйлер Александр Христофорович (1779–1849) – генерал от артиллерии. В 1812 г. полковник артиллерии. При Тарутине командовал резервной артиллерией Главной армии.
82 Сысоев Василий Алексеевич.– В 1812 г. есаул Донского казачьего полка. В 1816 г. генерал-майор, командовал казаками в Грузии.
83 Шанцы (нем.) – здесь: окопы, траншеи.
84 Налой – то же, что пюпитр.
85 Георгиевский крест – орден святого великомученика и победоносца Георгия. Был учрежден в 1769 г. Екатериной II только для воинских чинов. Имел 4 степени. Награжденные этим орденом приобретали право на получение потомственного дворянства.
86 …«Вот восходит солнце Аустерлица!» – Наполеон рассчитывал одержать в Бородинском сражении такую же победу, как и при
[561]
Аустерлицком (20.XI.1805 г.), когда он разбил русско-австрийские войска под командованием М. И. Кутузова, принужденного действовать по неудачному плану австрийского генерала Ф. Вейротера, одобренному Александром I.
87 Сим подвигом Ермолов спас всю армию.– В своих «Записках» А. П. Ермолов писал: «Приближаясь ко 2-й армии, увидел я правое крыло ее на возвышении, которое входило в расположение корпуса Раевского. Оно было покрыто дымом <…> Я немедленно туда обратился. Гибельна была потеря времени, и я приказал из ближайшего корпуса Уфимского полка 3-му батальону майора Демидова идти за мною развернутым фронтом, думая остановить отступающих… Несмотря на крутизну всхода, приказал я егерским полкам и 3-му батальону Уфимского полка атаковать штыками… Бой яростный и ужасный не продолжался более получаса…» К этому эпизоду Ермолов сделал примечание: «Сверх того я имел в руке пук георгиевских лент со знаком отличия военного ордена, бросал вперед по нескольку из них, а множество стремилось за ними. Являлись примеры изумляющей неустрашимости» (Ермолов А. П. Записки, ч. I.– M., 1865, с. 197–198).
88 Орлов Алексей Федорович (1786–1861) – князь, впоследствии генерал-лейтенант, дипломат, в 1844–1853 гг. шеф жандармов и главный начальник III Отделения. Брат М. Ф. Орлова.
89 …король Неаполитанский…– то есть Мюрат.
90 Оленин Алексей Николаевич (1763–1843) – археолог и историк, директор Публичной библиотеки (с 1811 г.) в Петербурге, президент Академии художеств (с 1817 г.).
91 Васильчиков Илларион Васильевич (1776–1847) – князь, участник наполеоновских войн, генерал от кавалерии, командир Отдельного гвардейского корпуса; впоследствии председатель Государственного совета и Комитета министров.
92 Волков Александр Александрович (1778–1833) – с 1826 г. начальник Московского жандармского округа.
93 …Верещагина, которого приказал полицейским драгунам при себе изрубить палашами…– По словам А. Ф. Кони, свидетельства очевидцев этой истории носят противоречивый характер. Однако все сходятся в том, что убийство Верещагина было совершено если и не по прямому распоряжению Ростопчина, то с его ведома (см.: К о н и А. Ф. Психология и свидетельские показания.– «Новые идеи в философии», сб. 9.– СПб., с. 93–94). Михаил Верещагин (1790– 1812) – купеческий сын – был обвинен в том, что перевел из «Гамбургских известий» и распространял «Письма Наполеона к прусскому королю» и «Речи Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». Магистрат приговорил Верещагина к бессрочным работам в Нерчинске. 12 августа 1812 г. сенат утвердил приговор с дополнением, предложенным Ф. В. Ростопчиным, наказать Верещагина плетью. 6 ноября 1812 г. Александр I писал Ростопчину в связи с делом Верещагина: «Я был бы вполне доволен Вашим образом действий при этих, столь затруднительных, обстоятельствах, если бы не дело Верещагина, или, лучше сказать, не окончание этого дела. <…> Его казнь была не нужна, в особенности ее отнюдь не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше» (цит. по кн.: Пожар Москвы.– М., 1911, с. 87).
94 Винценгероде Фердинанд Федорович (1770–1818) – барон, австрийский и русский генерал, участник войн с Наполеоном.
95 …как сдача Вены.– После поражения австрийской армии французскими войсками при Ваграме (июль 1809 г.) Австрия заклю-
[562]
чила Шенбруннский мир, подписанный в октябре 1809 г. в Шенбруннском дворце в Вене.
96 Фланговый марш…– Советские историки полагают, что идея флангового марша, спасшего русскую армию, принадлежала Кутузову.
97 Муравьева (урожденная Колокольцева) Екатерина Федоровна – жена Михаила Никитича Муравьева.
98 …кавалерами ордена св. Анны 3-й степени на шпагу…– Кавалеры ордена св. Анны 3-й степени имели крест на шпажной чашке.
99 …ленточку Станислава польского ордена…– Орден учрежден в 1765 г. Станиславом Августом Понятовским. В 1831 г. причислен к орденам Российской империи. Давал право на приобретение потомственного дворянства.
100 …чувство мести за неистовства…– Отчасти в связи с этим М. И. Кутузов писал начальнику Главного штаба наполеоновской армии Бертье: «…весьма трудно удержать в пределах умеренности народ, уже 300 лет не знавший внутренней войны, готовый жертвовать собою за Отечество и неспособный различать, что принято или воспрещается в войнах обыкновенных» («Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», 1837, т. VI, № 22, с. 170).
101Французский генерал, приезжавший для переговоров о перемирии…– 23 сентября (5 октября) 1812 г. к Кутузову приезжал А. Лористон, генерал-адъютант Наполеона.
102 …спокойствием несчастного моего отечества…» – В донесении Александру I о свидании с Лористоном Кутузов писал: «Я бы был проклят, если бы на меня смотрели как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки: такова воля нашего народа» (см.: Богданович М. История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам. Т. II–СПб., 1860, с. 623).
103 …ожидали ежедневного ответа о мире.– Начальник штаба французской армии Луи Бертье передал 8 октября 1812 г. письмо Кутузову. От переговоров о мире Кутузов отказался.
104 Дорохов Иван Семенович (1762–1815) – генерал-лейтенант. Во время Отечественной войны 1812 г. командовал кавалерийским отрядом. Затем возглавил партизанский отряд, совершивший много удачных операций по уничтожению врага и его транспортов. 28 сентября 1812 г. отряд Дорохова освободил Верею. Сообщение Н. Н. Муравьева о том, что Верею взял М. Ф. Орлов, ошибочно.
105 Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775–1844) – генерал-адъютант. Под его командованием в Тарутинском сражении участвовало 10 казачьих полков.
106 …речке Чернышке…– Сражение произошло 6 (18) октября на реке Чернишне, севернее Тарутина.
107 Битва под Малоярославцем…– 12 (24) октября войска генералов Д. С. Дохтурова и Н. Н. Раевского сражались с наполеоновской армией, не допустили прорыва на Калугу и вынудили французов отступать по разоренной Смоленской дороге. Тем самым был выполнен стратегический план Кутузова.
108 …до города Красного.– 3–6 (15–18) ноября 1812 г. около г. Красного в Смоленской обл. русские войска нанесли тяжелые потери отступавшей наполеоновской армии.
109 …французы выступили из Москвы.– 11 (23) октября 1812 г.
110 Император французов хотел также подорвать колокольню Ивана Великого…– «Мортье получил приказание <…> зажечь Кремлевский дворец, казармы и все общественные здания, кроме Воспитательного дома, и взорвать Кремлевские стены <…>, и, за-
[563]
ложив мины под Кремлевскими башнями, вывести войска по Можайской дороге…» (Богданович М. История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам. Т. III.– СПб.. 1860, с. 8).
111 Ней Мишель (1769–1815) – герцог Эльхингенский, маршал Франции. Ней потерял большую часть своего корпуса в бою при местечке Лосмина 6 ноября 1812 г. Около тысячи уцелевших Ней привел в Оршу.
112 Вюртембергский Евгений (1788–1858) – принц, генерал от инфантерии. В начале Отечественной войны 1812 г. генерал-майор, начальник 4-й пехотной дивизии. В 1812 г. генерал-лейтенант, командующий 2-го пехотного корпуса.
113 Юрковский Анастасий Антонович (р. 1752) – генерал-лейтенант; в 1812 г. генерал-майор. Командовал авангардом в корпусе М. А. Милорадовича.
114 Репье Жан Луи (1771–1814) – граф, французский генерал; в 1812 г. командовал корпусом в войсках князя Шварценберга.
115 …и придвинулся к Борисову.– Дунайская армия Чичагова и корпус П. X. Витгенштейна соединились возле местечка Борисова 15 ноября 1812 г.
116 …обвиняют адмирала в пропуске Наполеона…– Чичагова критиковали за медлительность. Современный историк пишет: «…неизбежны были и недочеты. Особенно они проявились <…> при планировании и осуществлении взаимодействия между армиями. Наступление таких масштабов требовало строгой координации действий и целеустремленного использования всех сил, в том числе и армии Чичагова. Несогласованность в действиях армий в значительной степени объяснялась несовершенством средств управления войсками» (Ж и л и н П. А. Гибель наполеоновской армии в России.– М., 1974, с. 312).
117 …потеря их была несметная…– Историк М. И. Богданович писал: «На берегах Березины настал предел существованию «Великой армии». Последующее отступление ее остатков было не что иное, как бегство» (Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам. Т. III, с. 281). Пленных, убитых и раненых французов было около 30 тысяч из 40, сражавшихся у Березины.
118 Наполеон уехал…– Наполеон уехал в Париж 5 декабря 1812 г. Армия осталась на попечении Мюрата.
119 …у дяди Саблукова…– у Н. А. Саблукова.
120 …но старый мост был сожжен…– После переправы французской армии мосты через Березину были сожжены командой французского генерала Эбле (17 ноября 1812 г.).
121 Ожаровский Адам Петрович (1776–1855) – граф, генерал-адъютант, сенатор.
122 Так как уже не с кем было воевать…– Причина отъезда Кутузова была иная: к армии приехал великий князь Константин Павлович, и Кутузов должен был передать под его командование «гвардию, гренадерский корпус, обе кирасирские дивизии» (Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 г. …, т. III, с. 285). 29 ноября Кутузов приехал в Вильну.
123 Перовского – Льва Алексеевича.
124 Сен-При Эммануил Францевич (1776–1814) – граф; на русской службе в 1793–1799 и с 1805 г. Генерал-адъютант. В 1812 г. начальник штаба 2-й армии; в 1813 г. командир 8-го пехотного корпуса.
[564]
Ф. И. КОРБЕЛЕЦКИЙ
Французы в Москве
Печатается по изданию: Пожар Москвы.– М., 1911. Отрывок из книги: Корбелецкий Ф. И. Краткое повествование о вторжении французов в Москву и о пребывании их в оной, описанное с 31 августа по 27 сентября 1812 г. Ф. Корбелецким с присовокуплением собственного его странствования.– СПб., 1813.
1 По прибытии Наполеона в 2 часа пополудни к Поклонной горе…– Французские войска вошли в Москву 2 сентября 1812 г.
2 …от обер-коменданта…– Обязанности коменданта оккупированной французами Москвы исполнял генерал Антуан Дюронель (1771–1849).
3 Себастиани Орас де ла Порта (1775–1851) – маршал Франции.
4 Выя (арх.) – шея.
5 «Это Ростопчин жжет Москву, а не мы».– Французы утверждали, что московские пожары были инспирированы Ф. В. Ростопчиным. Ростопчин опровергал эту версию в своей книге «Правда о пожаре Москвы» (Париж, 1823; на фр. яз.).
6 Иван Акинфиевич Тутолмин – ошибка памяти мемуариста. Тутолмин Иван Васильевич (1751–1815) –директор московского Воспитательного дома, генерал-майор. Был принят в Кремле Наполеоном, который сказал ему: «Напишите вашему государю, что я желаю мира, и отправьте с донесением своего чиновника. Я прикажу провести его через форпосты» (см.: Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 г.., т. II, с. 320).
Е. Ф. КОМАРОВСКИЙ
Записки
Печатаются в извлечениях по изданию: Записки Е. Ф. Кемеровского.– СПб., 1914.
1 …отступать к Дриссе.– Ныне город Верхнедвинск. Около Дриссы, на реке Западной Двине, была создана, по неудачному плану прусского генерала К. А. Фуля, укрепленная позиция русских войск (Дрисский лагерь). Эта позиция была оставлена русскими войсками 2 (14) июля 1812 г.
2 Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837)–государственный деятель. В 1804–1809 гг. московский, затем петербургский обер-полицмейстер. С 1810 г. министр полиции. В 1819–1828 гг. генерал-губернатор центральных губерний России. Интересную характеристику Балашова написал Ф. Ф. Вигель: «Природа дала все Александру Дмитриевичу Балашову взамен приятности наружной, в которой отказала ему <…> В ученом смысле, как все тогда в России, получил он плохое образование; но, по мере возвышения в чинах и местах, более чувствовал он потребности в познаниях, кидал-
ся на них с жадностию и с быстротою все пожирал. <…> Он ростом был мал, только что не безобразен, и черты лица его были неблагородно выразительны; а когда послушаешь его немного, то начнешь и смотреть на него с удовольствием» (Вигель Ф. Ф., т. I, с. 316–317). Александр I писал к Наполеону в связи с переходом французскими войсками русской границы.
3 Толстой Петр Александрович (1761–1844) – граф, член Государственного совета.
4 Сегюр Филипп Поль (1780–1783) – граф, участник наполеоновских войн, писатель.
5 Давуст (Даву) Луи Никола (1770–1823) – маршал Франции, герцог Ауэрштедтский (1808), князь Экмюльский (1809). Участник революции и наполеоновских войн. В 1815 г., во время «Ста дней», был военным министром.
6 Бертье Александр (1753–1815) – маршал Наполеона.
7 Дюрок Жерар (1772–1813) – герцог Фриульский, маршал Наполеона.
8 Бесиер Жан Батист (1768–1813) – герцог Истрийскнй, маршал Наполеона.
9 Коленкур Арман Огюст Луи (1772–1821) – французский дипломат. С 1801 по 1810 г. был послом при русском дворе. После разрыва Наполеона с Александром уехал в испанскую армию. В 1812 г. сопровождал Наполеона в Россию и вместе с ним вернулся во Францию.
10 Пфуль Карл Людвиг Август (1757–1826) – барон, генерал; с 1826 г. на русской службе.
11 Ретирада (фр.) – отступление.
12 Мишо Александр Францевич (1771–1841) – граф. В 1805 г. перешел из сардинских войск в русскую службу. Участник кампаний 1812–1814 гг. Генерал от инфантерии; генерал-адъютант.
13 Шишков Александр Семенович (1754–1841) – адмирал; с 1812 г. государственный секретарь. В 1814 г. член Государственного совета. В 1824–1828 гг. министр народного просвещения. Член Российской Академии. О Шишкове см. в «Записках» Ф. Ф. Вигеля.
14 Архиепископ Августин.– Августин (до пострижения А. В. Виноградский; 1766–1819) – архиепископ московский.
15 Дибич-Забалканский Иван Иванович (1785–1831) – генерал-фельдмаршал (1829), граф (1827). В 1813–1814 гг. начальник штаба русско-прусских войск. С 1823 г. начальник Главного штаба. Главнокомандующий во время русско-турецкой войны (1829) и при подавлении Польского восстания 1830–1831 гг.
16 …крепостного коменданта…– то есть коменданта Петропавловской крепости.
17 Куракин Алексей Борисович (1759–1829)–генерал-прокурор при Павле I. Министр внутренних дел при Александре I. Председатель Государственного совета при Николае I.
18 Жителей <…> погибло на Петербургской стороне до 90 душ обоего пола.– Как указывал очевидец событий С. Адлер, «в Петербурге и уезде оного в день наводнения погибло 480 человек, разрушено и снесено домов и строений 462…» (цит. по кн.: Пушкин А. С. Медный всадник.–Л., 1978, с. 115).
19 Снетки – разновидность сушеной рыбы.
20 Швальня – портняжная комната, заведение, где шьют.
[566]
Е. Ф. ФОН-БРАДКЕ
Автобиографические записки
Печатаются в извлечениях по изданию: Русский архив, 1875, № 1.
Ф. И. Тимирязев, принимавший участие в издании записок Е. Ф. фон-Брадке, писал, что его «рассказ носит на себе характер исторической правды. Лица, им описываемые, не выставляются только в образе его доброжелателей и друзей или недругов и завистников, а просто изображаются такими, какими он представлял их себе в то время, в непосредственной связи с обстоятельствами и обстановкою того времени. <…> Но самою занимательною частью этого рассказа, по нашему мнению, должно считать описание деятельности автора в военных поселениях, его отношений к графу Аракчееву и правдиво очерченный им образ знаменитого временщика» («Рус. архив», 1875, № 3, с. 293–294).
1 Он был арестован лично государем за какой-то промах по фронту.– В 1818 г. А. Н. Муравьев был арестован Александром I за ошибку, допущенную на параде. После этого Муравьев вышел в отставку. См.: Муравьев А. Н. Записки.– В кн.: Декабристы. Новые материалы.– М., 1955, с. 148.
2 И сам Муравьев, весьма деятельный член Союза благоденствия, отступился решительно от этого Союза при его дальнейшем развитии…– А. Н. Муравьев был инициатором создания первого тайного политического общества в России. Он возглавлял Союз спасения и был членом Союза благоденствия. Разногласия Муравьева с некоторыми членами организации, а также длительное бездействие тайных обществ, побудили Муравьева оставить их в 1819 г. (см.: Декабристы. Новые материалы, с. 149).
3 Затем был он губернатором в Архангельске…– В Новгороде.
4 Он старший брат бывшего командира Закавказья…– Н. Н. Муравьева.
5 …другой брат – министр государственных имуществ.– Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866) занимал этот пост в 1857– 1861 гг.
6 …пиетистическим направлением.– Пиетизм (лат.) – набожность, строгое благочестие.
7 …к графу…– к Аракчееву.
8 …в судьбах России.– Вот как Н. А. Саблуков пишет о внешности Аракчеева: «По наружности Аракчеев походил на большую обезьяну в мундире. Он был высокого роста, худощав и мускулист, с виду сутуловат, с длинной тонкой шеей, на которой можно было бы изучать анатомию жил и мускулов <…> В довершение того он как-то особенно сморщивал подбородок, двигая им как бы в судорогах. Уши у него были большие, мясистые; толстая безобразная голова, всегда несколько склоненная набок. Цвет лица был у него земляной, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, большой рот и нависший лоб. Чтобы закончить его портрет, скажу, что глаза у него были впалые, серые, и вся физиономия его представляла страшную смесь ума и злости» (Саблуков Н. А. Записки, с. 35). Интересна характеристика другого современника: «В кроткое царствование Александра такие люди казались невозможны; этот умел сделаться необходим и всемогущ. Сначала был он употреблен
[567]
им как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание всей армии и под конец как мщение всему русскому народу» (В и г е л ь Ф. Ф., т. I, с. 282).
9 …линии построек…– то есть военных поселений.
10 Геснер Соломон (1730–1788) – швейцарский поэт и художник. Писал на немецком языке. Автор идиллий.
11 Львов Алексей Федорович (1798–1870) – скрипач, композитор, дирижер. Окончил Петербургский институт инженеров транспорта (1818).
12 …совершенно преобразовал…– В 1799 г. Павел I назначил Аракчеева инспектором всей артиллерии. В том же году осенью Павел отставил его от службы. В мае 1803 г. Аракчеев был назначен Александром I на прежнее место. Аракчеев принимал меры для повышения уровня специального образования артиллерийских офицеров, привел в порядок и несколько улучшил материальную часть. Об этом же пишет и Н. А. Саблуков (с. 36). Скорее всего преувеличенная репутация преобразователя артиллерии связана с занимаемым Аракчеевым постом.
13 Лопухин Петр Васильевич (1753–1827) – князь, с 1816 г. председатель Государственного совета и Комитета министров. Председатель Верховного уголовного суда над декабристами.
14 …были неограниченны и безмерны…– А. И. Герцен писал: «Канцелярия Аракчеева была вроде тех медных рудников, куда работников посылают только на несколько месяцев, потому что если оставить долее, то они мрут» (Герцен А. И. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. VIII.–М„ 1956, с. 236).
15 …некогда была его любовницею…– «Любовница Аракчеева, шестидесятилетнего старика, его крепостная девка, теснила дворню, дралась, ябедничала, а граф порол по ее доносам. Когда всякая мера терпения была перейдена, повар ее зарезал» (Герцен А. И. Собр. соч.. т. IX.–М., 1956, с. 88).
ИППОЛИТ ОЖЕ
Из записок
Печатается в извлечениях по изданию: Русский архив, 1877, № 3. Перевод с французского.
1 Он был в Париже в 1814 году…– М. С. Лунин участвовал во всех главных сражениях Отечественной войны 1812 г. и в заграничных походах русской армии.
2 Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848) – французский писатель-романтик и политический деятель.
3 Боссюэ Жан Бенинь (1627–1704) – французский писатель, проповедник и богослов.
4 …об Иоанне д'Арк…– Речь идет о поэме Вольтера «Орлеанская девственница».
5 Парни Эварист Дезире де Фореш (1753–1814) – французский поэт; писал стихи в анакреонтическом духе.
6 Мы… потомки Екатерины П.– Как указывает Н. Я. Эйдельман, в рукописи И. Оже слова Лунина приведены иначе: «Мы – ублюдки
[568]
Екатерины II» (здесь и далее поправки к тексту И. Оже, опубликованному «Русским архивом», приводятся по кн.: Эйдельман Н. Лунин.–М., 1970, с. 37).
7 …вошел ее муж.– Ф. А. Уваров.
8 …со своим капитаном…– Николаем Евреиновым, который был одним из тех, кто уговорил И. Оже уехать в Россию.
9 Тальма Франсуа Жозеф (1763–1826) – французский актер.
10 …в «Проделках Скапена»…– в комедии Ж. Б. Мольера.
11 …будет начальник…– В рукописи: «идиот» (Эйдельман Н., с. 40).
12 Прочь, обязательная служба! – В рукописи: «Прочь, существование ненужной твари!» (Эйдельман Н., с. 40).
13 Волонтер (фр.) – доброволец.
14 Ленорман Мария Анна Аделаида (1772–1843) – известная в то время французская гадательница на картах. По преданию, точно предсказала судьбу Наполеона.
15 …выйти в отставку.– Лунин был уволен от службы повелением Александра I 14 сентября 1815 г.
16 Вобан Себастьян Ле Претр де (1633–1707) – маршал Франции, один из лучших военных инженеров своего времени. Автор сочинений по военно-инженерному делу.
17 …остров Голанд…– Остров Гельголанд в Северном море; ныне на территории ФРГ.
18 Ревель – ныне Таллин.
19 Рангоут (голл.) – все то, что находится над палубой (мачты, реи и пр.).
20 …читали вслух «Валерию» Крюднер…– Крюднер (урожд. Фитингоф) Варвара Юлия (1764–1825)–баронесса, французская писательница, автор популярного в свое время романа «Валерия» и др. сочинений.
21 Зунд – немецкое название пролива Эресунн, соединяющего Балтийское море с проливом Каттегат, между Скандинавским полуостровом и островом Зеландия.
Н. И. ТУРГЕНЕВ
Россия и русские
Печатается с сокращениями по изданию: Тургенев Н. И. Россия и русские. Т. I. Воспоминания изгнанника.– М., 1915. Пер. с французского Н. И. Соболевского. При подготовке настоящего издания частично использованы прим. А. А. Кизеветтера к книге Н. И. Тургенева.
1 …Эрфуртского свидания…– Речь идет о секретной Эрфуртской союзной конвенции между Россией и Францией, выработанной в ходе переговоров Александра I и Наполеона в Эрфурте (15 сентября – 2 октября 1808 г.).
2 Новая война с Австрией…– Австро-французская война 1809 г., в результате которой Австрия стала зависимым от Франции государством.
[569]
3 …занятие герцогства Ольденбургского…– в Германии Наполеон захватил герцогство Ольденбургское. Это было сделано без соглашения с Россией и вопреки воле Александра I. Один из герцогов Ольденбургских был женат на тетке Александра, другой – на его сестре – великой княгине Екатерине Павловне.
4 Ссора, происшедшая между русским и французским посланниками…– Русским посланником в Неаполе был Сергей Николаевич Долгорукий (1780–1830).
5 Иоахим – Мюрат.
6 Румянцев Николай Петрович (1754–1826) – старший сын фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. С 1807 г. был министром иностранных дел, с 1809 г.– канцлер. Вступление Наполеона в Россию так потрясло Румянцева, что с ним сделался апоплексический удар.
7 …мир с Турцией после довольно славной кампании…– Русско-турецкая война в 1806–1812 гг. завершилась Бухарестским миром.
8 …один несчастный епископ…– Варлаам Шишацкий (ум. 1821), епископ волынский, с 1805 г. архиепископ могилевский. По недостатку мужества принес в своем кафедральном соборе присягу Наполеону. За это был лишен сана и сослан простым монахом в Новгород-Северский монастырь.
9 Ектенья (греч.) – совокупность молитв, читаемых дьяконом или священником при каждом богослужении от имени верующих и содержащих просьбы и обращения к богу.
10 …и оставил там надпись…– В селе Воронове, в имении Ростопчина, к церковной двери была прикреплена записка на французском языке: «Восемь лет украшал я это село, в котором наслаждался счастием среди моей семьи. При вашем приближении обыватели, в числе 1720, покидают жилища, а я предаю огню дом свой, чтобы он не был осквернен вашим присутствием. Французы! В Москве оставил я вам два моих дома и движимости на полмиллиона рублей: здесь вы найдете только пепел» (Ростопчин Ф. В. Сочинения.–СПб., 1853, с. 197–198).
11 …проект воздушного шара…– «Еще в то время, когда Наполеонова Большая армия подходила к Смоленску, явился к московскому главнокомандующему уроженец голландский Смид (Франц Леппих), предложивший построить огромный воздушный шар, который, по уверению изобретателя, мог быть вооружен огнестрельными снарядами вроде боевых ракет и послужить к истреблению неприятеля <…> Множество рабочих и работниц занимались этим делом под руководством Смида в селе Воронове <…> Сам государь в письме к московскому военному губернатору повелел оказывать Леппиху все нужные пособия, составить для шара экипаж из способных и усердных людей и войти в сношения с князем Кутузовым насчет употребления летучей машины. <…> Небольшой шар действительно поднялся <…>; самая же машина упорно оставалась на месте…» (Богданович М. История Отечественной войны 1812 года, т. II, с. 264–265).
12 …выпустить в Париже брошюру…– Брошюра «Правда о пожаре Москвы» была издана Ростопчиным в 1823 г. в Париже на французском языке.
13 …«афишки», выпущенные Ростопчиным…– Героем этих афишек был продавец вина (целовальник) Корнюшка Чихирин. Эти
[570]
афишки, напечатанные в газете «Московские новости», вывешивались в людных местах города.
14 …там оставалось едва 60 тысяч…– Накануне вступления Наполеона в Москву в городе было 198 914 жителей. Ростопчин же сообщал Кутузову, что в начале пребывания в Москве Наполеона число жителей было около 10 тысяч, а в конце – не более трех (Богданович М. История Отечественной войны 1812 года…, т. II, с. 273).
15 Штейн Генрих Фридрих Карл (1757–1821) – имперский барон, немецкий государственный деятель. В 1804–1807 гг. министр прусского правительства. Строил планы обновления немецкой армии после ее поражения в 1806 г. В ноябре 1808 г. под давлением Наполеона, опасавшегося усиления Пруссии, уволен в отставку. В мае 1812 г. по приглашению Александра I прибыл в Россию. В 1813–1814 гг. руководил центральной комиссией по управлению освобожденными территориями Германии.
16 Констан Ребек Бенжамен Анри де (1767–1830) – французский писатель, публицист.
17 Макинтош. Джеймс (1765–1832) – английский публицист, историк, философ. Защитник Французской революции.
18 Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) – французская писательница. В 1803 г. была изгнана Наполеоном из Франции за оппозиционные настроения. В 1812 г. была в России.
19 Дав конституцию царству Польскому…– Александр I стремился соединить польские области под своей властью в единое государство с Россией. Он получил после Венского конгресса почти все герцогство Варшавское под именем «Царства Польского», но уступил Познань Пруссии и Галицию Австрии. Получив «Царство Польское» и присоединив его к Российской империи, Александр дал его населению особое политическое устройство, названное «учредительной хартией» 1815 г. В силу этой конституционной хартии царство Польское становилось как бы особым государством, со своей особой армией и получало представительный образ правления. Власть исполнительная поручалась «совету» министров под председательством наместника «Царства Польского».
20 Чарторижский (Чарторыйский) Адам (1770–1861) – князь, польский и русский государственный деятель, член Негласного комитета.
21 …польскому генералу.– Иосифу Зайончеку (1752–1826). Зайончек сражался под началом Костюшко, потом перешел на службу к Франции и участвовал в походах Наполеона. В 1812 г. был взят в плен. В 1815 г. Александр I назначил его наместником в царстве Польском и возвел в княжеское достоинство.
22 Новосильцев Николай Николаевич (1768–1838) – граф, государственный деятель. С 1813 г. фактически управлял Польшей, проявляя при этом жестокость.
23 …представителем той Праги, над которой реяли кровавые воспоминания.– Речь идет о штурме Праги, укрепленного предместья Варшавы, взятого А. В. Суворовым в октябре 1794 г.
24 …Орлов составил нечто вроде протеста против учреждений, которые Александр только что даровал Польше…– М. Ф. Орлов, пишет М. О. Гершензон, «составил записку к государю, направленную против эмансипации Польши, и начал собирать подписи в кругу генералов и сановников. Император, узнав заблаговременно об этом предприятии, призвал Орлова и потребовал составленную им записку; Орлов, конечно, не желая выдавать тех, кто подписался под
[571]
нею, отказался представить ее, заявив, по-видимому, что она у него пропала» (Г е р ш е н з о н М. О. История молодой России.– М.–Пг., 1923, с. 12).
25 Самодержец действительно велел выработать проект конституции для своей империи.– По-видимому, речь идет о «Государственной уставной грамоте Российской империи», опубликованной в приложениях к книге Н. К. Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование», т. IV (СПб., 1905, с. 499–526).
26 Панин Никита Петрович.
27 Вскоре по возвращении в Россию я издал сочинение «Опыт теории налогов».– СПб., 1818.
28 Тутолмин Иван Васильевич (ум. 1838) – член Государственного совета.
29 Потоцкий Северин Осипович (1762–1829) – граф, член Негласного комитета, сенатор, попечитель Харьковского учебного округа, член Государственного совета.
30 Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) – князь, декабрист. Участник Отечественной войны 1812 г. Один из организаторов Союза спасения и Союза благоденствия; один из руководителей Северного общества. Был избран диктатором восстания. Приговорен к вечной каторге.
31 …когда мы были раз у ***…– Вероятно, у М. Ф. Орлова.
32 …вошел его брат…– А. Ф. Орлов. О «геркулесовых» мышцах Алексея Орлова упоминают многие мемуаристы, в их числе Ф. Вигель (т. II, с. 109).
33 Филанджиери Гаэтано (1752–1788) – итальянский просветитель, юрист, экономист, публицист. Основная его работа – «Наука законодательства» (1780–1785). В ней Филанджиери критиковал феодальные порядки и требовал отмены феодальных повинностей.
34 Сарториус Георг Вальтерсгаузен фон (1765–1828) – немецкий историк, профессор Геттингенского университета.
35 Миттермайер Карл (1787–1867) – немецкий криминалист. С 1809 г. профессор Лансгутского, с 1821-го – Гейдельбергского университета.
36 Генерал ***…– А. П. Ермолов.
37 …от своего брата…– А. Ф. Орлова.
38 «Бронзовый век» – политическая сатира Байрона, написанная в 1823 г. Поводом для ее создания был конгресс Священного союза в Вероне (1822), который принял решение, направленное на подавление революционных движений во всей Европе. Европейской реакции Байрон противопоставил борьбу народных масс.
39 …министру финансов…– Министром финансов в 1823–1844 гг. был Евграф Францевич Канкрин. В 1839–1843 гг. он провел финансовую реформу. Добился бездефицитности государственных бюджетов, временно укрепил финансы России.
40 Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862) – граф, с 1845 г. канцлер, в 1816–1856 гг. министр иностранных дел.
41 «Минерва» – ежемесячный журнал российской и иностранной словесности. Издавался в Москве в 1806–1807 гг.
42 …граф Ч.–Чернышев Александр Иванович (1785/1786– 1857) – член Следственной комиссии, с 1826 г. граф, светлейший князь (1849), генерал от кавалерии (1826). В 1832–1852 военный министр.
[572]
43 Кадастр (фр.) – систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим объектом.
44 Фиск (лат.) – государственная казна.
45 …городовое положение Екатерины II…– В 1785 г. Екатерина II дала грамоту городам, установившую новое «городовое положение». Подобно дворянам городовые обыватели составляют «городское общество», владеющее общим городским имуществом и обладающее правом собраний. На этих собраниях горожане избирали себе городского голову и должностных лиц, обсуждали свои дела и нужды и имели право обращаться по своим делам к губернатору. Однако «городовое положение» не дало заметных результатов.
46 Его жена…– Екатерина Захаровна (урожд. Муравьева), сестра декабриста Артамона Муравьева.
47 Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – граф, государственный деятель. С 1808 г. ближайший советник Александра I, автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного совета (1810). В 1812–1816 гг. был в ссылке. В 1819–1821 гг. генерал-губернатор Сибири. С 1826 г. возглавил 2-е Отделение, кодифицировал законы.
48 …гражданских и уголовных дел.– Этот департамент назывался департаментом гражданских и духовных дел.
49 Куракин Алексей Борисович.– В заметке об А. Б. Куракине Н. И. Тургенев писал, что в царствование Павла I Куракин «защищал то мнение, что привилегии дворянства не могут препятствовать подверганию дворян наказанию кнутом, утверждая, что для законного применения к дворянам этой кары надо только лишать их предварительно дворянского звания» (Тургенев Н. И. Россия и русские, с. 376).
50 Салтыков Александр Николаевич – князь, товарищ министра иностранных дел. Сын фельдмаршала Н. И. Салтыкова. Участник «Арзамаса».
61 Я сам участвовал в одном литературном обществе…– В «Арзамасе».
52 …составитель донесения Следственной комиссии…– Автор донесения Следственной комиссии по делу декабристов – Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864). Благодаря участию в 1826 г. в Следственной комиссии Блудов сделал блестящую карьеру. С 1842 г. граф, в 1860-е гг. председатель Государственного совета и Комитета министров, в 1832–1839 гг. министр внутренних дел. В 1855–1864 гг. президент Академии наук. Так что услуги Блудова, как и многих других, были вознаграждены с лихвой.
53 …Михаил Орлов, вступил в это литературное общество.– М. Ф. Орлов стал членом «Арзамаса» 22 апреля 1817 г. (под прозвищем Рейн).
54 …он выступил с серьезной речью…– Орлов предлагал преобразовать общество, дав ему серьезное направление. Он говорил арзамасцам, в частности, что ждет «того счастливого дня, когда общим вашим согласием определите нашему обществу цель, достойнейшую ваших дарований и теплой любви к стране русской. <…> Тогда-то просияет между нами луч отечественности и начнется для Арзамаса тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный пуризм предрассудков за пределы Европы» (цит. по изд.: «Их вечен с вольностью союз». Лите-
[573]
ратурная критика и публицистика декабристов.– М., 1983, с. 196–197).
55 …нечто вроде восстания…– Восстание Семеновского полка в 1820 г.
58 …нового полковника…– Ф. Е. Шварца, проявлявшего крайнюю жестокость по отношению к подчиненным.
57 …были преданы военному суду и осуждены…– Несколько офицеров было приговорено к смертной казни, замененной разжалованием в солдаты и ссылкой (см.: Штрайх С. Я. Брожение в армии при Александре I. К столетию восстания декабристов.– П., 1922).
58 Прозелит (гр.) – новый горячий приверженец какого-либо учения или движения.
69 …всем безземельным.– Как указывает А. А. Кизеветтер: «По «Русской правде» Пестеля, волостные земельные фонды составляются не только из казенных земель, но и путем принудительного отчуждения части частновладельческих земель» (с. 130),
С. В. СКАЛОН
Воспоминания
Пятая глава из воспоминаний С. В. Скалон печатается по изданию: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. I.– М., 1931. При подготовке издания использован комментарий Ю. Г. Оксмана к воспоминаниям С. В. Скалон.
1 …брат мой Алексей…– Капнист Алексей Васильевич (1796– 1867)–подполковник Воронежского пехотного полка, член Союза благоденствия. Был арестован в январе 1826 г. После четырехмесячного заключения в Петропавловской крепости был освобожден «со вменением ареста в наказание».
2 …особенно мать…– Капнист Александра Алексеевна (урожд. Дьякова; ум. 1807).
3 Капнист Петр Николаевич (1796–1860-е гг.) – отставной полковник кавалергардского полка.
4 Репнин Николай Григорьевич – князь, генерал-адъютант, малороссийский генерал-губернатор в 1816–1834 гг.
5 …отца своего…– Муравьева-Апостола Ивана Матвеевича (1762–1851), сенатора и писателя.
6 …после несчастной истории лейб-гвардии Семеновского полка…– Об этой истории см. прим. к воспоминаниям Н. И. Тургенева. С. И. Муравьев-Апостол после восстания Семеновского полка был отправлен в армию – сначала в Полтавский, затем – в Черниговский полк.
7 …писем его…– Эти письма были опубликованы в журнале «Русский архив», 1887, № 1.
8 Муравьев-Апостол Ипполит Иванович (1806–1826) – прапорщик квартирмейстерской части, член Северного общества, участник восстания Черниговского полка. Застрелился 3 января 1826 г., не желая сдаваться в плен.
9 Капнист Семен Васильевич (1791–1843)–поэт, член Союза благоденствия. Привлечен к дознанию не был.
[574]
10 Экосез (фр.) – старинный шотландский танец.
11 …не существовал уже более…– В. В. Капнист умер 28.Х (9.XI) 1823 г.
12 Капнист София Николаевна – племянница В. В. Капниста.
13 Капнист Надежда Николаевна – племянница В. В. Капниста.
14 Капнист Петр Васильевич (ум. 1826) – отставной прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка; брат В. В. Капниста.
15 Брат Иван…– Капнист Иван Васильевич (1794–1860) – в 1844–1855 гг. московский губернатор. Сенатор.
16 Лорер Николай Иванович (1795–1873) –майор Вятского пехотного полка, член Южного общества. Воспитывался у П. В. Капниста вместе с его сыном Ильей Петровичем.
17 Троицын день – праздник святой Троицы, установленный церковью в честь одного из основных христианских догматов. Троица – триипостасное единство – отец, сын и святой дух.
18 Врангель Егор Петрович (1800–1873) – штабс-капитан, адъютант начальника штаба 4-го пехотного корпуса; позднее попечитель Виленского учебного округа.
19 Красовский Афанасий Иванович – генерал-майор, начальник штаба 4-го пехотного корпуса.
20 …брат Алексей наконец оправдан…– Ю. Г. Оксман пишет: «Сводка судебно-следственных данных об А. Капнисте в «Алфавите декабристов» позволяет уяснить причины его затянувшегося заключения в Петропавловской крепости, несмотря на выяснившуюся непричастность его к работе тайных организаций после 1821 г.: «Принадлежал к Союзу благоденствия, в чем сначала не признавался, но потом, повинившись, присовокупил и то, что однажды Бестужев-Рюмин предложил ему войти в Южное общество, сказав: «Хотите быть нашим?», и что он с негодованием отказался от того. Бестужев и Сергей Муравьев подтвердили сие, а другие показали, что с 1821 г. он совершенно переменил свой образ мыслей и потому никто не старался возобновить с ним сношений по Обществу. По высочайшему повелению 15 апреля <1826 г.> освобожден…» (с. 417).
21 Пудермантель (пудромантель) – род накидки, полотняного плаща, рубашки, которую надевали, когда пудрились.
22 Башуцкий Павел Яковлевич (1771–1836)–генерал от инфантерии, Санкт-Петербургский комендант.
23 Державина Дарья Алексеевна (урожд. Дьякова; 1766– 1842) –вторая жена Г. Р. Державина.
24 …в Петропавловский собор…– Там хоронили русских императоров.
25 Бибикова Екатерина Ивановна (урожд. Муравьева-Апостол) – сестра декабристов. Ю. Г. Оксман писал: «Предсмертное свидание С. И. Муравьева-Апостола с сестрою, Е. И. Бибиковой, о котором упоминает С. В. Капнист <Скалон>, было разрешено Николаем I после получения следующего прошения: «Государь! Я только что узнала, что мой брат Сергей присужден к высшему наказанию. Приговора я не видела, и сердце мое отказывается ему верить.– Но если все же такова его несчастная участь, то благоволите разрешить мне видеть его в последний раз, хотя бы для того, чтобы я имела утешение выслушать его последние пожелания моему несчастному отцу. Прошу еще об одной милости, государь,– не откажите мне в ней ра-
[575]
ди бога. Если к моему вечному горю слух подтвердится, прикажите выдать мне его смертные останки. <…> Вторник, 12 июля». Свидание было дано за несколько часов до казни, в выдаче же сестре казненного царь отказал» (с. 417–418).
А. В. ПОДЖИО
Записки
Печатаются с сокращениями по изданию: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. I.– М., 1931. При подготовке издания использован комментарий С. Я. Гессена к «Запискам» А. В. Поджио.
1 Десятого июля 1826 года…– Приговор был объявлен декабристам 12 июля 1826 г.
2 Сукин Александр Яковлевич (1765–1837) – генерал от инфантерии, комендант Петропавловской крепости.
3 Оболенский Евгений Петрович (1796–1865) – поручик лейб-гвардии Финляндского полка, член Союза благоденствия и Северного общества.
4 Барятинский Александр Петрович (1798–1844) – князь, штаб-ротмистр, адъютант главнокомандующего 2-й армией, член Южного общества.
5 Якубович Александр Иванович (1792–1845) – капитан Нижегородского драгунского полка. Формально не был членом тайного общества, но принимал деятельное участие в подготовке к восстанию.
6 Вадковский Федор Федорович (1800–1844) – прапорщик Нежинского конно-егерского полка, член Северного и Южного обществ.
7 …братья Борисовы…– Андрей Иванович (1798–1854) – отставной подпоручик 8-й артиллерийской бригады, вождь Общества соединенных славян; его брат Петр Иванович (1800–1854) – подпоручик 8-й артиллерийской бригады, основатель и деятельный член того же общества.
8 Горбачевский Иван Иванович (1800–1869) – подпоручик 8-й артиллерийской бригады, член Общества соединенных славян и Южного общества.
9 Спиридов Михаил Матвеевич (1796–1854) – майор Пензенского пехотного полка, член Общества соединенных славян.
10 Бесчасный (Бесчаснов, Бесчастнов) Владимир Александрович (1802–1859) –прапорщик 8-й артиллерийской бригады, член Общества соединенных славян.
11 Божанов Василий Борисович (1800–1883) – священник, профессор богословия Санкт-Петербургского университета и придворный проповедник. Как указывал С. Я. Гессен, А. В. Поджио ошибся, назвав Божанова. Священником был П. Н. Мысловский (1777–1846).
12 Татищев Александр Иванович (1763–1833) – генерал от инфантерии, военный министр, председатель Следственной комиссии.
13 Михаил Павлович (1798–1848) – великий князь; был одним
[576]
из членов Следственной комиссии. По его ходатайству В. К. Кюхельбекеру заменили смертную казнь двадцатью годами каторги.
14 Голицын Александр Николаевич (1773–1844) – министр духовных дел и народного просвещения в 1816–1824 гг.; директор почт-департамента, член Верховного уголовного суда над декабристами.
15 Кутузов Павел Васильевич – см.: Голенищев-Кутузов П. В.
16 …заговорщик… в убийстве отца…– Речь идет об убийстве Павла I.
17 Сын убитого отца…– То есть великий князь Михаил Павлович.
18 Потапов Алексей Николаевич – дежурный генерал Главного штаба, член Следственной комиссии.
19 …на тот же ход следствия.– Как указывает С. Гессен, «характеристики Следственной комиссии и ее членов, в частности, А. И. Чернышева, вполне согласуются с отзывами других декабристов» (с. 85–86).
20 Вилльмен Франсуа (1790–1870) – французский критик и историк литературы.
21 Бром Генри (1788–1868) – английский либеральный публицист и государственный деятель.
22 Чугуевский бунт – восстание военнопоселенцев Чугуевского полка на Слободской Украине в июне – августе 1819 г. Восставшие требовали ликвидировать военные поселения, захватили земли, изгнали начальство. Восстание было подавлено войсками.
23 Поливанов Иван Юрьевич (1797–1826) – основной полковник кавалергардского полка, член Северного общества.
24 Булатов Александр Михайлович (1793–1826) – полковник, член Северного общества. Покончил с собой в Петропавловской крепости.
26 Он вскоре скончался. – С. Гессен пишет: «О тяжелых условиях и их влиянии на здоровье и психику заключенных вспоминают многие декабристы. Мартиролог жертв тюремного режима лишь по счастливому случаю ограничился именами И. Ю. Поливанова и А. М. Булатова. В крепости свирепствовали различные болезни: воспаление легких, тиф, цинга, падучая. Много было попыток самоубийства. Многие пережили острое нервное расстройство, граничащее с умопомешательством» (с. 87).
26 …судить военным судом…– С. Гессен указывает, что Поджио «был доставлен в Петропавловскую крепость при записке Николая: „Присылаемого Поджио содержать под строжайшим арестом, где удобнее“» (с. 87).
27 Стрекалов Степан Степанович (1782–1856) – генерал-адъютант, сенатор.
28 …уподобился бы пороховому заговору в Англии.– Пороховой заговор в Англии – это неудавшееся покушение католиков на жизнь английского короля Якова I Стюарта в 1605 г. По плану заговорщиков здание парламента должно было быть взорвано в день открытия сессии.
29 …освобождение крестьян. – С. Гессен пишет: «„Донесение Следственной комиссии“ ни звуком не обмолвилось о стремлении тайных обществ к эмансипации крестьян. М. С. Лунин, писавший: „Комиссия умалчивает об освобождении крестьян, долженствовавшем возвратить гражданские права нескольким миллионам наших соотечественников… Приступая к этим вопросам, она бы возбудила народное участие, которое надлежало подавить…“» (с. 87).
[577]
80 …Поджио 2-й…– Поджио Осип Викторович (1792–1848) – отставной штабс-капитан, член Южного общества.
31 Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1752–1838) – князь, министр юстиции с 1817 г. по 1827 г. С. Гессен замечает: «О деятельности в Верховном уголовном суде министра юстиции <…> кн. Д. И. Лобанова-Ростовского сохранился замечательный отзыв императора Николая, сообщавшего матери, что работа суда идет успешно, несмотря на „глупость князя Лобанова“» (с. 87).
32 Журавлев Иван Федорович (1775–1842) – обер-прокурор в 1826 г., позднее сенатор.
33 Беккария Цезарь (1738–1794) – итальянский юрист, автор трактата «О преступлениях и наказаниях».
34 Вентам Иеремия (1748–1832) – английский экономист.
35 Меллин Николай Романович – поручик лейб-гвардии Гренадерского полка, привлекавшийся к дознанию в 1826 г., но оправданный.
36 …но и самой глухой тетери.– Как указывал С. Гессен, «выражение «глухая тетеря», конечно, имеет в виду императора Александра I, глухота которого, прогрессировавшая с годами, была общеизвестна и служила поводом к разного рода шуткам и сарказмам» (с. 87).
37 Левашов Василий Васильевич (1783–1848) – генерал-адъютант, член Следственной комиссии и Верховного уголовного суда над декабристами. Впоследствии председатель комитета министров. С 1833 г. граф.
38 …допросы его более походили на беседу…– Другие декабристы отзывались о Левашове иначе. Например, А. М. Муравьев вспоминал, что «особенным озлоблением» против декабристов выделялись Чернышев и Левашов, «им обоим по преимуществу и было назначено быть нашими допросчиками. Все средства казались для них хороши. Они предъявляли ложные показания, прибегали к угрозам очных ставок, которых затем не производили. Чаше всего они уверяли пленника, что его преданный друг во всем им признался» (Муравьев А. М. Мой журнал.– Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг. Т. 1, с. 128–129).
39 Было одно движение при воцарении Анны Иоанновны…– После смерти Петра I члены Верховного тайного совета («верховники») избрали на престол Анну Иоанновну. Чтобы устранить возможность временщиков и ограничить самодержавие, верховники предложили Анне Иоанновне так называемые «кондиции», то есть ограничительные условия, взяв для них образцом шведские законы, определявшие в Швеции соправительство сената с монархом. Однако дворянство было против верховников и, желая восстановить самодержавие, просило Анну Иоанновну «принять самодержавство».
40 Он дает некоторые льготы дворянству, он прекращает безрассудную разорительную войну с Пруссией; издает некоторые указы, поощряет промышленность, торговлю.– Манифест о вольности дворянства (1762) освободил дворян от обязательной военной службы. Прекращение войны с Пруссией вызвало раздражение в дворянских кругах, равно как и желание Петра III начать войну с Данией. А. В. Поджио допускает ошибку в оценке исторической роли Петра III.
41 Барятинский Федор Сергеевич (1742–1813) – князь, обер-гофмаршал, участник дворцового переворота 1762 г.
[578]
42 Теплое Григорий Николаевич (1711–1779) – сенатор, один из участников дворцового переворота 1762 г.
43 Пассек Петр Богданович (1736–1804) – участник дворцового переворота 1762 г., впоследствии генерал-аншеф, белорусский генерал-губернатор, сенатор.
44 …определением трехдневного труда в неделю…– Указ Павла I о трехдневной барщине.
45 Подушкин Егор Михайлович – плац-майор Петропавловской крепости. Заведовал столом и систематически обкрадывал заключенных.
И. Д. ЯКУШКИН
Четырнадцатое декабря
Печатается по изданию: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина.– М.-Л., 1951. При подготовке настоящего издания использованы комментарии И. М. Троцкого к публикации воспоминаний И. Д. Якушкина в кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. I.– M., 1931.
1 …отказался от права на престол…– Великий князь Константин Павлович в начале 1822 г. отрекся от престола с согласия Александра I. Морганатический брак Константина в 1820 г. с княжной Ж. А. Лович (1795–1831) поставил его, как престолонаследника, в двусмысленное положение.
2 …назначил меня своим наследником…– Александр I в августе 1823 г. подписал документ, в котором назначал своим наследником Николая Павловича, о чем последний был уведомлен.
3 …Милорадович поставил вел. кн. Николая Павловича в необходимость присягнуть своему старшему брату…– И. М. Троцкий пишет: «Вопрос присяги, по существу дела, решался Милорадовичем. Последний сознавал трудность неожиданного воцарения Николая, пользовавшегося в гвардейских кругах самой скверной репутацией. <…> Милорадович и сам не очень симпатизировал Николаю. На заявление последнего он отвечал доводами о симпатии гвардии к Константину <…> Так как за Милорадовичем стояла реальная сила – «60 000 штыков в кармане»,– по его собственным словам, Николай был вынужден уступить и первый принес присягу Константину» (с. 179).
4 …вел. кн. Михаил Павлович…– Как указывает И. М. Троцкий, это ошибка памяти мемуариста: Михаил Павлович был в это время в Варшаве, а в Петербург приехал только 3 декабря. Он же привез и письмо от Константина, в котором тот подтверждал свое отречение от престола.
5 Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844) – князь, генерал от кавалерии, московский генерал-губернатор в 1820–1844 гг. С 1841 г. светлейший князь.
8 Филарет (В. М. Дроздов; 1782–1867) – архиепископ в 1825 г., митрополит московский в 1826–1867 гг.
7 Вюртембергский Александр (1771–1833) – герцог, генерал от кавалерии, главноуправляющий путями сообщения.
[579]
8 Лазарев Алексей Петрович (1795–1851) – адъютант великого князя Николая Павловича. 3 декабря Лазарев уже выехал из Варшавы с письмом, в котором Константин вновь подтверждал свое отречение от престола.
9 Батеньков Гавриил Степанович (1793–1863) – декабрист, член Северного общества; подполковник корпуса инженеров путей сообщения.
10 Шеншин Василий Никанорович (1784–1831) – генерал-майор, командир лейб-гвардии Финляндского полка.
11 …на что-нибудь решиться».– Как указывает И. М. Троцкий, «это сообщение не подтверждается другими источниками, а поведение генерала Шеншина в день 14 декабря как будто свидетельствует о противном. Рассказ, однако, записан со слов самого Оболенского и может быть принят, если учесть растерянность, охватившую даже самых лояльных представителей гвардейского генералитета в дни восстания» (с. 180).
12 Одоевский Александр Иванович (1802–1839) – князь, корнет лейб-гвардии Конного полка, член Северного общества.
13 …дать ему отпуск.– Как указывает И. М. Троцкий, Пущин имел 28-дневный отпуск.
14 Демидов Николай Иванович (1773–1833) – генерал-адъютант, сенатор.
15 …назначить временными правителями…– Кандидатуры временного правительства были назначены без согласия и без ведома назначенных сановников.
16 Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) – поручик лейб-гвардии Егерского полка, член Северного общества. Написал 12 декабря 1825 г. покаянно-предостерегающее письмо Николаю I. Однако ни в письме, ни в личной беседе с Николаем Ростовцев не назвал никого из членов общества. Впоследствии Ростовцев был генерал-адъютантом, председателем Главного комитета по крестьянскому делу.
17 Бистром Карл Иванович (1770–1838) – генерал-адъютант, командующий пехотой гвардейского корпуса.
18 Бестужев Михаил Александрович (1800–1871) – штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, член Северного общества. Автор воспоминаний.
19 Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович (1798–1859) – князь, штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, участник восстания 14 декабря. В тайное общество формально не входил.
20 Розен Андрей Евгениевич (1800–1884) – барон, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, член Северного общества.
21 Фридрикс (Фредерикс) Петр Андреевич (1786–1855) – барон, генерал-майор, командир лейб-гвардии Московского полка в 1819– 1828 гг.
22 Чижов Николай Александрович (1790-е–1848) – лейтенант 2-го флотского экипажа, член Северного общества.
23 …но в решительную минуту он потерялся…– И. М. Троцкий пишет: «Выдвигая на первый план романтическую сторону натуры Рылеева, И. Д. Якушкин опускает другую характерную черту – талант революционного организатора. Здесь сказалось типичное для Якушкина, осудившего в себе самом юношеские увлечения, порица-
[580]
ние революционного энтузиазма, на его взгляд беспочвенного» (с. 183).
24 Пистолен-Корс – Пистолькорс В. В. – капитан лейб-гвардии конной артиллерии.
25 Малиновский Андрей Васильевич (1800-е–1851) – прапорщик конной артиллерии, подстрекавший солдат к отказу от присяги Николаю I 14 декабря 1825 г. После семимесячного заключения в Петропавловской крепости был выпущен под надзор полиции.
26 Голицын Александр Михайлович (1798–1858) – подпоручик, артиллерист. Привлекался к дознанию в 1825–1826 гг. Брат декабриста В. М. Голицына. Впоследствии варшавский почт-директор.
27 Сумароков Сергей Павлович (1793–1875) – полковник кавалергардского полка.
28 …движение, проявившееся между солдатами, прекратилось.– М. Бестужев заимствовал у Якушкина для своих «Записок» рассказ о событиях в пешей артиллерии. Историк Г. С. Габаев заметил в связи с этим: «Версия о заминке с присягой в лейб-гвардии первой артиллерийской бригаде и указания М. Бестужева, что пешая артиллерия не присоединилась к восставшим только потому, что князь Александр Михайлович Голицын и другие офицеры дали арестовать себя полковнику Сумарокову, навряд ли достоверна. Сумароков с 1824 г. был в отставке, а о Голицыне расследование установило (Алфавит декабристов, с. 67) лишь, что ему в 1823 г. предлагали вступить в тайное общество, но он отказался» (цит. по изд.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг., с. 183).
29 Глебов Михаил Николаевич (1804–1851) – коллежский секретарь, член Северного общества, участник восстания 14 декабря.
30 «Мнемозина» – русский литературный альманах. Издавался в Москве в 1824–1825 гг. В. К. Кюхельбекером и В. Ф. Одоевским.
31 Репин Николай Петрович (1796–1831) – штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского полка. Член Северного общества.
32 …на свой счет.– И. М. Троцкий указывал: «Недооценка политической зрелости Каховского и презрительная характеристика его побуждений коренится в изолированном положении Каховского в Северном обществе в период, предшествовавший восстанию. Он сам чувствовал, что на него смотрят только как на орудие, которое по использовании может быть выброшено. Поведение же его на следствии, где он резко разоблачал товарищей, могло только усугубить нелюбовь к нему» (с. 183).
33 Граббе-Горский Осип-Юлиан Викентьевич (1766–1849) – отставной полковник артиллерии, кавказский вице-губернатор, участник восстания 14 декабря. Сослан в Сибирь на поселение. «На площади,– писал И. М. Троцкий,– он оказался случайно, но вел себя, по-видимому, довольно решительно. Несомненный авантюрист, он, возможно, предполагал нажить на этом деле политический капитал» (с. 183–184).
34 Воинов Александр Львович (1770–1832) – генерал-адъютант, командующий Гвардейским корпусом. Член Верховного уголовного суда.
35 Орлов – Алексей Федорович.
38 Фланкер (воен.) – фланкерами назывались отдельные всадни-
[581]
ки при действии кавалерии в рассыпном строе, а также те, кого посылали для наблюдения за действиями противника.
37 Сутгоф Александр Николаевич (1801–1872) – поручик лейб-гвардии Гренадерского полка, член Северного общества.
38 Панов Николай Алексеевич (1803–1850) – поручик лейб-гвардии Гренадерского полка, член Северного общества.
39 Стюллер (наст, фам.: Стюрлер) Николай Карлович – командир лейб-гвардии Гренадерского полка. Убит на Сенатской площади.
40 Лагарп Цезарь (1754–1838) – швейцарец по происхождению, воспитатель великого князя Александра Павловича.
41 Кондотьери (кондотьер; ит.) – человек, готовый за деньги сражаться за любое дело.
42 Шипов Сергей Павлович (1789–1876) – генерал-майор, командир лейб-гвардии Семеновского полка, член Союза благоденствия. В 1825–1826 гг. не был привлечен к дознанию. Впоследствии сенатор.
43 Кюхельбекер Михаил Карлович (1798–1859) – лейтенант Гвардейского экипажа, член Северного общества.
44 Арбузов Антон Петрович (1797–1843) – лейтенант Гвардейского экипажа, член Северного общества.
45 …два брата Беляевы…– Беляев Александр Петрович (1803– 1885) – мичман Гвардейского экипажа, участник восстания 14 декабря. Беляев Петр Петрович (1804–1864) – мичман Гвардейского экипажа, участник восстания 14 декабря.
46 Бодиско Михаил Андреевич (1803–1867) – мичман Гвардейского экипажа, участник восстания 14 декабря.
47 Дивов Василий Абрамович (1800-е–1842) – мичман Гвардейского экипажа, участник восстания 14 декабря.
48 Митьков Михаил Фотиевич (1791–1849) – полковник лейб-гвардии Финляндского полка, член Северного общества.
49 Тулубьев Александр Никитич – полковник лейб-гвардии Финляндского полка.
60 Моллер Александр Федорович (1796–1862) – полковник лейб-гвардии Финляндского полка. С 15 декабря 1825 г. флигель-адъютант,
51 Чевкин Александр Владимирович (1803–1887) – поручик лейб-гвардии Конно-егерского полка. Арестован за агитацию против присяги в казармах Преображенского полка в ночь с 13 на 14 декабря. Впоследствии – чиновник министерства иностранных дел. Якушкин спутал здесь А. В. Чевкина с его братом К. В. Чевкиным, впоследствии сенатором и главноуправляющим путями сообщения.
52 Васильчиков Дмитрий Васильевич (1780-е–1859) – обер-егермейстер.
53 Свистунов Петр Николаевич (1803–1889) – корнет кавалергардского полка, член петербургской ячейки Южного общества.
54 Ланской Павел Петрович (1792–1823) – полковник кавалергардского полка, с 15 декабря 1825 г. флигель-адъютант.
65 Анненков Иван Александрович (1802–1878) – поручик кавалергардского полка, член петербургской ячейки Южного общества.
56 Депрерадович Николай Николаевич (1802–1884) – корнет кавалергардского полка, член петербургской ячейки Южного общест-
[582]
ва. Отбывал наказание в Нижегородском драгунском полку. Впоследствии генерал-майор.
57 Бибиков Илья Гаврилович (1794–1867) – полковник лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, адъютант великого князя Михаила Павловича. Бывший член Союза благоденствия. Впоследствии генерал-адъютант.
58 Серафим (Глаголевскич Стефан Васильевич; 1763–1843) – митрополит петербургский.
59 Бок Егор Иванович – штабс-капитан лейб-гвардии Семеновского полка.
60 …он потом стоял с его свитой.– К свите императора С. Трубецкой не присоединялся.
61 Сухозанет Иван Онуфриевич (1788–1871) – генерал-майор.
62 Корнилович Александр Осипович (1800–1834) – штабс-капитан Гвардейского генерального штаба, литератор, член Южного общества.
63 …и отвели во дворец.– А. П. Беляев в своих воспоминаниях пишет, что Корнилович был среди бунтовщиков в момент привоза орудий. Как указывает И. М. Троцкий, «сообщение в тексте о попытке Корниловича поднять возмущение вечером 14-го ничем не подтверждается и само по себе неправдоподобно» (с. 185).
64 14 декабря Пестель был уже арестован.– Пестель был арестован 13 декабря.
65 Шервуд Иван Васильевич (1798–1867) – унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, член Южного общества. Оказался предателем.
66 Майборода Аркадий Иванович (ок. 1800–1844) – капитан Вятского пехотного полка, член Южного общества. Предатель. Впоследствии командир Апшеронского пехотного полка.
67 Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) – генерал-адъютант, начальник штаба 2-й армии, впоследствии министр государственных имуществ.
Н. Р. ЦЕБРИКОВ
Воспоминания о Кронверкской куртине
(Из записок декабриста).
Печатается с небольшими сокращениями по изданию: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг. Т. I.– М., 1931. При подготовке настоящего издания использованы комментарии С. Я. Гессена к публикации воспоминаний Н. Р. Цебрикова.
1 В настоящее время…– то есть в 40-е годы XIX в.
2 Гласис (фр.) – земляная пологая насыпь впереди наружного рва укрепления.
3 …последние стихи Рылеева…– известный библиограф и историк литературы П. А. Ефремов сомневался в принадлежности этих стихов Рылееву (см.: Сочинения и переписка К. Ф. Рылеева. Изд. 2-е под ред. П. А. Ефремова,– СПб., 1875, с. 339–340). А, Г. Цейт-
[583]
лин также не включил эти стихи в Полн. собр. соч. Рылеева (М.-Л., «Academia», 1934).
4 Адлерберг Владимир Федорович (1790–1884) – полковник, флигель-адъютант, впоследствии министр иностранного двора.
5 …пред тайный комитет…– Это было 8 января 1826 г.; 11 января Цебриков был закован в кандалы, которые сняли с него лишь 30 апреля.
6 Базин Иван Алексеевич (1802–1887) – подпоручик лейб-гвардии Финляндского полка. Был близок к декабристским кругам.
7 Гольтгоер Александр Федорович (1805–1870) – прапорщик Финляндского полка. Посещал собрания деятелей тайного общества в декабре 1825 г.
8 Очкин Ампий Николаевич (1791–1865) – литератор, близкий кругам Северного общества.
9 …потребовали к коменданту…– С. Я. Гессен пишет: «Следует отметить, что в этом промежутке времени Цебриков трижды обращался к Николаю и в Комитет с заявлениями, в которых, впрочем, не сообщал ничего нового, продолжая настаивать на своей полной неосведомленности. Тем временем на него были сделаны серьезные показания, но в ответах на вопросные пункты от 2 апреля Цебриков продолжал свою политику отрицания» (с. 227).
10 Мартынов Павел Петрович (1782–1838) – бригадный командир 2-й гвардейской пехотной дивизии. С 15 декабря 1825 г. генерал-адъютант.
11 …обещания, данные Николаем Веллингтону…– Веллингтон Артур (1769–1852) – герцог, главнокомандующий английскими войсками в 1813–1814 гг., победитель Наполеона в битве при Ватерлоо, один из лидеров консервативной партии. Веллингтон прибыл в Петербург 18 февраля 1826 г. по случаю смерти Александра I как чрезвычайный посол. Как Веллингтону, так и другим представителям иностранных держав, Николай обещал проявить гуманность к декабристам, рассчитывая расположить к себе общественное мнение европейских стран.
12 Фок Александр Александрович (ум. 1854) – подпоручик Измайловского полка, близкий к кругам Северного общества.
13 …испытавши все возможные истязания и пытки…– Как полагают исследователи, свидетельство о физических истязаниях Пестеля лишено оснований.
14 …супруг Евдокии, писавшей о млеке пречистой девы…– Речь идет о Ф. Н. Глинке, женатом на Авдотье Павловне Голенищевой-Кутузовой, авторе религиозных стихов и поэм. Ей принадлежит также книга «Жизнь Пресвятыя Девы Богородицы» (М., 1840).
15 …старику-отцу…– Пестелю Ивану Борисовичу (1765–1844).
16 …с другим своим сыном…– Пестелем Владимиром Ивановичем (1798–1865), младшим братом П. И. Пестеля. Был полковником кавалергардского полка, членом Союза спасения. К дознанию не привлекался. На следующий день после казни брата, 14 июля 1826 г., был пожалован во флигель-адъютанты.
17 …из Петербурга управлявшим…– В 1808 г. И. Б. Пестель уехал из Сибири в Петербург, откуда и управлял вверенной ему губернией.
18 Трескин Николай Иванович – иркутский губернатор.
19 Сперанский, ревизуя Сибирь…– Назначенный в 1819 г. после И. Б. Пестеля генерал-губернатором Сибири, М. М. Сперанский про-
[584]
вел ее ревизию вместе с состоявшим при нем в ту пору Г. С. Батеньковым (1793–1863).
20 …оборвались и их сызнова в другой раз повесили.– С. Я. Гессен пишет: «„П. В. Голенищев-Кутузов тогда же доложил императору Николаю, что „по неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе трое: а именно Рылеев, Каховский и Муравьев, сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть“ <…> Это свидетельство должно считаться единственно авторитетным, ибо современники и очевидцы различно называли имена сорвавшихся. <…> Причины падения объяснялись тоже по-разному. Начальник Петропавловского кронверка В. И. Беркопф полагал, что веревки не выдержали тяжести кандалов. „Когда отняли скамьи из-под ног,– рассказывал он,– веревки оборвались, и трое преступников рухнули в яму, прошибив тяжестью своих тел и оков настланные над ней доски. Запасных веревок не было, их спешили достать в ближних лавках, но было раннее утро, все было заперто, почему исполнение казни еще промедлилось“» (с. 278–279).
21 Кутузов – Голенищев-Кутузов.
22 Михаил Иванович – ошибка; следует читать: Михаил Сергеевич.
23 Профос (лат.) – полковой палач.
24 Оржитский Николай Николаевич (1796–1861) – отставной штаб-ротмистр Ахтырского гусарского полка, близкий к кругам Северного общества.
25 Тиверий (Тиберий; 42 до н. э. – 37 н. э.) – римский император с 14 г. Его правление отличалось особым деспотизмом.
26 …в новом своем ремесле подобных казней.– С. Я. Гессен отмечает: «В данном случае память, видимо, изменила автору. Эпизод этот не мог иметь места по одному тому, что приговоренные к смертной казни были повешены уже по окончании экзекуции над остальными декабристами» (с. 279).
Ф. Ф. ВИГЕЛЬ
Записки
Печатаются в извлечениях по изданию: Вигелъ Ф. Ф. Записки. Т. 1–2. М., 1928.
1 Траура в Москве под разными предлогами почти никто не носил.– Речь идет о днях после убийства Павла I.
2 …полюбоваться царем.– Александром I.
3 Куракин Александр Борисович (1752–1818) – князь, дипломат, приближенный Павла I.
4 Салтыков Иван Петрович (1730–1805) – граф, сын фельдмаршала П. С. Салтыкова.
5 Мятлева Прасковья Ивановна (урожд. Салтыкова; 1772– 1859) – мать поэта И. П. Мятлева, статс-дама.
6 Дюшесы (фр.) – герцогини.
[585]
7 …возвратившиеся с клеймом Версали и Фернея…– то есть усвоившие куртуазный дух Версаля и находившиеся под обаянием Вольтера (который жил в Ферне).
8 Кобенцель (Кобенцль) Людвиг фон (1753–1809) – граф, австрийский посланник в Петербурге в 1779–1797 гг.
s Сегюр Филипп Поль де (1780–1873) – граф, французский генерал и историк; был в свите Наполеона во время похода в Россию.
10 …играл с нами… Петра Семеновича Салтыкова.– Н. М. Карамзин написал для этого случая водевиль «Только для Марфина»; одним из действующих лиц водевиля был граф П. С. Салтыков (1698– 1772).
11 …путешествие свое за границу…– то есть «Письма русского путешественника», большую часть которых Карамзин напечатал в 1791–1792 гг. в издаваемом им «Московском журнале».
12 …и пленительные повести…– «Лиодор», «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь».
13 Ляпунов Захарий Петрович (ум. после 1612).– В 1610 организовал свержение Василия Шуйского.
14 Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586–1610) – князь, боярин, полководец.
15 …грозного царя.– Ивана Грозного.
16 …завистливые соперники – Вигель имеет в виду «Историю русского народа» Н. А. Полевого (т. 1–6, 1829–1833), полемически направленную против труда Карамзина.
17 …в «Заире»…– пьесе Вольтера.
18 …на красавице Капитолине Михайловне.– Она оставила В. Л. Пушкина и вторично вышла замуж.
19 Poinsinet de Sivry – Пуансине де Сиври Луи (1733–1804) – французский писатель, драматург.
20 Ильин Николай Иванович (1773–?) – драматург. В 1809 г. издавал в Москве журнал «Друг детей».
21 Шаховской Александр Александрович (1777–1846) – князь, драматург и режиссер.
22 Яковлев Алексей Семенович (1773–1817) – актер-трагик.
23 Каратыгина Александра Дмитриевна (урожд. Полыгалова; 1778–1859) –драматическая актриса.
24 Дмитревский (Дьяконов-Нарыков) Иван Афанасьевич (1734– 1821) – актер, драматург, переводчик.
25 …до шаликовской приторности…– Шаликов Петр Иванович (1767–1852) –писатель и журналист. Его стихотворения отличались манерностью, приторной чувствительностью. Как эпигон сентиментализма, Шаликов постоянно подвергался насмешкам, на него писали эпиграммы и пародии.
26 Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835) – граф, стихотворец-графоман.
27 …в герое-женщине, Марфе Посаднице.– Героиня повести Карамзина «Марфа-Посадница» не пожелала покориться деспотизму московского царя Ивана III, который уничтожил вольность Новгорода.
[586]
28 Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) – поэт и критик, профессор Московского университета.
29 …возгремел одой молодому императору…– «Ода на разрушение Вавилона» (1801, опубл. 1805) была зашифрованным откликом на убийство Павла I.
30 …семейства Буниных.– Жуковский был внебрачным сыном помещика А. И. Бунина.
31 Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) – писатель. В 1831–1842 гг. директор Московских театров.
32 Козодавлев Осип Петрович (1754–1819) – писатель и переводчик; в 1810–1819 – товарищ министра внутренних дел. Анна Петровна – его жена.
33 …наследника своего сделал шефом Семеновского полка…– Александра I.
34 …посажен в крепость.– В 1797 г. И. И. Дмитриев был арестован по ложному доносу. В крепости он не сидел, а содержался в доме военного губернатора Н. П. Архарова.
35 Майков Василий Иванович (1728–1778) – поэт. Автор ирои-комической поэмы «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771), пародирующей стиль 1-й песни «Энеиды» в переводе В. П. Петрова. Майков противопоставил торжественности классицистических од грубоватый комизм, отмеченный чертами социальной сатиры.
36 Барков Иван Семенович (или Степанович; ок. 1732–1768) – поэт и переводчик. Приобрел известность скабрезными стихами, которые ходили в списках.
37 «Бог» – ода Г. Р. Державина.
38 Сумароков Панкратий Платонович (1765–1814) – писатель и журналист. Был сослан в Сибирь, где находился в 1786–1801 гг. Издавал в Тобольске в 1789–1791 гг. первый в Сибири журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену».
39 …как созвездие Кастора и Поллукса.– По некоторым греческим преданиям, Зевс в награду за братскую любовь превратил Диоскуров (Кастора и Поллукса) в созвездие Близнецов.
40 …избрав министром поэта Дмитриева…– Павел I назначил И. И. Дмитриева товарищем министра уделов и обер-прокурором синода. В 1810 г. Александр I назначил Дмитриева министром юстиции.
41 …с Осипом Петровичем…– Козодавлевым.
42 «Несчастие от кареты» – комическая опера Я. Б. Княжнина (1779, музыка В. А. Пашкевича), где высмеяна галломания дворян, а бесправные крепостные изображены с сочувствием.
43 Гаррик Дейвид (1717–1779) – великий английский актер.
44 Нарышкин Александр Львович (1760–1826) – директор театров в 1799–1819 гг.
45 «Новый Стерн» – комедия А. А. Шаховского (опубл. 1807); в ней едко высмеивалась слащавость сентименталистов.
46 …его «комедий шумный рой»…– См.: Пушкин, «Евгений Онегин», гл. 1, строфа XVIII.
47 Озеров Владислав Александрович (1779–1816) – драматург.
48 Семенова Екатерина Семеновна (1786–1849) – трагическая актриса. На сцене с 1802 г. до 1808 г. пользовалась головокружительным успехом. На некоторое время ее славу затмила французская актриса Маргарита Веймер (Жорж).
[587]
49 «Северный зритель» – французский журнал, издававшийся в Гамбурге.
60 …апропее…– то есть более кстати. От французского a propos – кстати.
51 Крюковский Матвей Васильевич (1781–1811) – поэт, драматург, переводчик. Большим успехом пользовалась его трагедия «Пожарский».
52 …Марин перевел «Меропу»… – С. Н. Марин перевел трагедию Вольтера «Меропа» для Е. С. Семеновой.
63 …старый Хвостов – «Андромаху».– Трагедию Ж. Расина.
54 …Гнедич перевел «Танкреда»…– Николай Иванович Гнедич (1784–1833) перевел трагедию Вольтера «Танкред».
55 Жихарев Степан Петрович (1788–1860) – драматург, переводчик, мемуарист.
5(3 …а Катенин – «Сида» и «Аталию»… – Катенин Петр Александрович (1782–1853) – поэт, драматург, критик, участник Отечественной войны 1812 г., активный деятель раннего декабризма. Перевел «Сида» Пьера Корнеля. Пушкин писал об этом в «Евгении Онегине»: «Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый» (гл. 1, строфа XVIII). Катенину принадлежит и перевод религиозно-политической драмы Расина «Гофолия».
57 Потемкин Сергей Павлович (1787–1858) – поэт, член «Беседы», переводчик.
58 Шапошников Петр Федорович (ум. 1812) – капитан Преображенского полка, поэт и переводчик.
69 Висковатов Степан Иванович (1786–1831) – драматург, поэт, переводчик. Преподавал русскую словесность и историю в Горном корпусе. В 1828–1829 гг. был переводчиком при дирекции Петербургских театров.
60 Тургенев Иван Петрович (1752–1807) – просветитель, член кружка Н. И. Новикова, директор Московского университета.
61 Тургенев Александр Иванович (1789–1846) – государственный деятель, историк, друг Жуковского, Карамзина, Вяземского. Брат Н. И. Тургенева.
62 Голенищев-Кутузов Павел Иванович (1767–1829) – поэт и переводчик; в 1788–1817 гг. куратор, затем попечитель Московского университета.
63 Шатров Николай Михайлович (1767–1841) – стихотворец.
64 Мартинизм – мистическое учение Мартинеса Паскалиса, основавшего в XVIII в. секту мартинистов, члены которой считали себя ясновидящими.
65 Эгмонт Ламораль (1522–1568) – граф; возглавил антииспанскую дворянскую оппозицию в Нидерландах накануне и в начале Нидерландской буржуазной революции. Был казнен. Герой трагедии Гете «Эгмонт».
66 «Белый бык» – сказка Вольтера.
67 «Принцесса вавилонская» – повесть Вольтера.
68 …издавался в Москве неким Матвеем Гавриловичем Гавриловым «Политический журнал».– Гаврилов Матвей Гаврилович (1759–1829) – профессор Московского университета. Издавал в Москве с 1790 г. «Политический журнал», который с 1809 г. вы-
[588]
ходил под заглавием «Исторический, статистический и географический журнал, или современная история света».
69 Долгорукий Иван Михайлович (1764–1823) – князь, поэт; в 1802–1812 гг. владимирский губернатор.
70 «Опасный сосед» – поэма В. Л. Пушкина (1811). При жизни автора не была опубликована из-за фривольного содержания.
71 …Греевой элегии…– Грей Томас (1716–1771) – английский поэт. Славу Т. Грею принесла его «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751).
72 …оплакал он падших в поражении Аустерлицком.– Имеется в виду «Песнь барда над гробом славян победителей» (1806).
73 Измайлов Владимир Васильевич (1773–1830) – писатель, последователь Карамзина.
74 Глинка Сергей Николаевич (1776–1847) – поэт и журналист, издатель журнала «Русский вестник».
75 Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) – историк и журналист, профессор Московского университета.
76 Вяземский Андрей Иванович (1754–1807) – князь, отец П. А. Вяземского.
77 Делибаш (тюрк.) – удалой воин, лихой наездник.
78 Мефитизм – мефитис (гр.) – душный воздух, поднимающийся от вод и от земли. Здесь: зловоние.
79 Екатерина Павловна (1782–1819) – великая княгиня, дочь Павла I.
80Гераков Гавриил Васильевич (1776–1838) – писатель.
81 Будешь, будешь сочинитель…– Неточная цитата из стихотворения С. Н. Марина «На рождение молодого грека».
82 Вергилий Публий Марон (70–19 до н. э.) – римский поэт.
83 …знали одного поэта…– Речь идет об Алексее Степановиче Хомякове (1804–1860), поэте, публицисте и философе. Ср. с характеристикой А. И. Герцена: «Во всякое время дня и ночи он <Хомяков> был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете <…> Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку» (Г е р ц е н А. И. Собрание сочинений, т. IX.– М., 1956, с. 157).
84 Станевич Евстафий Иванович (1775–1835) – литератор.
85 …Юнговых «Ночей»…– Юнг Эдуард (1683–1765) – английский поэт. Вигель имеет в виду религиозно-дидактическую поэму Юнга «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (1742–1745).
86 Анастасевич Василий Григорьевич (1775–1845) – библиофил, поэт, историк, переводчик.
87 Львов Павел Юрьевич (1770–1825) – литератор.
88 Фонтан.– По-видимому, речь идет о французском писателе Фонтенеле Бернаре Ле Бовье де (1657–1757).
89 Милонов Михаил Васильевич (1792–1821) – поэт-сатирик, переводчик, чиновник Министерства юстиции. Примыкал к направлению преддекабристской гражданской поэзии.
90 Грамматин Николай Федорович (1786–1827) – поэт и филолог.
[589]
81 Дашков Дмитрий Васильевич (1784–1839) – государственный деятель и литератор.
92 Мартов Андрей Андреевич (1737–1813) – драматург и переводчик, президент Российской Академии наук.
93 «Беседа любителей российского слова» – литературное общество, существовавшее в Петербурге в 1811–1816 гг. Собрания «Беседы» были в доме Державина, который вместе с Шишковым возглавлял это общество. Пафос «Беседы» был направлен против Карамзина и сентиментализма в целом.
94 Завадовский Петр Васильевич (1739–1812) – граф, министр народного просвещения в 1802–1810 гг.
95 Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822) – граф, министр просвещения в 1810–1816 гг.
96 Греч Николай Иванович (1787–1867) – журналист, писатель, филолог, лингвист. В 1812–1838 гг. редактировал журнал «Сын отечества».
97 Ривароль Антуан (1753–1801) – французский писатель-памфлетист и публицист, деятель контрреволюции. В 1792 г. эмигрировал за границу. В 1783 г. издал «Маленький альманах наших великих людей», в 1790 г.– «Малый словарь великих людей революции». Издания содержали ядовитые характеристики писателей и деятелей революции.
38 Языков Дмитрий Иванович (1773–1845) – писатель и ученый.
99 …переводчик Шлецерова «Нестора»…– Шлецер Август Людвиг (1735–1809) –немецкий историк, публицист. Член Петербургской Академии наук (1765). Главный труд Шлецера – «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные» (т. 1–5, 1802–1809; рус. пер., ч. 1–3.– СПб., 1809–1819. Перевел с нем. Дм. Языков).
100 Измайлов Александр Ефимович (1779–1831) – журналист и поэт-баснописец. В 1818–1827 гг. издавал журнал «Благонамеренный». Был членом «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».
101 Востоков Александр Христофорович (1781–1864) – поэт и филолог.
102 Осень стояла сначала столь же ясная…– Осень 1811 г.
103 Строганов Александр Сергеевич (1733–1811) – граф, известный любитель художеств. С 1780 г. директор Академии художеств.
104 Бренна Виктор Францевич (1745–1820) – художник-декоратор и архитектор. По происхождению итальянец. В 1783–1802 гг. работал в России. Участвовал в строительстве и отделке помещений дворцов в Павловске, Гатчине, Михайловского замка в Петербурге.
105 Воронихин Андрей Никифорович (1759–1814) – зодчий. Строил в Петербурге Казанский собор (1801–1811), Горный институт (1806–1811). Участвовал в создании архитектурных ансамблей Павловска и Петергофа. Оценки Вигеля, как и во многих других случаях, отмечены предвзятостью.
106 Тургенев – Александр Иванович.
[590]
107 Кологривова Прасковья Юрьевна (1762–1846; урожденная Трубецкая, в первом браке Гагарина) – теща П. А. Вяземского.
108 …княгини Веры…– Вяземская Вера Федоровна (урожд. Гагарина; 1790–1886).
109 Кологривов Петр Александрович – отчим Е. Ф. Вяземской, отставной полковник.
110 Карамзина Екатерина Андреевна (урожд. Колыванова; 1780– 1851) – сводная сестра П. А. Вяземского. С 1804 г. жена Н. М. Карамзина.
111 Фидиас (Фидий; нач. 5 в. до н. э.– ок. 432–431 до н. э.) – великий греческий скульптор.
112 …как паж Херубини о графине Альмавива…– Персонажи комедий Бомарше «Севильский цирюльник» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
113 Пушкин Алексей Михайлович (1771–1825) – переводчик Расина и Мольера, актер-любитель, известный острослов, широко образованный человек. Дальний родственник А. С. Пушкина.
114 Копьев Алексей Данилович (1767–1846) – гвардейский полковник, драматург. Сын пензенского вице-губернатора.
115 Бернадотт Жан Батист Жюль – Карл XIV (1764–1844) – король Швеции в 1818–1844 гг. До этого маршал Франции.
116 Сухтелен Петр Корнилович (1751–1836) – граф, генерал-инженер, дипломат.
117 Муравьев Никита Михайлович (1796–1843) – капитан Гвардейского генерального штаба, декабрист, член Северного общества.
118 Маленькая брошюра под названием: «О легчайшем способе отвечать на критики»…– СПб., 1811.
119 Давид – царь Израильско-Иудейского государства, по ветхозаветному преданию, одержал победу в поединке над великаном-филистимлянином Голиафом.
120 …под руководством благодетельного дяди…– У М. Н. Муравьева Батюшков жил по выходе из пансиона.
121 …в поход против шведов…– В 1808 г.
122 «Видение на берегах Леты» – сатирическая поэма Батюшкова. Была направлена не только против «бездарных» писателей. В основном она отражала взгляды литературного кружка Оленина, к которому принадлежал поэт. Поэма была враждебно встречена шишковистами и весьма сочувственно карамзинистами.
123 Тургенев – Александр Иванович.
124 Кривому Пиладу было мало одного Ореста…– то есть одного верного друга.
125 Презентация (лат.) – представление.
128 Волконский Григорий Семенович (1742–1824) – князь. Боевой генерал. Отец декабриста С. Г. Волконского. В 1795–1796 гг. воевал вместе с Суворовым. Позднее был Оренбургским губернатором. Член Государственного совета.
127 Полторацкий Марк Федорович (1727–1795) – основатель придворной певческой капеллы.
128 В одной из них ворона попадает к французам в суп…– «Ворона и Курица».
129 …в другой…– «Волк на псарне».
130 Когда летящие отвсюду шумны клики…– послание «Императору Александру» (1814).
131 Филис Андриэ (1780–1838) – актриса театра Кавоса.
[591]
132 Жорж (Веймер Маргарита; 1783–1867) – французская актриса.
133 Эмабельный – любезный.
134 Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – граф, участник «Арзамаса»; в 1833–1849 гг. министр народного просвещения. В 1833–1849 гг. в основе уваровской политики просвещения была теория «официальной народности». Президент Академии наук.
135 …«Письмо к новейшему Аристофану» Дашкова – было направлено против Шаховского и написано в издевательски учтивом тоне. Аристофан (ок. 445 – ок. 385 до н. э.) – греческий поэт-комедиограф, «отец комедии».
136 …помощь зятя министра просвещения…– С. С. Уваров был женат на дочери А. К. Разумовского.
137 …на вечер 14 октября.– 1815 г.
138 Цевница (арх.) – свирель.
139 Полетика Петр Иванович (1778–1849) – дипломат и государственный деятель; участник «Арзамаса».
140 Северин Дмитрий Петрович (1792–1865) – дипломат, участник «Арзамаса».
141 …совоспитанник Вяземского…– Д. П. Северин был товарищем П. А. Вяземского по иезуитскому пансиону в Петербурге.
142 Салтыков Михаил Александрович (1767–1851) – государственный деятель, почетный член «Арзамаса».
143 Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752–1828) – поэт.
144 Кавелин Дмитрий Александрович (1779–1850) – беллетрист, директор Петербургского благородного пансиона. Был старше Жуковского на четыре года.
145 Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1855) – государственный деятель. В 1810–1811 гг. сотрудник М. М. Сперанского по подготовке государственных реформ. В 1819–1826 гг. попечитель Казанского учебного округа.
146 Воейков Александр Федорович (1778–1839) – поэт, переводчик и журналист, участник «Арзамаса».
147 Сильфида (фр.).– дух воздуха в польской и германской мифологии.
148 Неужели это ему ставили в вину? – Антипатию к Воейкову вызывала его беспринципность и дурной характер. Во второй половине 1820–1830-х гг. он перешел в лагерь политической реакции.
149 …перевод Делилевых «Садов».– Воейков в 1816 г. перевел поэму «Сады» французского поэта Жака Делиля (1738–1813).
150 …звания профессора ее в Дерптском университете.– Кафедру русской словесности в Дерптском университете Воейков занимал в 1814–1820 гг.
151 Гизо Франсуа (1787–1874) – французский историк, государственный деятель.
152 Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – поэт, критик, историк литературы. С 1832 г. читал лекции в Московском университете. Академик (1852).
153 Плещеев Александр Алексеевич (1778–1862) – композитор, литератор-дилетант, член «Арзамаса».
154 Чернышев Иван Григорьевич (1726–1797) – граф, генерал-фельдмаршал, дипломат.
155 Показалось Орлову…– Михаилу Федоровичу.
[592]
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
Записные книжки
Печатаются в извлечениях по изд.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848).– М., «Наука», 1963. При подготовке настоящего издания частично использован комментарий В. С. Нечаевой к книге П. А. Вяземского.
1 «Когда же вырастет твой Росслав?» – «Росслав» (1784) –трагедия Я. Б. Княжнина.
2 …когда вашего Бригадира пожалуют в генералы,– «Бригадир» (1769) – комедия Д. И. Фонвизина.
3 «Эдип», «Фингал», «Дмитрий»…– трагедии В. А. Озерова.
4 «Поликсена» – трагедия В. А. Озерова.
5 Головин – по-видимому, Николай Николаевич Головин (ум. 1821) – граф, член Государственного совета.
6 Шахматов – Ширинский-Шихматов Сергей Александрович (1783–1837) –князь, поэт, член «Беседы».
7 …в своей лирической поэме.– Поэма «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» (1814).
8 …в одном своем стихотворении.– В стихотворении «Плач и утешение России» (1796). Цитата приведена неточно.
9 Киселев Федор Иванович (1758–1809) – генерал.
10 Болтин Иван Никитич (1735–1792) – историк, государственный деятель, член военной коллегии.
11 Русский…– Петр I.
12 Немка…– Екатерина II.
13 Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.) – римский император.
14 …Александра…– Македонского.
15 Птолемеи – династия египетских царей (до 30 г. н. э.).
16 Сганарель – персонаж нескольких комедий Мольера.
17 Минерва – в римской мифологии богиня, покровительница ремесел и искусств. С конца III в. до н. э. отождествлялась с греческой Афиной и почиталась также как богиня войны и государственной мудрости..
18 Остейн Иоганн Фридрих Карл Максимилиан (1735–1809) – граф, австрийский посол в Петербурге.
19 Рожнецки (Рожнецкий) Александр Александрович (1774– 1849) – участник восстания Т. Костюшко; служил во французской армии; с 1815 г. командующий кавалерией Царства Польского. С 1831 г. генерал от кавалерии русской службы.
20 Морков Аркадий Иванович (1747–1827) – дипломат; в 1801 – 1803 гг. посол в Париже.
21 Николай Николаевич – Новосильцев.
22 Румянцев – Николай Петрович.
23 В любви я знал одни мученья.– Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Певец».
24 …13-е число…– День казни над декабристами – 13 июля 1826 г. В тот же день был подписан манифест об окончании дела над декабристами и приговоре Верховного уголовного суда.
[593]
Московское семейство старого быта
Печатается с небольшими сокращениями по изд.: Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика.– М, 1984. При подготовке настоящего издания частично использован комментарий Л. В. Дерюгиной к книге П. А. Вяземского.
1 Оболенский Петр Александрович (1742–1822) – князь.
2 Вяземская (в замужестве Оболенская) Екатерина Андреевна (1741–1811).
3 …княжны Наталии.– Оболенская (в замужестве Михайлова) Наталия Петровна (ум. 1856).
4 …урожденной княжне Долгоруковой…– В замужестве Вяземская Мария Сергеевна (1719–1786) –жена И. А. Вяземского.
5 Щербатов Александр Федорович (1778–1817) – князь.
6 Щербатова (в замужестве Дмитриева-Мамонова) Дарья Федоровна (1762–1801) – фрейлина Екатерины II.
7 …флигель-адъютанту императора Павла…– Речь идет об Александре Федоровиче Щербатове.
8 …княжну Варвару.– Щербатова (урожд. Оболенская) Варвара Петровна (1774–1843).
9 Дохтуров Дмитрий Сергеевич был женат на Марии Петровне Оболенской (1771–1852).
10 Оболенский Александр Петрович (1780–1855) – князь, калужский губернатор, с 1847 г. сенатор.
11 …дочь Ю. А. Нелединского.– В замужестве Оболенская Аграфена Юрьевна (1789–1829).
12 …к ней послание…– «К княгине А. Ю. Оболенской» (1820).
13 …сестры моей…– Екатерины Андреевны (1789–1810).
14 Щербатов Алексей Григорьевич (1777–1848) – князь, генерал, с 1844 г. московский военный губернатор.
16 Хомутова Анна Григорьевна (1784–1856).
16 «Хроника недавней старины. Из архива князя Д. А. Оболенского-Нелединского-Мелецкого».– СПб., 1876.
17 Василия…– Оболенский Василий Петрович (ум. до 1846 Г.) – князь, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г.
18 Ольденбургский Георг (1784–1812) – принц, начальник управления путей сообщения, тверской и ярославский генерал-губернатор; первый муж великой княгини Екатерины Павловны.
19 Андрей Петрович Оболенский (1769–1852) – князь, попечитель Московского учебного округа в 1817–1825 гг.
20 …на княжне Гагариной…– София Павловна Оболенская (1787–1869), урожд. княжна Гагарина, жена Андрея Петровича Оболенского.
21 …дочери той Темиры…– Речь идет о княгине Татьяне Ивановне Гагариной (урожд. Плещеевой).
22 Плещеев Сергей Иванович (1752–Г802) – вице-адмирал, масон; автор книг по географии России.
23 Кошелев Родион Александрович (1749–1821) – приближенный Александра I, масон.
24 Разумовский Лев Кириллович (1757–1818) – граф, генерал-майор.
25 Волков Николай Аполлонович (ум. 1858) – участник Отечественной войны 1812 г.
[594]
28 Волкова Маргарита Александровна (урожд. Кошелева; 1762– 1820).
27 Волкова Мария Аполлоновна (1786–1859) – фрейлина императрицы Марии Федоровны.
28 О память сердца, ты сильней Рассудка памяти печальной! – Цитата из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений».
Воспоминания о 1812 годе
Печатаются с сокращениями по изд.: Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика.– М., 1984.
1 «Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там».– Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Модная жена».
2 …созванное в Слободском дворце…– На этом собрании, созванном 15 июля 1812 г., был оглашен манифест о всенародной борьбе с врагом.
3 Торвальдсен Бертель (1768 или 1770–1844) – датский скульптор.
4 Гудович Иван Васильевич (1741–1820) – граф, генерал-фельдмаршал, член Государственного совета.
5 Демосфен (ок. 384–322 до н. э.) – знаменитый греческий оратор, политический деятель.
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан – 528, 593.
Августин – 180, 566.
Агафонов – 183.
Адамович – 88.
Адлерберг Владимир Федорович – 426, 584.
Александр I – 6–7, 23–29, 32, 36–37, 48, 50–52, 55–56, 67, 89, 91, 93, 102, 121, 156, 170, 172–182, 184–185, 187, 193, 196– 197, 200–207, 231–232, 247, 261–262, 264–265, 267, 269–270, 273-279, 281, 291–292, 295, 298, 302–304, 310–311, 314, 317, 320, 322–323, 325, 328, 343, 346, 348, 353, 362–365, 385, 389–391, 406–407, 415, 445, 450, 452, 458–461, 468–470, 482, 488, 496, 501, 504–505, 513, 538, 546, 549–550, 552–560, 562–563, 566– 574, 578–579, 582, 584–585, 587, 591, 594.
Александр II – 71, 258.
Александр Македонский – 528, 593.
Александра Павловна – 46.
Алексей, камердинер М. С. Лунина – 226.
Алексей, управляющий усадьбой Мамонова–138.
Алексей Михайлович, царь – 446.
Алексей Петрович, царевич – 430.
Аллер С.– 566.
Анастасевич Василий Григорьевич – 481, 487, 586.
Ангерштин Эдуард – 43.
Ангулемский, герцог – 494.
Андреевский – 48.
Андрианов – 128.
Анна Иоанновна – 380, 554, 578.
Анненков Иван Александрович–416–417, 582.
[596]
Аракчеев Алексей Андреевич–16, 173, 179, 189, 192, 194–195, 197–
207, 281, 314, 322–323, 376, 429, 554, 567, 568.
Арбузов Антон Петрович – 416, 582.
Аргамаков Александр Васильевич –23, 34, 53, 554-555.
Аристофан – 509, 592.
Арсеньев В. Д. – 180.
Артемий, приказчик – 81.
Архаров Николай Петрович – 587.
Арцыбашев – 417.
Аршеневский Петр Яковлевич – 39.
Багговут Карл Федорович – 12, 91, 106, 109, 144, 555.
Багратион Петр Иванович – 9, 11, 92–94, 96, 98, 104, 106, 117, 263, 557, 559–561.
Базин Иван Алексеевич – 427, 584.
Байрон Джордж Гордон – 296, 536, 572.
Бакунин М. М. – 508.
Балашов Александр Дмитриевич – 11, 175–179,565.
Бальмен Адольф де – 163.
Барклай-де-Толли Михаил Богданович – 9, 27, 78, 91–92, 93, 96, 100–104, 106, 116, 179, 189, 192, 263, 264, 557–561.
Барков Иван Семенович (или Степанович) – 458, 587.
Баррюэль, поручик – 139.
Бартенев Петр Иванович – 191, 524.
Барятинский Александр Петрович – 359, 371, 576.
Барятинский Федор Сергеевич – 380, 578.
Барятинский, князь – 77.
Басаргин Николай Васильевич – 60, 403.
Батеньков Гавриил Степанович – 407, 430, 580, 585.
Батюшков Константин Николаевич – 242, 497, 498–500, 503, 514, 520, 547, 591, 595.
Башуцкий Павел Яковлевич – 347, 575.
Безбородко Александр Андреевич – 170.
Беккария Цезарь – 373, 578.
Белавин, офицер – 96, 560.
Белоголовый Николай Андреевич – 356–358,
Белосельские – 446.
Беляев Александр Петрович – 582-583.
Беляев Петр Петрович – 582.
[597]
Беляевы, братья–416, 422–423, 427, 582.
Бенкендорф Александр Христофорович–181–182, 186, 215, 362, 402, 427.
Беннигсен Леонтий Леонтьевич – 7–9, 16, 19–28, 51–54, 91, 104, 116, 119, 127–128, 140, 144, 552–554.
Бетам Иеремия – 373, 575.
Берг Николай Васильевич – 442,
Бергенштраль, поручик – 155.
Беркопф В. И – 585.
Бернадотт Жан Батист Жюль – см.: Карл XIV.
Бертье Александр–177, 563, 566.
Бертье Луи –563.
Бесиер Жан Батист– 177, 566.
Бестужев (Марлинский) Александр Александрович–250, 397, 407, 407–412, 416, 422–423.
Бестужев Михаил Александрович– 14, 410–411, 416, 581.
Бестужев Николай Александрович–362, 416.
Бестужев-Рюмин Михаил Павлович – 330, 334, 343, 360, 429–430, 431–432, 575.
Бестужевы–14, 412.
Бесчасный (Бесчаснов) Владимир Александрович–359, 371, 576.
Бибиков –35, 53.
Бибиков Илья Гаврилович – 417, 583.
Бибикова (урожд. Муравьева-Апостол) Екатерина Ивановна –350, 575.
Бистром Карл Иванович –409, 580.
Бланк Борис Карлович –472.
Блок Александр Александрович–41.
Блудов Дмитрий Николаевич – 429, 438, 449–450, 452–455, 464, 482, 493–494, 496, 498, 500, 503–505, 507–509, 511–513, 521, 573.
Блудова (урожд. Щербатова) Анна Андреевна – 493–494, 502.
Богданович М. И. – 564-565, 570.
Бодиско Михаил Андреевич – 416, 582.
Божанов Василий Борисович – 359, 576.
Бок Егор Иванович – 418, 583.
Болтин Иван Никитич – 527, 593.
Бомарше Пьер Огюстен – 170, 591.
Бонами – 118–119.
Бонапарт Жером –560.
Борисов Андрей Иванович–359, 371, 576.
[598]
Борисов Петр Иванович – 359, 367, 371, 576.
Боровков Александр Дмитриевич – 353.
Бороздин Михаил Михайлович – 7, 92, 107, 558.
Боссюз Жак Бенинь – 216, 568.
Брадке Егор Федорович–8–9, 16, 187–191, 567.
Брадке Федор Иванович–187.
Бренна Виктор Францевич –488, 590.
Бром Генри –365, 577.
Брянчанинов П.–58.
Булатов Александр Михайлович–366, 407, 410, 577.
Бунин А. И.–587.
Бунины– 453, 519, 587.
Бурбоны –365, 494, 503.
Бурцов Иван Григорьевич –63–64, 66.
Вадковский Федор Федорович–359, 371, 433, 576.
Василек –447.
Васильчиков Дмитрий Васильевич –416, 582.
Васильчиков Илларион Васильевич–122, 139, 562.
Вашингтон Джордж –467,
Вейротер Ф.– 562.
Вейс, полицмейстер –90.
Веллингтон Артур –429, 584.
Вельсоеич, адъютант–165.
Вергилий Марон Публий –480, 589.
Верещагин Михаил–132, 562.
Вигель Филипп Филиппович–8, 16, 210–212, 218, 221–222, 233,
435–444, 554, 556–558, 560, 565–566, 568, 572, 585–586,
589–590.
Вилльмен Франсуа – 365, 577.
Винценгероде Фердинанд Федорович–134, 151, 562.
Висковатов Степан Иванович–466, 481, 588.
Вистицкий, генерал-майор–104, 108, 110, 126, 131, 135.
Витгенштейн Петр Христнанович–91–92, 150, 179, 420, 558–559,
562, 564.
Владимирский-Буданое Михаил Федорович–190–191.
Вобан Себастьян Ле Претр де –232, 569.
Воейков Александр Федорович– 19, 24, 519–520, 592.
Военский К.–43–44, 554.
Воинов Александр Львович–413, 581.
Волк, помещик–94.
[599]
Волков Александр Александрович –130, 562.
Волков Николай Аполлонович –546, 594.
Волкова (урожд. Кошелева) Маргарита Александровна–546, 595.
Волкова Мария Аполлоновна –546, 595.
Волконская Елена Сергеевна –356.
Волконская (урожд. Раевская) Мария Николаевна – 356–358.
Волконские –356.
Волконский Григорий Семенович – 500, 591.
Волконский Михаил Сергеевич –356.
Волконский Петр Михайлович – 73, 89, 90, 175, 179, 556.
Волконский Сергей Григорьевич – 7, 355–357, 591.
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ)–216, 218, 448, 468, 473, 525, 568, 586, 588.
Воронец Василий –388.
Воронихин Андрей Никифорович – 488, 590.
Воронцов Михаил Семенович –78, 438, 557.
Воронцовы–187.
Востоков Александр Христофорович – 486, 590.
Врангель Егор Петрович –345, 575.
Вюртембергский Александр –407, 579.
Вюртембергский Евгений–148, 151, 176, 564.
Вяземская (урожд. Гагарина) Вера Федоровна –490–492, 591.
Вяземская (в замуж. Оболенская) Екатерина Андреевна – см.: Оболенская Екатерина Андреевна.
Вяземская (урожд. Долгорукова) Мария Сергеевна –594.
Вяземские –490, 493.
Вяземский Андрей Иванович –475, 537, 539, 589.
Вяземский Иван Андреевич – 594.
Вяземский Петр Андреевич –9, 16, 246–247, 251, 253, 435, 443, 475–476, 490, 493, 503, 516-517, 521, 523–525, 558, 560–561,488–589, 591–595.
Вязмишинов Сергей Кузмич– 162.
Габаев Г. С– 581.
Гавердовский Я. П.–104, 124.
Гавралов Матвей Гаврилович –468, 588.
Гагарина Анна – 553.
Гагарина (урожд. Плещеева) Татьяна Ивановна –594.
Гарданов –556.
Гаррик Дэйвид –462, 587.
Геде –289.
[600]
Генрих IV – 533.
Георг II –20.
Гераков Гавриил Васильевич –479, 589.
Гераковы –455.
Герцен Александр Иванович–13, 255, 257–258, 357, 405, 425, 568, 589.
Гершензон Михаил Осипович– 13–14, 571–572.
Геснер Соломон – 197, 568.
Гессен Сергей Яковлевич –576–578, 583–585.
Гете Иоганн Вольфганг –23, 588.
Геч, начальник роты–151–153.
Гиарис Гастон – 256.
Гизо Франсуа – 520, 592.
Гиллельсон Максим Исаакович –524.
Гинзбург Лидия Яковлевна –524.
Глазов, однополчанин Н. Н. Муравьева–90, 111, 144.
Глебов Михаил Николаевич–412, 581.
Глинка Сергей Николаевич –474, 589.
Глинка Федор Николаевич–407, 584.
Гнедич Николай Иванович–465, 478, 486, 499–500, 507, 514, 588.
Гогенлоэ, принц–176.
Гоголь Николай Васильевич–330–331, 441.
Голенищев-Кутузов Павел Васильевич–362, 432, 577, 585,
Голенищев-Кутузов Павел Иванович –466, 474, 508, 588.
Голенищева-Кутузова Авдотья Павловна –430, 584.
Голицын Александр Михайлович–412, 581.
Голицын Александр Николаевич – 361, 544, 546, 577.
Голицын Валерьян Михайлович–421, 581.
Голицын Дмитрий Владимирович – 406, 408, 579.
Голицын С. Ф.–438.
Голицын, князь–135.
Голицын, князь, владелец Тарутина'–141.
Голицын-Рыжий –119.
Голицыны, князья–118.
Головин Николай Николаевич – 298–299, 525, 593.
Гольтгоер Александр Федорович –427, 584.
Гомер –441.
Горбачевский Иван Иванович–359, 371, 576.
Горчаков Александр Михайлович –253.
Горчакова (в замуж. Хвостова) –477.
Граббе-Горский Осип-Юлиан Викентьевич – 413, 581.
[601]
Грамматик Николай Федорович – 482–483, 486, 589.
Грей Томас –470, 589.
Греч Николай Иванович –485, 509, 590.
Грибоедов Александр Сергеевич–63, 66–67, 71, 246, 388.
Грибоедова (урожд. Чавчавадзе) Нина Александровна –63.
Грузинский, князь, подпоручик–113.
Гудович Иван Васильевич –550, 595.
Даву Луи Никола–176–177, 566.
Давыдов –96.
Давыдов Денис Васильевич –5, 24–26, 93, 520.
Данилевский А. – см.: Михайловский-Данилевский А. И.
Данте Алигьери –473.
Д'Артуа –495.
Дашков Дмитрий Васильевич – 482–483, 486, 496–498, 507–509,
512–513, 515–516, 590, 592.
Делиль Жак–519, 592.
Демидов Николай Иванович –408, 562. 580.
Демосфен–551, 595.
Депрерадович Леонтий Иванович–33, 53, 91, 181–182, 186,'553.
Депрерадович Николай Николаевич–417, 582.
Державин Гавриил Романович–5, 12, 66, 329, 348–349, 452, 458,
476, 480, 484, 489, 504, 509, 514, 575, 587, 590.
Державина Дарья Алексеевна –348–349, 575.
Дерюгина Л. В. – 594.
Десезар, прапорщик–90.
Дибич Иван Иванович–58, 181, 192, 361, 420, 426, 566.
Дивов Василий Абрамович–416, 427, 582.
Дмитревский Иван Афанасьевич – 451, 586.
Дмитриев Иван Иванович – 242, 448, 452, 458–459, 466, 473, 482–
483, 485, 496–497, 515, 518, 521, 529, 549, 587, 595.
Долгорукий Иван Михайлович –468, 589.
Долгорукий Сергей Николаевич – 262, 570.
Долгорукова (в замуж. Вяземская) Мария Сергеевна –539.
Дондуков-Корсаков Александр Михайлович –69.
Дорохов Иван Семенович–143, 563.
Доу Джордж–19.
Дохтуров Дмитрий Сергеевич –91, 100, 107, 117, 120, 541, 558,
563, 594.
Дудышкин, купец –445.
Дурново Николай Дмитриевич –89–90.
[602]
Дюрок Жерар–177, 449, 566.
Дюронель Антуан – 565.
Дюсис –239.
Евгений, принц–418.
Евдокия – см.: Голенищева-Кутузова Авдотья Павловна.
Евреинов Николай, капитан –220, 569.
Евсей Никитич, повар –133.
Екатерина I Алексеевна –489.
Екатерина II Алексеевна – 5, 7, 21–22, 29, 37, 40–42, 48, 57–58, 83, 218, 309, 353, 362, 430, 446, 461, 466, 468, 477, 489, 498, 501, 526, 533–534, 540, 553, 558, 561, 568–569, 573, 593–594,
Екатерина Павловна – 479, 482, 529, 543, 546, 570, 589, 594.
Елизавета, королева английская – 327.
Елизавета Алексеевна – 50, 56, 461, 513.
Елизавета Петровна – 37, 487, 501.
Ермолаев Александр Иванович –486.
Ермолов Алексей Петрович–11, 27, 64–69, 80, 91, 104, 116–117, 119, 139–141, 263, 362, 410, 560–562, 572.
Ермолов Михаил Александрович –73–74.
Ефремов Петр Александрович –583.
Ефремов, полковник–176.
Жанна д'Арк– 217, 568.
Жилин П. А.–560, 564.
Жихарев Степан Петрович–465, 485, 507, 511–513, 588.
Жорж (Веймер Маргарита) – 505, 587, 592.
Жуковский Василий Андреевич – 242, 246, 255–256, 401, 442, 453–
454, 470, 471, 473, 503–504, 506–508, 510–514, 516–520, 525,
531, 535, 540, 542, 587–588, 592–593.
Журавлев Иван Федорович –372, 375, 578,
Завадовский Петр Васильевич –484, 590.
Завалишин Дмитрий Иванович –422.
Загоскин Михаил Николаевич – 456, 472, 506, 509–510, 587.
Загоскин Николай Михайлович –456.
Загоскина Наталия Михайловна – 456.
Задонский Николай Алексеевич – 66, 71–72.
Зайончек Иосиф –571.
Залуцкий, граф–498.
Зубов Валериан Александрович–21, 33, 554.
[603]
Зубов Николай Александрович – 32–33, 54–55, 553, 556.
Зубов Платон Александрович – 7, 21, 32–34, 45, 54–56, 171, 553.
Зубовы –21–23, 46.
Иван, священник–51.
Иван Антонович –380.
Иван Степанович –6.
Иван III – 586.
Иван IV Грозный –5, 447, 586.
Иванов Григорий–51–52.
Иванов, подполковник–186.
Измайлов Александр Ефимович –486, 590.
Измайлов Владимир Васильевич – 473, 589.
Ильин Николай Иванович – 451, 586.
Инсарский Василий Антонович–188–189, 191.
Иосиф, эрцгерцог–46, 173.
Кавелин Дмитрий Александрович – 518, 589, 592.
Каменский Н. М.–92, 559.
Канкрин Евграф Францевич – 78, 320, 557, 572.
Каннабих – 6.
Капнист (урожд. Дьякова) Александра Алексеевна – 332, 574.
Капнист Алексей Васильевич–330, 332, 337, 339, 343–349, 574–575.
Капнист Василий Васильевич–329, 331, 335, 451, 575.
Капнист (урожд. Муравьева-Апостол) Елена Ивановна–335, 341,
343–345, 350–351.
Капнист Иван Васильевич–337, 341, 346, 575.
Капнист Илья Петрович –575.
Капнист Надежда Николаевна –336, 338, 575.
Капнист Петр Васильевич –336, 575.
Капнист Петр Николаевич–332, 335, 574.
Капнист Семен Васильевич – 334, 336, 339, 345, 574.
Капнист София Николаевна –335, 575.
Капнисты –331.
Карамзин Николай Михайлович–5, 211, 233, 241, 242, 275–276,
444, 446, 448, 451–452, 455, 458–459, 463, 466–467, 469, 471–
475, 482, 485, 492–493, 495, 507, 516, 518, 521, 525–527, 535–
536, 540, 545, 551, 586, 588–591.
Карамзина (урожд. Колыванова) Екатерина Андреевна –492, 591.
[604]
Каратыгина (урожд, Полыгалова) Александра Дмитриевна –451–
452, 586.
Карл V –448.
Карл XII –11, 187.
Карл XIV– 493, 591.
Кассий –23–24.
Катенин Павел Александрович – 465, 480–481, 585.
Каховский Павел Григорьевич–360, 410, 412–413, 415, 429–430,
581, 585.
Каченовский Михаил Трофимович –474, 589.
Кемпен Акулина Борисовна –445.
Кизеветтер А. А.– 569, 574.
Кикин Петр Андреевич–91, 558.
Кипренский Орест Александрович –443.
Киселев Павел Дмитриевич –420, 553.
Киселев Федор Иванович – 527, 593.
Клименюк Людмила Николаевна –552.
Ключевский Василий Осипович – 5, 6.
Княжнин Яков Борисович–451, 458, 461, 464, 525, 587, 593.
Княжнина В. А.–422.
Кобенцль Людвиг фон –446, 586.
Ковалевский Павел Михайлович–11.
Козодавлев Осип Петрович–393, 457, 459–461, 557,
Козодавлева Анна Петровна –457, 587.
Коленкур Арман–177–178, 566.
Кологривов Петр Александрович –490, 591.
Кологривова Прасковья Юрьевна –490, 591,
Колокольцев Федор Михайлович–496.
Колонтаев, лакей–130.
Колошин Михаил Иванович –98.
Колошин Павел Иванович–63, 80, 82, 85–86, 88, 90–91.
Колошин Петр Иванович –63.
Колошина –133. Колумб Христофор–215, 232.
Колычев –73–74, 90.
Комаровская (урожд. Цурикова) Елизавета Егоровна–173.
Комаровская (урожд. Зиновьева) Юлиана Ивановна–169.
Комаровский Евграф Федотович–16, 169–174, 565.
Комаровский Федот Афанасьевич–169. Конбурн–163.
Конечный Альбин Михайлович –552.
[605]
Кони Анатолий Федорович –562.
Коновницын Петр Петрович–97, 104, 108, 124, 128, 268, 560.
Коновницын, граф – 412, 414.
Констан де Ребек Бенжамен Анри –272–273, 287, 301, 571.
Константин Павлович–45, 48–49, 55–56, 91, 95, 101, 156, 172, 210,
270, 274, 276–277, 301, 406–408, 410, 418, 433, 554, 560, 564, 579–580.
Копьев Алексей Данилович –493, 591.
Корбелецкий Федор Иванович–9, 11, 16, 158–163, 564.
Корнель Пьер–216–217, 588.
Корнилович Александр Осипович–419, 583.
Корсаков Александр Михайлович –см.: Римский-Корсаков А. М.
Корсаков, поручик–118.
Корф–42,, 103, 178.
Костюшко Тадеуш Анджей Бонавентура –571, 593.
Коцебу –7.
Кочубей Виктор Павлович–169.
Кошелев Родион Александрович – 544, 594.
Красовский Афанасий Иванович –345, 575.
Кремковский –183.
Кротков – 527.
Крылов Иван Андреевич–438, 451, 460–462, 476, 485–486, 499–
500, 502–504, 506–507, 514, 529.
Крюднер (урожд. Фитингоф) Варвара Юлия –237, 569.
Крюковский Матвей Васильевич –465, 588.
Кузьма, слуга Павла Колошина –88.
Кумпан Ксения Андреевна –44, 552.
Куракин Александр Борисович – 445, 585.
Куракин Алексей Борисович– 182, 204, 316–318, 566, 573.
Курута Дмитрий Дмитриевич–95, 97, 100–101, 153, 433, 560.
Кутайсов Александр Иванович–80, 116–117, 557.
Кутайсов Иван Павлович–5, 6, 54, 531,. 555.
Кутузов Михаил Илларионович–И–12,27–28, 58, 92, 102–106,
108–110, 113–114, 116, 119, 124–125, 131, 134, 136, 138, 140–
142, 144–146, 154, 156, 180–181, 264, 268–270, 504, 554, 559,
561–564, 570–571.
Кутузов Павел Васильевич – см.: Голенищев-Кутузов П. В.
Кюхельбекер Вильгельм Карлович– 361, 412, 577, 581.
Кюхельбекер Михаил Карлович–415–418, 582.
Лавров Николай Иванович–94, 107, 560.
Лагарп Цезарь – 415, 482, 495, 560, 582.
[606]
Лагода–183.
Лазарев Алексей Петрович –407, 580.
Ламберт (урожд. Канкрина) Елизавета Егоровна–424.
Лан, доктор –338–339.
Ланжерон Александр Федорович –352, 552-553.
Ланской Павел Петрович–416, 582.
Лебедева (в замуж. Вигель) –438.
Левашов Василий Васильевич –378, 395, 578.
Лёмер, доктор –127, 129.
Ленорман Мария Анна Аделаида –230, 569.
Леппих Франц– 570.
Лермонтов Михаил Юрьевич–158.
Ливен (урожд. Буксгевден) Доротея Христофоровна–19, 56.
Ливен Карл Андреевич –48, 555.
Липранди Иван Петрович –436, 438–439.
Лисаневич В. И.–38.
Лисаневич, майор –149.
Лобанов –417.
Лобанов-Ростовский Александр Борисович –7.
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович –372, 578.
Лович Ж. А.–406, 579.
Ломоносов Михаил Васильевич –452, 458.
Лопухин Петр Васильевич –204, 568.
Лопухина Анна Петровна –555.
Лорер Николай Иванович–330, 341–342, 420, 423, 575.
Лористон А.–563.
Лукаш–90, 133.
Лунин Михаил Сергеевич –12, 16, 63, 93–96, 99, 211–217, 219, 221–240, 330, 432–433, 560, 568–569, 577.
Лунина (урожд. Муравьева) Феодосия Никитична –560.
Львов Алексей Федорович– 197, 568.
Львов Павел Юрьевич–481, 589.
Львов, коллежский асессор– 183.
Львовы –455.
Людовик XIV –446.
Людовик XVI~-\70.
Ляпунов Захарий Петрович –447, 586.
Ляцкий Евгений Александрович–173–174.
Магиер, якобинец –494, 496.
Магницкий Михаил Леонтьевич–518, 592.
[607]
Майборода Аркадий Иванович –420, 583.
Майков Василий Иванович –458, 587.
Макаров Михаил Николаевич–471–472, 474.
Макаров Петр Иванович–471.
Макинтош Джеймс –273, 571.
Макферсон Джеймс – 557.
Малиновский Андрей Васильевич – 412, 581.
Мамонов, граф–138.
Марин Сергей Никифорович–48, 53, 465, 479–480, 555, 588–589.
Мария Федоровна – 7, 43, 47, 54, 56, 185, 372, 502, 513, 520, 595.
Марков – см.: Морков Ираклий Иванович.
Маркс Карл–20–21, 25–26, 28.
Мартынов Павел Петрович –428, 584.
Маслова –543.
Массена Андре –554.
Мацнев –549.
Мейндорф Георгий–111.
Меллин Николай Романович –375, 578.
Мельян–183.
Менгден фон Михаил Александрович–122, 133.
Менгес –344.
Мерзляков Алексей Федорович – 387, 453, 469–470, 486, 587.
Мертваго Дмитрий Борисович –7.
Миллер, доктор –206.
Милонов Михаил Васильевич – 482–483, 486, 589.
Милорадович Михаил Андреевич–106, 132, 144–146, 150, 154, 182, 406, 409, 413, 430, 561, 564, 579.
Мирабо Старший Габриель Оноре Рикетти–468.
Мирович Василий Яковлевич –380.
Митрофанов –545.
Миттермайер Карл –289, 572.
Митьков Михаил Фотиевич–416, 582.
Михаил Павлович – 361, 406–407, 418, 426–427, 576–577, 579, 583.
Михайловский-Данилевский Александр Иванович –163.
Мишо Александр Францевич–179, 566.
Моллер Александр Федорович–416, 582.
Мольер (Жан Батист Поклен) –216–217, 569, 591, 593.
Мономах Владимир –447.
Монтень Мишель де –400.
Мордвинов Александр Николаевич –63, 73–74, 556.
Мордвинов Николай Михайлович– 157.
[608]
Мордвинов Николай Семенович–62–63, 73–74, 77–78, 157, 277,
282, 288, 296–297, 312–314, 316–320, 409, 484, 556.
Мордвинова (в замуж. Львова) Наталия Николаевна – 8, 62, 75,
77–78, 87, 157, 556.
Морков Аркадий Иванович – 530, 593.
Морков Ираклий Иванович – 92, 181, 558.
Морозов Артемий–81.
Морозов Спиридон–81.
Мортье –563.
Мстиславы – 482.
Мудров, доктор–130.
Муленкова Валерия Федоровна – 552.
Муравьев Александр Захарович – 78, 557.
Муравьев Александр Михайлович–390, 417, 433, 560, 578.
Муравьев Александр Николаевич–12, 58, 61, 64, 73–75, 80–82,
85–86, 88–90, 94, 97, 101, 104, 108, 119–120, 124–130, 139,
148–149, 151, 155, 157, 193, 556, 567.
Муравьев Артамон Захарович–12, 61, 68, 78–79, 371, 557, 573.
Муравьев Захар Матвеевич –78, 557.
Муравьев Михаил Никитич – 96, 495, 496, 560, 563, 591.
Муравьев Михаил Николаевич–60–61, 68, 80–82, 85–90, 94–95,
97, 104, 111, 119, 123, 125–130, 148, 155, 157, 567.
Муравьев Никита Михайлович –63, 250, 354, 390, 495, 560, 591.
Муравьев Николай Николаевич старший –59–60, 85, 556.
Муравьев (Карский) Николай Николаевич–8, 10–12, 16, 57–72, 82,
83, 149, 188–189, 556, 559, 563, 567.
Муравьев Петр Семенович – 83–86.
Муравьев, статс-секретарь–201.
Муравьев-Апостол Иван Матвеевич–332, 335–336, 338, 345, 350,
409, 574.
Муравьев-Апостол Ипполит Иванович –334, 343, 574.
Муравьев-Апостол Матвей Иванович–12, 61, 63, 74, 78–79, 121,
332, 334, 341–343, 348, 351, 371, 388, 390, 397, 405, 554, 556.
Муравьев-Апостол Сергей Иванович–63, 74, 332, 334, 339, 341, 343,
348, 350–351, 355, 359–360, 390, 429, 431–432,556, 574–575, 585.
Муравьева (урожд. Чернышева) Александра Григорьевна –404.
Муравьева Александра Михайловна –62.
Муравьева Екатерина Захаровна – 311, 557, 573.
Муравьева (урожд. Колокольцева) Екатерина Федоровна–78, 138,
495, 496, 563.
[609]
Муравьева Елизавета Карловна –78.
Муравьева (урожд. Чернышева) Наталия Григорьевна –68.
Муравьева Наталия Николаевна –63.
Муравьева София Николаевна–157.
Муравьева (урожд. Ахвердова) София Федоровна –63.
Муравьевы–57–60, 63, 155, 188–189.
Муромцев, генерал –545.
Муромцев, родственник Н. Н. Муравьева –97–98.
Муханов Петр Александрович –355, 402.
Муханов Сергей Ильич –47, 56, 555.
Мухин, генерал-квартирмейстер–89, 91.
Мысловский Петр Николаевич –402, 576.
Мюрат Иоахим–115, 118, 164, 168, 262, 562, 564, 566, 570.
Мятлев Иван Петрович – 585.
Мятлева (урожд. Салтыкова) Прасковья Ивановна–446, 585.
Набель, генерал –378.
Наполеон I–10–12, 24–26, 93, 96, 106, 110, 114–115, 134, 140,
142, 145–147, 150–151, 156, 159–168, 175–180, 211, 216, 218,
261–265, 268–269, 301, 316, 333, 390–391, 460–461, 464, 494,
502–504, 529–530, 536, 539, 549–551, 553, 555, 557, 559–566,
569–571, 584, 586.
Нартов Андрей Андреевич –483, 590.
Нарышкин Александр Львович –462, 479, 587.
Нарышкины–187, 463.
Нассау, принц–59.
Неверовский Дмитрий Петрович – 98, 553, 561.
Невшательский, принц–167.
Ней Мишель–147, 564.
Нейгарт Павел Иванович –109.
Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович–518, 528, 531, 542–
543, 592, 594.
Нессельроде Карл Васильевич – 299–300, 311, 572.
Нечаева Вера Степановна – 524, 593.
Нечкина Милица Васильевна –60, 72.
Никитин, обер-секретарь –408.
Николай I –15, 53, 68–70, 173, 201–202, 349, 354, 362–364, 367,
378, 381, 388, 392, 395–397, 401–402, 408–410, 413–419, 423,
427–432, 434, 557, 566, 575, 578, 579–580, 584.
Новиков Василий–131.
Новиков Николай Иванович – 242, 467, 588.
Новосильцев Николай Николаевич –274, 279, 530, 571, 593.
[610]
Оболенская (урожд. Нелединская-Мелецкая) Аграфена Юрьевна –
542–543, 594.
Оболенская Екатерина Андреевна – 537–539, 548, 593-594.
Оболенская (в замуж. Дохтурова) Мария Петровна –594.
Оболенская (в замуж, Михайлова) Наталия Петровна–538, 594. Оболенская (урожд. Гагарина) София Павловна –543, 594.
Оболенские –536, 540–542, 544.
Оболенский Александр Петрович –542–543, 594.
Оболенский Андрей Петрович –543–546, 594.
Оболенский Василий Петрович –543, 594.
Оболенский-Нелединский-Мелецкий Д. А.–594.
Оболенский Евгений Петрович–250, 359, 371, 387, 404, 407–409,
412-413, 419, 424, 576, 580.
Оболенский Петр Александрович –536–537, 594.
Обольянинов Петр Хрисанфович –32, 530, 553.
Обольяниновы –45.
Огарев Николай Платонович –255, 257.
Одоевский Александр Иванович–408, 414–415, 580.
Одоевский Владимир Федорович –581.
Ожаровский Адам Петрович –153–154, 564.
Оже Ипполит–12, 16, 209–212, 437, 560, 568–569.
Озеров Владислав Александрович –464–465, 476, 587, 593.
Озерской, поручик –90.
Оксман Юлиан Григорьевич –574-575.
Оленин Алексей Николаевич–121, 486, 498–500, 503, 514, 562, 591.
Оленина (урожд. Полторацкая) Елизавета Марковна–500–501,
Ольденбургский Георг –543, 594.
Оржитский Николай Николаевич –433, 585.
Орлик Ольга Васильевна–11, 19.
Орлов Алексей Григорьевич –58.
Орлов Алексей Федорович–68, 118, 292, 413, 426, 431, 554, 562, 572,581.
Орлов Григорий Федорович–118.
Орлов Михаил Федорович–13, 90, 118, 143, 175–176, 242, 245, 247,
274–275, 292, 324, 426, 521, 541, 558, 562–563, 571–573, 592.
Орлов Федор Федорович–118.
Орлов-Денисов Василий Васильевич–144, 176, 563.
Остейн Иоганн Фридрих Карл Максимилиан –529, 593.
Остерман-Толстой Александр Иванович–91, 106, 113, 558.
Оуэн Роберт –327.
Очкин Ампий Николаевич –427, 584.
[611]
Павел 7 – 5–8, 15. 21–23, 29–39, 41–48, 50–55, 158, 171–172, 187, 200–201, 242, 247, 318, 380, 445–446, 452–453, 458–459, 466– 469, 472, 487–489, 520, 531, 540, 552–556, 566, 568, 573, 577. 579, 585–587, 589, 594.
Пален Петр Алексеевич – 7, 21–23, 29–30, 32–35, 38–39, 45, 53, 55–56, 445, 552–553.
Панин Никита Иванович –552.
Панин Никита Петрович –29–30, 279, 552–553, 572.
Панов Николай Алексеевич–414–416, 419, 582.
Паперно Ирина Ароновна –44.
Паренсов, полковник–192–193.
Парни Эварист Дезире де Фореш – 217, 482, 568.
Паскевич Иван Федорович–58, 68, 107.
Пассек Петр Богданович –380, 579.
Паулуччи Филипп Осипович–92, 178, 558-559.
Пашкевич Василий Алексеевич-–587.
Перовский Василий Алексеевич – 61, 78, 132, 161, 557.
Перовский Лев Алексеевич – 61, 78, 79, 154–155, 557, 564.
Пестель Владимир Иванович –430, 584.
Пестель Иван Борисович –430, 584.
Пестель Павел Иванович–249, 254, 255, 326–328, 330, 342, 353– 355, 359–361, 370, 420, 429–430, 574, 583–584.
Петр I –29, 82, 232, 430, 446, 489, 533–534, 578, 593.
Петр III – 7, 380, 578.
Петр, слуга М. Н. Муравьева–86, 148, 150.
Петрищев, кавалергард –96.
Петров Василий Петрович –526, 587.
Пистолен-Корс В. В.–412, 581.
Платов Матвей Иванович–92, 96, 108, 116, 146, 559.
Плещеев Александр Алексеевич –520, 592.
Плещеев Сергей Иванович – 544, 594.
Плутарх –67.
Поджио Александр Викторович–9, 14–16, 352–358, 576–578.
Поджио Варвара Александровна – 356.
Поджио Виктор –352.
Поджио (урожд. Смирнова) Лариса Андреевна –356.
Поджио Осип (Иосиф) Викторович–352–353, 371, 575.
Подушкин Егор Михайлович–381, 427–428, 579.
Полевой Николай Алексеевич –586.
Полетика Петр Иванович–514, 527, 592.
Поливанов Иван Юрьевич –366, 577.
[612]
Полторацкий Константин Маркович –7.
Полторацкий Марк Федорович – 501, 59/.
Понятовский Станислав Август –563.
Попова О.–358.
Потапов Алексей Николаевич –362, 577.
Потемкин Григорий Александрович –58, 552.
Потемкин Сергей Павлович–466, 481, 588.
Потоцкий Северин Осипович–282, 296, 313, 318–319, 572.
Прасковья Федоровна –82.
Протасова (урожд. Бунина) Екатерина Афанасьевна–519.
Птолемеи – 528, 593.
Пуансине де Сиври Луи –449, 586.
Пустрослев Петр Александрович–127, 129–130.
Пугачев Владимир Владимирович –260.
Пугачев Емельян Иванович –380.
Пушкин Александр Сергеевич–5–6, 9, 13, 57, 59, 63, 245–247, 253,
391, 394, 435–438, 443, 490, 494, 504, 516, 521, 553–554, 559,
566, 587–588.
Пушкин Алексей Михайлович –493, 591.
Пушкин Василий Львович–242, 448–449, 469–470, 490, 493, 516,
518, 586, 589.
Пушкина Капитолина Михайловна–448, 586.
Пущин Иван Иванович–63, 355, 404, 408, 411–412, 414, 416, 418–
419, 423, 580.
Пфуль Карл Людвиг Август–178, 566.
Раевский Владимир Федосеевич–13.
Раевский Николай Николаевич – 92, 98–99, 105, 107–110, 115–
116, 118, 120–121, 123–124, 127, 135, 137, 139, 332, 343–344,
347, 350, 354, 362, 562–563.
Разин Степан Тимофеевич –380.
Разумовский Алексей Кириллович–132, 484, 590, 592.
Разумовский Лев Кириллович –544, 594.
Расин Жан –448, 466, 588, 591.
Рембрандт Харменс ван Рейн–481.
Рененкампф, подпоручик – 151.
Ренье Жан Луи–150, 564.
Репин Николай Петрович–412, 416, 427, 581.
Репнин Николай Григорьевич –332, 344, 346, 574.
Рибас де Осип (Иосиф) Михайлович –29, 352, 552.
Рибопьер Александр Иванович –553.
[613]
Ривароль Антуан–485, 590.
Римский-Корсаков Александр Михайлович – 46, 554–555.
Ришелье Арман –352.
Робеспьер Максимилиан Мари Исидор – 468.
Рожнецкий Александр Александрович –529, 593.
Розанова Зоя Ивановна – 552.
Розен Андрей Евгеньевич–356, 410, 416, 580.
Ростовцев Яков Иванович –409, 580.
Ростопчин Федор Васильевич–131–132, 168, 171, 179, 264–268, 530,
545, 550–551, 562, 565, 570–571.
Ростопчина (урожд. Сушкова) Евдокия Петровна–442.
Роткирх Антон Антонович –82–83.
Румянцев Николай Петрович –262, 282, 530, 570, 593.
Румянцев-Задунайский Петр Александрович –58, 570.
Руссо Жан Жак –8, 57, 61, 75, 78, 373, 557.
Рылеев Кондратий Федорович – 246, 250, 360, 407–413, 416, 421–
423, 426, 432, 580–581, 583–585.
Саблуков Александр Александрович–37–41, 49.
Саблуков Александр Ульянович –37.
Саблуков Николай Александрович–7–9, 16, 37–44, 50, 60, 151, 554,
556, 564, 567–568.
Саблукова (урожд. Волкова) Екатерина Андреевна –40.
Саблукова (урожд. Ангерштин) Юлиана –43.
Сазонов, капитан –89.
Салтыков Александр Николаевич–319, 518, 573.
Салтыков Иван Петрович–445, 585.
Салтыков Михаил Александрович – 518, 592.
Салтыков Николай Иванович – 22, 573.
Салтыков Петр Семенович – 446, 585–556.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович – 22.
Салтыкова, графиня – 446.
Сапрыкина Н. Г.– 443–444.
Сарториус Георг Вальтерсгаузен фон – 288, 572.
Свечников, поручик – 378.
Свистунов Петр Николаевич – 416, 582.
Святополк-Четвертинский Б.– 553.
Святополки – 482.
Себастиани Орас де ла Порта – 168, 565.
Северин Дмитрий Петрович –515, 517, 592.
Северин Петр Иванович – 515.
[614]
Сегюр Филипп Поль де– 176, 446, 566, 586.
Семенова Екатерина Семеновна – 464, 587–588.
Сен-При Эммануил Францевич– 157, 564.
Сенявин Алексей – 61, 79.
Сенявин Дмитрий Николаевич– 187.
Серафим (Глаголевский С. В.), митрополит –417, 440, 583.
Сивере, граф–137.
Скалон Василий Антонович – 330.
Скалон (урожд. Капнист) Софья Васильевна – 9, 16, 329–331,
574–575.
Скарятин Яков Федорович – 55, 556.
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич – 447, 586.
Скотт Вальтер – 536.
Соболевский Н. И.– 569.
Соболевский Сергей Александрович – 436.
Соковнин – 380.
Соколовский Ян – 378.
Сперанский Михаил Михайлович – 315, 320–322, 365, 409, 430, 460,
499, 518, 556, 559, 573, 584, 592.
Спиридов Михаил Матвеевич – 359, 371, 576.
Сталь Анна Луиза Жермена де – 273, 494, 571.
Станевич Евстафий Иванович – 481, 589.
Стаховский, пан – 89.
Степан – 49.
Степанов, капитан – 432.
Стрекалов Степан Степанович – 367, 428, 577.
Строганов Александр Сергеевич – 487, 498, 590.
Строганов, барон – 75.
Стюллер (Стюрлер) Николай Карлович – 414–415, 582.
Суворов Александр Васильевич–12, 21, 25, 46, 58, 158, 171–172,
187, 352, 398, 477, 554–555, 571, 591.
Сукин Александр Яковлевич – 359, 367, 396, 428, 576.
Сулима, капитан – 73.
Сумароков Александр Петрович – 450, 464.
Сумароков Панкратий Платонович – 458, 587.
Сумароков Сергей Павлович – 412, 581.
Сутгоф Александр Николаевич – 414, 416, 419, 582.
Сухозанет Иван Онуфриевич – 419, 553.
Сухтелен Павел Петрович – 7.
Сухтелен Петр Корнилович – 494, 498–499, 591.
Сухтелен Руф Корнилович – 498.
Сысоев Василий Алексеевич – 108, 561.
[615]
Тальма Франсуа Жозеф – 223, 462, 569.
Талызин Петр Александрович – 33, 35, 45–46, 553.
Тараканова, княжна –431.
Тарасова В. М.– 260.
Татаринов И. М.–34, 556.
Татищев Александр Иванович – 361, 576.
Телль Вильгельм – 467.
Теннер, капитан – 90, 98.
Теплое Григорий Николаевич – 380, 579.
Тиверий (Тиберий) – 434, 585.
Тимирязев Ф. И,– 567.
Толстой Петр Александрович – 175, 566.
Толстой Петр Андреевич – 407, 566.
Толстой, городничий– 123.
Толь Карл Федорович –97–98, 101, 103–104, 118, 135–136, 144,
154, 178, 561.
Тончи Сальватор – 46, 554.
Торвальдсен Бертель – 550, 595.
Тормасов Александр Петрович – 49–50, 51–52, 92, 102, 150, 154,
555, 558.
Тредиаковский Василий Кириллович – 452, 517.
Трескин Николай Иванович – 144, 430, 584.
Троцкий И. М.– 579–582.
Трощинский Дмитрий Петрович – 336–338, 342–343, 553.
Трубецкая (урожд. Лаваль) Екатерина Ивановна – 404.
Трубецкая Елизавета – 474.
Трубецкие – 474.
Трубецкой Сергей Петрович –63, 252, 282–283, 359, 371, 390–391, 407, 418–419, 423, 429, 572, 583. Трубецкой Василий Сергеевич – 90.
Тулубьев Александр Никитич – 416, 582.
Тургенев Александр Иванович – 19, 242–244, 251, 253–256, 466, 482, 490, 498, 588, 590–591. Тургенев Альберт Николаевич – 256.
Тургенев Иван Петрович – 242, 244, 466–467, 588.
Тургенев Иван Сергеевич – 259, 424–425. Тургенев Николай Иванович–10, 14–16, 241–260, 314, 392–393,
438, 482, 507, 513, 569, 573–574, 588.
Тургенев Петр Николаевич – 256, 258.
Тургенев Сергей Иванович – 242, 248–249, 251, 253–254, 260.
[616]
Тургенева (урожденная Качалова) Екатерина Семеновна – 242,
247, 251.
Тургенева (урожд. Гиарис) Клара –256.
Тургенева Фанни Николаевна – 256.
Тургеневы – 242, 249, 254, 260.
Тутолмин Иван Васильевич– 168, 281, 565, 572.
Тучков Николай Алексеевич –91, 107, 123, 558.
Уваров Сергей Семенович – 507, 510–513, 515–516, 521, 592.
Уваров Федор Александрович – 96, 219, 225, 234, 560, 569.
Уваров Федор Петрович –33, 50, 90–91, 93, 108, 116, 553–554.
Уварова (урожд. Лунина) Екатерина Сергеевна – 96, 219, 223, 229,
232, 234–235, 560.
Удинцова, панна – 90.
Урусов Александр Васильевич – 75–76, 77, 126–127, 129–131, 133,
556.
Урусов Петр Васильевич – 76.
Уткин Николай Иванович – 443.
Ушаков Николай Васильевич – 48, 50–51, 555.
Ушаковы – 53.
Федоров В. М.– 451.
Федоров, полковник –106.
Ферье – 144.
Фигнер Александр Самойлович– 11, 139, 140–141, 143.
Фидий – 492, 591.
Филанджиери Гаэтано – 287, 373, 572.
Филарет – 407, 579.
Филатьев – 52.
Филис Андриэ – 505, 591.
Фок Александр Александрович – 430, 584.
Фок Александр Борисович – 7, 552.
Фомка, кучер – 84–85.
Фонвизин Денис Иванович –451, 461, 525, 593.
Фонвизин Михаил Александрович–13, 23, 67, 391, 555-556.
Фонвизина Наталия Дмитриевна – 404.
Фонтан (Фонтенель Бернар Ле Бовье де) – 482, 589.
Франклин Бенжамин – 467.
Фридрикс Петр Андреевич – 411, 580.
Фридрих И. П.– 158.
Фуль К. А.– 565.
Фурье Франсуа Мари Шарль – 327.
[617]
Хватов, полковник – 73.
Хвостов Дмитрий Иванович – 452, 465, 477–479, 481, 487, 586, 588.
Хвощинский, полковник – 411.
Хемницер Иван Иванович – 529.
Херасков Михаил Матвеевич – 466, 469, 476, 525.
Хитрово Николай Федорович – 46, 52, 554.
Хомутов, подпоручик– 126.
Хомутова Анна Григорьевна – 542, 594.
Хомяков Алексей Степанович – 589.
Храповицкий, генерал– 117.
Хрущева (урожд. Муравьева-Апостол) Анна Ивановна – 341.
Цветаева Марина Ивановна– 10.
Цебриков Николай Романович – 9, 15–16, 421–425, 583–584.
Цебриков Роман Максимович – 422.
Цезарь Гай Юлий – 23.
Цейтлин Александр Григорьевич – 583.
Чаадаев Михаил Яковлевич – 394.
Чаадаев Петр Яковлевич – 252, 388, 394, 400, 439–441.
Чарторыйский Адам – 274, 553, 571.
Чевкин Александр Владимирович – 416, 582.
Чевкин К. В.– 582.
Черкасов Павел Петрович– 148, 151, 153–155,
Черкасов Николай Петрович – 137.
Чернышев Александр Иванович– 15, 27, 301, 361–362, 366, 420, 427,
432–434, 572, 577, 578.
Чернышев Захар Григорьевич – 68, 420.
Чернышев Иван Григорьевич – 520, 592.
Чернышева Анна Ивановна – 520.
Чернышевы – 446.
Чижов Николай Александрович – 411, 580.
Чихачев – 433.
Чичагов Павел Васильевич – 92, 102, 150, 559, 564.
Шаликов Петр Иванович – 441, 472–473, 586.
Шапошников Петр Федорович – 466, 481, 588.
Шарльмон, ротмистр – 118.
Шаслу – 146.
Шатобриан Франсуа Рене де – 216, 482, 568.
Шатров Николай Михайлович – 467, 588.
[618]
Шаховской Александр Александрович – 402, 451, 455, 462, 465–466, 476, 479, 484, 503, 505–510, 512, 513, 528, 586–587, 592.
Шварц Ф. Е.– 573.
Шварценберг, князь – 564.
Шевич, капитан – 124–125.
Шевырев Степан Петрович – 520, 592.
Шекспир Уильям – 473.
Шеншин Василий Никанорович – 407, 411, 580.
Шер – 84–85.
Шервуд Иван Васильевич – 420, 532–533, 583.
Шереметева Надежда Николаевна – 394, 398, 401–402.
Шереметева – 193.
Шереметевы – 388, 395.
Шефлер, подполковник – 73–74.
Шильдер Николай Карлович – 572.
Шипов Сергей Павлович – 415, 582.
Шихматов (Ширинский-Шихматов) Сергей Александрович – 526, 593.
Шишацкий Варлаам – 570.
Шишков Александр Семенович – 179, 454–455, 476, 480–485, 497, 499, 504, 517, 566, 590.
Шлецер Август Людвиг – 485, 590.
Штейбель – 218.
Штейн Генрих Фридрих Карл – 271, 300, 571.
Штенгель Фаддей Федорович – 92, 559.
Штрайх С. Я.– 405, 574.
Шуазель Эдуард – 213.
Шубин, купец – 183.
Шувалов Павел Андреевич – 91, 558.
Шуйский Василий – 586.
Шульгин В.– 183, 189–191.
Шуйский, сын Аракчеева – 206.
Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович – 410–412, 580.
Щербатов Александр Федорович – 540, 594.
Щербатов Алексей Григорьевич – 542, 594.
Щербатова Анна Андреевна – см.: Блудова А. А.
Щербатова (урожд. Оболенская) Варвара Петровна – 541, 594.
Щербатова (в замуж. Дмитриева-Мамонова) Дарья Федоровна – 540, 594.
Щербатова (урожд. Вяземская) Екатерина Андреевна – 542.
Щербатова Мария Андреевна – 502.
[619]
Щербинин Александр – 90, 97–98, 104, 111,
Эбле, генерал – 564.
Эгмонт Ламораль – 467, 588.
Эйдельман Натан Яковлевич – 7, 19, 24, 28, 212, 552–553, 568–569.
Эйлер Александр Христофорович – 107, 561.
Эйхен Федор Яковлевич – 135.
Энгельгардт П. И.– 264.
Энгельс Фридрих – 20–21, 25–26, 28.
Эртель Федор Федорович – 92, 559.
Эссен Петр Кириллович – 92, 559.
Юзефович Дмитрий Михайлович– 138.
Юнг Эдуард – 589.
Юнг, подпоручик–.128–129, 139.
Юрковский Анастасий Антонович – 148–150, 564.
Языков Дмитрий Иванович – 485, 590.
Яков I Стюарт – 577.
Яковлев Алексей Семенович – 451–452, 586.
Якубович Александр Иванович – 66, 359, 367, 375, 407, 410–411, 417,
576.
Якушкин Вячеслав Иванович – 395, 397, 399, 404.
Якушкин Дмитрий Андреевич – 387.
Якушкин Евгений Иванович – 394, 397, 399, 404.
Якушкин Иван Дмитриевич – 9–10, 14–16, 63, 250, 387–405, 433, 579, 580–581, 582.
Якушкина (урожд. Шереметева) Анастасия Васильевна – 394–395, 397–398, 401–405.
Якушкина (урожд. Станкевич) Прасковья Филагриевна – 387–388.
Якушкины – 395.
Яшвиль Владимир Михайлович – 34, 556.
Яшвиль, генерал – 34.



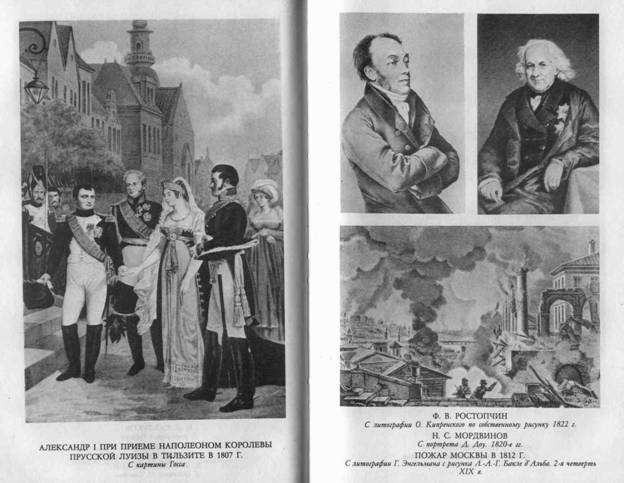



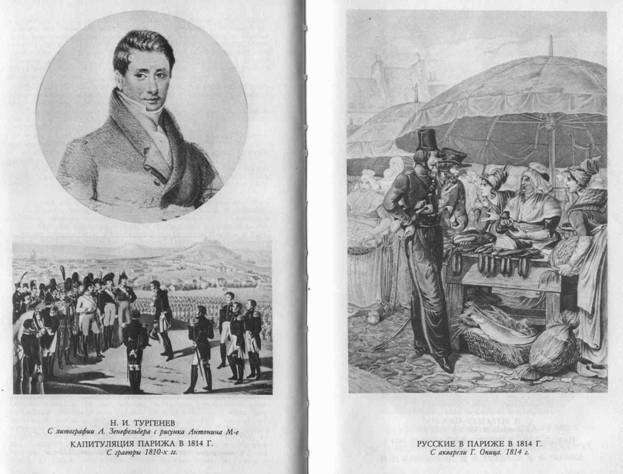
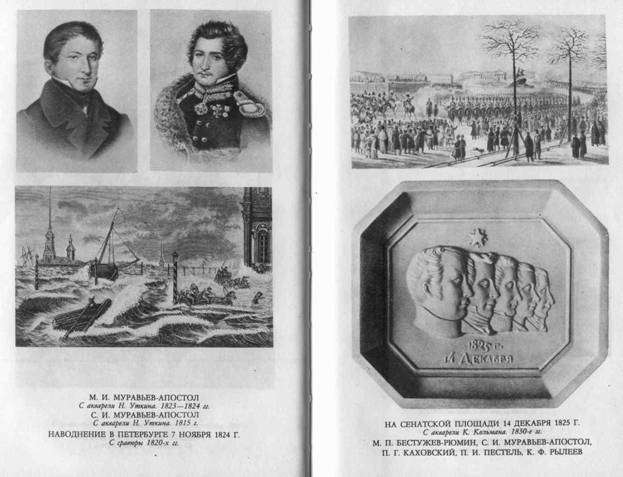
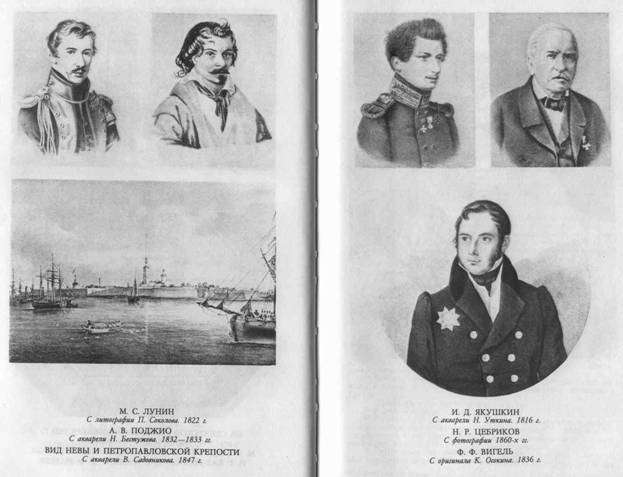
Русские мемуары. Избранные страницы. 1800– 1825 гг. /Сост., вступ. ст. и прим. И. И. Подольской; Биогр. очерки В. В. Кунина и И. И. Подольской – М.: Правда, 1989.– 624 с.
Первая четверть XIX столетия – один из самых значительных и замечательных периодов русской истории. Образ эпохи, ее атмосфера, исторический и нравственный облик, люди, оставившие яркий след на страницах истории того времени,– со всем этим познакомит читателя сборник «Русские мемуары». В книгу вошли фрагменты из записных книжек П. А. Вяземского, записки декабристов А. В. Поджио, И. Д. Якушкина, Н, Р. Цебрикова, ряд других интересных материалов.