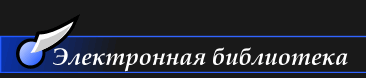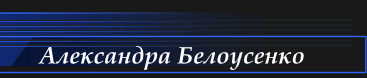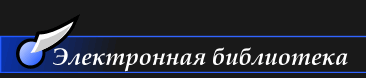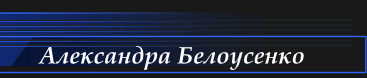Произведения:
Сборник "Мама на войне. Рассказы" (1976, 127 стр. / Сост. и предисл. О. Ласунского; Рис. В. Гальдяева) (pdf 2,7 mb) – май 2024
– копия из библиотеки "Maxima Library"

В эту книгу включены рассказы писательницы В. И. Дмитриевой (1859-1947), известной детскому читателю по рассказу «Малыш и Жучка».
(Аннотация издательства)
Содержание:
О. Ласунский. В. И. Дмитриева и её герои ... 3
Малыш и Жучка ... 14
Волчонок ... 37
Мама на войне ... 70
Больничный сторож Хвеська (Из заметок земского врача) ... 103
Повесть "Пчёлы жужжат" (1988) (html 261 kb) – ноябрь 2009
– OCR: Давид Титиевский (Хайфа, Израиль)

Фрагменты из повести:
"Деревня Сарафановка находилась всего в полуверсте от Устьинского монастыря, и монастырский луг вплотную подходил к сарафановским гумнам, на которых давно уже никто не видел ни скирда хлеба, ни омёта соломы, никаких запасов, указывающих на то, что здесь живут «хозяйственные мужички». Везде было пусто, голо и неприютно; всё до последнего зерна, до последней былинки соломы съедалось задолго до нови, а остальное время Сарафановка ела самоё себя, то занимая кое-где под рабочие руки, то побираясь Христовым именем. Как убогая старушка, сидела она при дороге и скорбно глядела на прохожих и проезжих подслеповатыми окнами своих взлохмаченных, развалившихся изб, ничего не прося, ни на кого не жалуясь. И когда прохожий или проезжий прямо из земных тенистых рощ Устьинского монастыря, миновав цветущие широкие монастырские луга, попадал на серую, пустынную улицу Сарафановки, по которой с голодным хрюканьем бродили два или три свиных скелета, – на него нападала оторопь и он спешил поскорее пройти или проехать мимо этого страшного обиталища голода и нищеты. Но, отойдя, он долго ещё оглядывался назад и, видя на безмятежной синеве горизонта тёмную кайму леса вперемежку с зелёным бархатом лугов, начинал думать, что всё это ему приснилось... до того странно было появление голодного призрака среди зелёного приволья лесов и лугов!.."
* * *
"Губернатор был занят чрезвычайно важным делом: он сидел в гостиной своей супруги, председательницы дамского комитета попечения о раненых и больных воинах, и решал затруднительный вопрос о том – можно ли вязать солдатские шлемы из красной шерсти или нет? Дело в том, что купец Севрюгин пожертвовал в комитет несколько фунтов красной берлинской шерсти, и дамы, члены комитета, находились теперь в большом затруднении – что делать с этой шерстью? Некоторые дамы советовали шерсть продать, а на вырученные деньги приобрести мыла и махорки; другие находили, что продавать пожертвованную вещь как-то неудобно; наконец, одна из них, m-me Маевская, предложила связать из шерсти шлемы, и все решили, что это будет очень мило и чрезвычайно практично. Дамы уже взяли себе по мотку, но тут вдруг явился неожиданно вопрос: подходит ли красная шерсть для солдатских шлемов, которые вяжутся обыкновенно из серой, и вообще прилично ли русскому солдату носить такие яркие цвета? На совещание был приглашён сам губернатор."
* * *
"Губернатор подошёл и остановился; мужики молча и как будто нехотя сняли шапки. Но этого губернатору показалось мало: глаза его мгновенно налились кровью, глотку перехватило, и он неистово закричал, приправляя каждое слово своё отвратительной руганью, которую считал необходимой в сношениях с «простым народом».
– На колени, такие-сякие, разэтакие!.. Я вас!.. Вы у меня!..
К его удивлению, вся эта безмолвная, серая и, по-видимому, покорная толпа только слегка всколыхнулась, но никто не тронулся с места. Скверные, бессмысленные слова, сыпавшиеся из уст такого важного и пожилого человека в генеральской шинели, поразили мужиков; они переглянулись и сурово потупились. Застыдился даже становой и скромно отвернулся в сторону, делая вид, что не слышит; стражники, возившиеся около розог, подняли головы и разинули рты от изумления. А губернатор, топая ногами и брызгаясь слюной, продолжал выкрикивать:
– Разбойники, хамы, бунтовщики!.. На колени, вам говорят, мерзавцы... Запорю!.. Перевешаю! Расстреляю!..
И опять скверная, подлая, бесстыдная брань, которой всякий порядочный крестьянин совестится даже в пьяном виде, зловонной грязью разлилась над чистыми зелёными полями, заглушая радостное щебетание жаворонков."
Страничка создана 8 ноября 2009.
Последнее обновление 2 мая 2024.