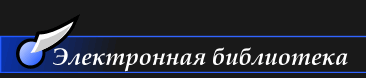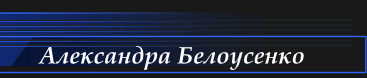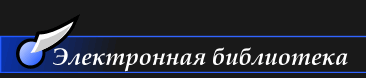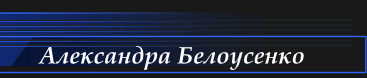Произведения:
Сборник "Повести и рассказы" (1962, 391 стр.) (pdf 11,5 mb) – апрель 2024
– копия из библиотеки "ImWerden"
Особенность творческой биографии Соллогуба – быстрый взлёт и такой же быстрый закат его литературной славы – объясняется бурным развитием реализма в русской литературе 40-х годов. В произведениях, созданных им в момент подъёма демократического движения, затрагивались насущно важные вопросы русской жизни. Правдивость, современность и гуманизм повестей Соллогуба включают их в то главное прогрессивное русло, по которому шло развитие русской литературы 40-х годов. Для нас дороги те произведения Соллогуба, о которых Белинский писал, что они «согреты тёплым чувством любви и проникнуты благородством мысли».
(Из предисловия Е. Кийко)
Содержание:
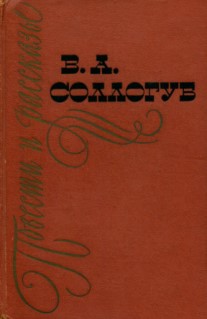
Е. Кийко. В. А. Соллогуб ... 3
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Серёжа. Лоскуток из вседневной жизни ... 17
История двух калош ... 38
Аптекарша ... 83
Собачка ... 134
Тарантас. Путевые впечатления ... 158
Метель ... 303
Старушка. Повесть ... 319
Примечания ... 380
Сборник "Повести. Воспоминания" (1988) (html 1,7 mb) – ноябрь 2006
обработка: Давид Титиевский (Хайфа, Израиль)
В истории русской литературы немного имён, вызывавших при жизни и после смерти столь разноречивые толки, как имя графа Владимира Александровича Соллогуба (1813-1882).
После гибели Лермонтова Белинский ставил его на второе место среди современных писателей – сразу вслед за Гоголем. Через пятнадцать лет Добролюбов в язвительном памфлете будет уничтожать его литературную репутацию. Его будут причислять к либералам и консерваторам, к салонным беллетристам и демократической «натуральной школе», к романтикам и к реалистам. Во всех этих противоречащих друг другу суждениях есть своя доля истины.
Соллогуб жил и действовал в эпоху обострившихся противоречий – социальных и литературных и на грани двух сфер – аристократического общества и всё более демократизировавшейся литературы. И в жизни его, и в творчестве сказалась эпоха «промежутка». Он явился как писатель в то время, когда ранний русский реализм вызревал в недрах романтической школы, и по мере своих сил и дарования способствовал его становлению и укреплению. Его повести и рассказы не произвели революции в истории литературы, но заняли в ней прочное место – настолько прочное, что, говоря о предыстории русского классического реалистического романа, мы не можем обойтись без имени Соллогуба.
И хотя Соллогуб на самом взлёте своей писательской судьбы остановился и, продолжая свою жизнь в литературе до конца 1870-х годов уже по линии нисходящей, не вошёл в блестящую плеяду русских писателей-классиков второй половины XIX века, он неизменно привлекает к себе внимание читателя как действительно хороший прозаик: то, что он сделал в самый плодотворный его творческий период, не утратило своего художественного значения и по сие время.
(Из предисловия И. С. Чистовой)
Содержание:
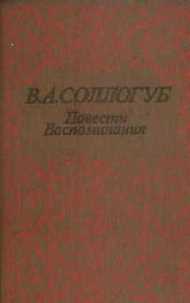
И. Чистова. Беллетристика и мемуары Владимира Соллогуба ... 3
ПОВЕСТИ
История двух калош ... 24
Большой свет ... 67
Аптекарша ... 142
Тарантас ... 191
Метель ... 328
ВОСПОМИНАНИЯ ... 343
Приложения
Из воспоминаний ... 547
Пережитые дни.
Рассказы о себе по поводу других ... 559
Комментарии
Примечания ... 628
Список условных сокращений ... 628
Именной указатель ... 689
Фрагменты из книги:
Соллогуб не просто боготворил Пушкина; он хорошо представлял себе то невыносимое для поэта положение, которое создалось к середине 1830-х годов, когда Пушкин, измученный опекой царя, людским злословием и мелочной житейской суетой, по существу был лишён возможности писать. Соллогуб, один из немногих современников Пушкина, сумел глубоко постигнуть суть трагедии последних лет жизни поэта и передать правдивый рассказ о ней будущим поколениям.
* * *
Когда Гнедич получил место библиотекаря при Императорской публичной библиотеке, он переехал на казённую квартиру. К нему явился Гоголь поздравить с новосельем.
– Ах, какая славная у вас квартира, – воскликнул он с свойственной ему ужимкою.
– Да, – отвечал высокомерно Гнедич, – посмотри на стенах краска-то какая! Не простая краска! Чистый голубец!
Подивившись чудной краске, Гоголь отправился к Пушкину и рассказал ему о великолепии голубца. Пушкин рассмеялся своим детским, звонким смехом, и с того времени, когда хвалил какую-нибудь вещь, нередко приговаривал: «Да, эта вещь не простая, чистый голубец».
Вообще, наши писатели двадцатых годов большею частью держали себя слишком надменно, как священнослужители или сановники. И сам Пушкин не был чужд этой слабости: не смешивался с презренною толпой, давая ей чувствовать, что он личность исключительная, сосуд вдохновения небесного.
* * *
Далее следовали комнаты для детей. Жизнь наша шла отдельно от жизни родителей. Нас водили здороваться и прощаться, благодарить за обед, причём мы целовали руки родителей, держались почтительно и никогда не смели говорить «ты» ни отцу, ни матери. В то время любви к детям не пересаливали. Они держались в духе подобострастья, чуть ли не крепостного права, и чувствовали, что они созданы для родителей, а не родители для них. Я видел впоследствии другую систему, при которой дети считали себя владыками в доме, а в родителях своих видели не только товарищей, но чуть ли не подчинённых, иногда даже и слуг. Такому сумасбродству послужило поводом воспитание в Англии. Но так как русский размах всегда шагает через край, то и тут нужная заботливость перешла к беспредельному баловству.
* * *
Александр Павлович Башуцкий рассказывал о подобном случае, приключившемся с ним. По званию своему камер-пажа он в дни своей молодости часто дежурил в Зимнем дворце. Однажды он находился с товарищами в огромной Георгиевской зале. Молодёжь расходилась, начала прыгать и дурачиться. Башуцкий забылся до того, что вбежал на бархатный амвон под балдахином и сел на императорский трон, на котором стал кривляться и отдавать приказания. Вдруг он почувствовал, что кто-то берёт его за ухо и сводит с ступеней престола. Башуцкий обмер. Его выпроваживал сам государь, молча и грозно глядевший. Но должно быть, что обезображенное испугом лицо молодого человека его обезоружило. Когда всё пришло в должный порядок, император улыбнулся и промолвил: «Поверь мне! Совсем не так весело сидеть тут, как ты думаешь».
* * *
Я не стану описывать восстание 14 декабря: всё, что можно было о нём сказать, давно уже сказано; да и хотя я был очевидцем происходившего, но был ещё слишком молод, чтобы хорошо понимать всё, что оно обозначало; могу сказать только одно, что, по мнению людей, истинно просвещённых и искренно преданных своей родине, как в то время, так и позже, это восстание затормозило на десятки лет развитие России, несмотря на полный благородства и самоотвержения характер заговорщиков. Оно вселило в сердце императора Николая I навсегда чувство недоверчивости к русскому дворянству и потому наводнило Россию тою мелюзгою фонов и бергов, которая принесла родине столько неизгладимого на долгое время вреда.
* * *
…потом Александра Степановна, предварительно глянув на меня, обратилась к юноше:
– Что же, Николай Васильевич, начинайте!
Молодой человек вопросительно посмотрел на меня: он был бедно одет и казался очень застенчив; я приосанился.
– Читайте, – сказал я несколько свысока, – я сам «пишу» (читатель, я был так молод!) и очень интересуюсь русской словесностью, пожалуйста, читайте.
Ввек мне не забыть выражения его лица! Какой тонкий ум сказался в его чуть прищуренных глазах, какая язвительная усмешка скривила на миг его тонкие губы. Он всё так же скромно подвинулся к столу, не спеша развернул своими длинными худыми руками рукопись и стал читать. Я развалился в кресле и стал его слушать; старушки опять зашевелили своими спицами. С первых слов я отделился от спинки своего кресла, очарованный и пристыженный, слушал жадно; несколько раз порывался я его остановить, сказать ему, до чего он поразил меня, но он холодно вскидывал на меня глазами и неуклонно продолжал своё чтение. Когда он кончил, я бросился к нему на шею и заплакал. Что он нам читал, я и сказать не сумею теперь, но я, несмотря на свою молодость, инстинктом, можно сказать, понял, сколько таланта, сколько высокого художества было в том, что он нам читал. Молодого этого человека звали Николай Васильевич Гоголь, и через несколько лет ему суждено было занять в отечественной литературе первое место после великого Пушкина.
* * *
На другой день отец повёз меня к Пушкину – он жил в довольно скромной квартире на ... улице. Самого хозяина не было дома, и нас приняла его красавица жена. Много видел я на своём веку красивых женщин, много встречал женщин ещё обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой тальей, при роскошно развитых плечах и груди, её маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные даже из самых прелестных женщин меркли как-то при её появлении. На вид всегда она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал её муж, она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но её женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в неё влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; её лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень молодых людей, которые серьёзно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно её даже не видевших!
* * *
Пушкин говорил отрывисто и едко. Скажет, бывало, колкую эпиграмму и вдруг зальётся звонким, добродушным, детским смехом, выказывая два ряда белых, арабских зубов. Об этом времени можно бы было ещё припомнить много анекдотов, острот и шуток. В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастие заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел, как я сказал выше, какое-то непостижимое пристрастие.
* * *
Я назвал только что Фёдора Ивановича Тютчева; он был одним из усерднейших посетителей моих вечеров; он сидел в гостиной на диване, окружённый очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моём веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, весёлое шуршанье дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам; он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но всё, всё это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева; я думаю, что главной прелестью Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания coulaient de source, как говорят французы; в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного.
* * *
Сын Дюма, Alexandre Dumas-fils, уже, с своей стороны, заслужил тогда известность своим романом «La Dame aux camelias», наделавшим в своё время много шума. Наружностью он много напоминал отца, но нравственно ни в чём не походил на него. Сдержанный до скрытности, осторожный и серьёзный, он рано понял, что в наше время ловко поднесённая публике литература является отличным способом наживать большие деньги. К отцу своему в то время, что я его знал, он относился почти что враждебно: он не мог ему простить, во-первых, нажитые и прожитые им миллионы, во-вторых, незаконность своего рождения, хотя отец усыновил его ещё с его детства. Он холодно обращался с лизоблюдами отца, насмешливо отзывался обо всём его обиходе, что не мешало ему, однако, просиживая у отца, постоянно иметь маленькую книжечку в кармане, в которую он тщательно вписывал каждое меткое слово, каждое удачное замечание.
* * *
Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нём получена гр(афом) В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история пугачёвского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крёстным отцом. Сюжет «Мёртвых душ» тоже сообщён Пушкиным. «Никто, – говаривал он, – не умеет лучше Гоголя подметить всю пошлость русского человека». Но у Гоголя были ещё другие громадные достоинства, и мне кажется, что Пушкин никогда в том вполне не убедился.
Повесть "Большой свет" (2000, 52 стр.) (pdf 374 kb) – апрель 2024
– копия из библиотеки "Litres.ru"
Страничка создана 16 ноября 2006.
Последнее обновление 14 апреля 2024.